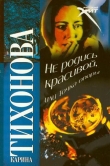Текст книги "Бабушкина внучка"
Автор книги: Нина Анненкова-Бернар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
– Бабушка, посиди со мной!
– Охотно, моя крошка.
Марья Львовна и сама хотела поговорить с Ненси о щекотливом и необходимом предмете.
– Бабушка, знаешь, мне очень всех жалко, – сказала Ненси, улыбаясь печальной улыбкой.
Такой оборот разговора был неожидан для Мкрьи Львовны.
– Как жалко?.. Кого?.. Зачем?..
– Да всех, всех… и тебя, и маму… и всех. Я сама не знаю: мне весело и жалко всех.
«Ну, это все те же фантазии, – внутренно успокоилась Марья Львовна. – Ее время пришло – это ясно». – Ненси, моя крошка… – начала она нежно.
– Ах, бабушка, знаешь что?.. – перебила ее Ненси:– я часто думаю: отчего я не жила в средние века, когда были трубадуры и рыцари, когда бились на турнирах и умирали за своих дам! Как это было чудно!.. А этот дом, где мы живем теперь… знаешь, ведь он тринадцатого века; мне рассказывала Люси, – он был разрушен и его опять построили. Подумай: здесь жил какой-нибудь владетельный барон; он уезжал в походы, его жена стояла на верху башни и ждала его возвращения. А там, внизу, стоял влюбленный трубадур и пел ей о любви…
Марья Львовна сама увлеклась нарисованной девочкою картиной.
– Поверь мне, крошка, рыцари и дамы остались все теми же, какими они были в средние века – изменили только одежду; но пока мир живет – история любви одна и та же.
– Ах, нет, нет, нет! Теперь никто не бьется, не умирает, не похищает своих дам и никто не поет под балконами песен. А потом одежда… Если бы я была царица, я всем бы приказала одеваться опять рыцарями, а дам я всех одела бы в костюмы времен Людовика XV… А, знаешь, кем бы я хотела быть сама? Марией-Антуанеттой… Ах, как я ее люблю! Такая тоненькая, тоненькая, такая изящная…
– Ты будешь лучше, чем Мария-Антуанетта… Ненси, дитя, послушай, что я тебе скажу сейчас… Ты только молчи и слушай внимательно.
Ненси пытливо и с любопытством смотрела на видимо взволнованную бабушку.
– Вот видишь, Ненси, ты и сама не понимаешь; но во мне говорят опыт и любовь к тебе. Ты уже становишься взрослой, ты созреваешь, моя родная, и скоро, быть может, очень скоро узнаешь любовь; но помни, крошка: это – царство женщины, и это же может стать ее погибелью. Женщина всегда должна властвовать, хотя бы путем хитрости, но никогда не подчиняться. Она должна повелевать. И ты, ты дай мне слово, если в тебе, при виде какого-нибудь мужчины, проснется что-то новое, с чем ты бороться будешь не в силах, – приди и скажи мне все, не утаивая.
Ненси засмеялась.
– О, бабушка, я уже была влюблена…
– Как?!..
– В моего учителя, в Париже. Я даже хотела убежать с ним, – таинственно прибавила Ненси. – А после отчего-то страшно стало. Я и раздумала.
Марья Львовна улыбнулась.
– Ну, это детские шалости… Может, Ненси, придти другое. Ты не стыдись, дитя: в этом – назначение женщины… Но ты приди и расскажи мне все. Это нужно не только для моего спокойствия, но и для твоего счастия… Слышишь?
– Хорошо, бабушка, – серьезно ответила Ненси.
– Ну, а теперь спи.
Марья Львовна перекрестила внучку и вышла, направляясь в комнате Сусанны. «Надо покончить, однако, с этой дурой», – подумала она.
Та, облекшись снова в свой розовый фуляр с кружевами, нетерпеливо ходила по комнате, поджидая мать.
Марья Львовна, войдя, опустилась в кресло.
– Итак, ты говоришь, что спустила все шесть тысяч.
– Да, maman, – робко ответила Сусанна.
«Опять сначала!.. – Она думала, что уже вопрос исчерпан, и мать приступит прямо в делу. – Нет, опять вопросы»!
– И как это тебя угораздило?
На языке Сусанны вертелся желчный упрек: «А как же вас, во время оно, угораздило спустить миллион?..» – Но она сдержалась.
– Что делать, maman, увлеклась.
Мать сердито метнула в ее сторону глазами.
– Делать нечего, – придется раскошеливаться.
– О, maman, вы были так добры – вы обещали…
– От слова не отказываюсь, но прошу помнить, что больше в этом году не дам ни копейки… pas un son![22]
«Ах, противная! ах, старая!.. – бесилась Сусанна. – Каков тон!»
– Maman, это большое несчастие – просить у вас денег сверх положенного, – но, уверяю вас, больше не повторится, – произнесла она с некоторым достоинством.– Je suis bien malheureuse moi-même…[23]
– Ну, ладно. Так я тебе дам сейчас чек на три тысячи…
Глаза Сусанны стали совсем круглыми от испуга. Марья Львовна усмехнулась.
– Не бойся – это пока. Получишь в Crédit Lyonnais[24] здесь в Женеве, а остальные, когда приеду в Россию, переведу тебе в Париж или туда, где ты будешь обретаться, сейчас же… Или, впрочем, нет – бери, на все шесть тысяч и отстань.
Марья Львовна подписала чек и передала дочери. У Сусанны отлегло от сердца, и захотелось ей, в припадке веселости, пооткровенничать, похвастаться, позлить maman. Она была уверена, что и по сей день вызывала в матери былые завистливые чувства.
– Merci, ma bonne maman![25]– бросилась она в матери на шею и села рядом, взяв старуху за руку.
– Я вас люблю, maman, и мне так больно, больно, что вы… вы ненавидите меня…
– Совсем нет, – ответила Марья Львовна, глядя в сторону. – Но как-то так сложилась жизнь…
– А у меня всегда, всегда влечение к вам и мне всегда хочется поговорить, посоветоваться с вами в трудные и радостные минуты жизни, как теперь.
– Что же, я не прочь помочь советом – говори.
– Maman… ma bonne… J'aime!..[26]
Марью Львовну покоробило от этого признания. Сусанна вскочила и стала во весь рост перед старухой, точно актриса, которой стоя удобнее говорить монолог.
– Вы знаете, maman, когда я вышла замуж, j'étais trop jeune pour comprendre la vie…[27] Мой муж, – она презрительно повела плечами, – pour une jeune fille[28] совсем был неподходящая пара… même j'étais vierge longtemps, parole d'honneur![29]– прибавила она таинственно, – но он был рыцарь, это правда, он дал мне полную свободу: nous étions connue des amis[30] и… появление Ненси на свет – какой-то странный, слепой случай. Право!
– Ты спрашиваешь моего совета и перебираешь какие-то старинные истории, – нетерпеливо заметила Марья Львовна. – Если ты хочешь сказать мне что-нибудь о тайне рождения Ненси, то мне все равно, кто был ее отцом; quand même[31] – она мне внучка, и я ее люблю!..
– О, нет, нет, нет, maman! C'est sûr[32], она – его дочь. Как раз это совпало с тем временем, quand j'étais toute seule…[33] Но видите, к чему я это все говорю: я хочу развить последовательно… Вы знаете, maman, – произнесла она с хвастливо-циничной улыбкой, – qu'on m'aimait beaucoup, beaucoup…[34] и это ни для кого не секрет, напротив, c'est mon orgueuil!..[35] «L'amore e vita»!..[36] О, это чудное итальянское изречение!.. Des romans tristes[37] – я их не знала. Как только я видела, что дело идет к концу – я забастовывала первая, имея всегда в резерве un nouveau[38]… О, мужчины – ce sont des canailles![39] Их надо бить их же оружием, всегда наносить удар первой… Не правда ли, maman?
Она засмеялась звонко и резко, развеселившись сама не на шутку от этих воспоминаний.
– Но сейчас, сейчас, maman! – спохватилась она, заметив скучающее выражение на лице старухи. – То, что я хочу вам рассказать теперь, это – совсем другое. Вы понимаете, maman: когда возле глаз собираются лапки и на голове нет-нет да промелькнет седой волос… О, maman!.. – она вздохнула – наступает для женщины тяжелая, переходная пора. Что делать, надо ее пережить. Но если здраво, без предрассудков смотреть на вещи, – можно и эту пору прожить превесело!.. – Сусанна подмигнула как-то лукаво глазом и продолжала тем же цинично-откровенным тоном. – Искали нас, и мы должны искать; платили нам – и мы должны платить! И это даже справедливо: перемена декорации, а сущность та же. Не правда ли?
На лице Марьи Львовны выразилось глубокое презрение. Это подзадорило еще больше Сусанну в ее излияниях.
Она бросилась на мягкое кресло, откинув назад голову:
– И вот, maman, теперь j'aime[40] как никогда! Он юн, – ему всего двадцать лет – mais il comprend l'amour[41], как самый опытный старик… Он строен, гибок – это Аполлон, и он… il m'aime!..[42] О, maman, – потянулась она с нескрываемым сладострастием: – à certain âge, c'est si agréable![43]
– Развратница!.. – с зловещим шипением вырвалось из уст Марьи Львовны.
Сусанна не смутилась. Она повернула в матери насмешливое лицо и, усмехаясь, спросила:
– А вы, maman?
Марья Львовна встала негодующая и злобная.
– Ты… ты не смеешь так говорить со мной!.. Развратница! Развратница!.. Ты была там служанкой, где я царила!.. Ты в сорок лет дошла до унижения платить ее ласки какому-то проходимцу, – моих же добивались, а я в сорок лет, как в двадцать, была богиней!.. Меня искали, я снисходила, давая счастие; а когда пришла пора – ушла сама с арены, где царила полновластно; а ты…
Марья Львовна махнула презрительно рукой и, не договорив фразы, вышла из комнаты. Проходя мимо Ненси, она остановилась в раздумье над разнежившейся в постели девочкой… А Ненси мнились рыцари, трубадуры, дамы в пышных нарядах, Мария-Антуанетта, какою она изображена на портрете в Версале, и, зачем-то, тут же затесался художник-француз, дававший Ненси уроки в Париже. Ненси, помня наставления бабушки о преимуществе положения женщины, что-то приказывала французу, а он не слушался; это огорчало Ненси, и сон ее был тревожен. Она сбросила одеяло, разметавшись на постели. Бабушка, прежде чем прикрыть ее, остановилась в раздумье над изящной, тонкой фигуркой с точно изваянными ножками.
– Психея… совершенная Психея!.. О, что-то ждет ее в жизни?..
Марье Львовне вдруг пришло в голову, что эта Психея также в сорок лет станет «искать» и «покупать», как та презренная, что говорила сейчас. Она вся вздрогнула от негодования.
– О, нет! Она будет царицей и только царицей! На что же я подле нее?
Старуха бережно покрыла девочку одеялом и осенила крестом.
– Спи, крошка, спи, Христос с тобою!
IV.
Уже неделя, как Марья Львовна и Ненси – в деревне. Ненси скучает, а потому решили, посоветовавшись с доктором, провести зиму снова за границей. У Ненси не остыла страсть к рисованию, и она думает возобновить свои уроки живописи у парижской знаменитости. А здесь Ненси скучно, «ужасно скучно», и бабушка не знает, как и чем занять ее. Как-то утром, от нечего делать, бродя по пустынным комнатам большого старинного дома, Ненси забрела в библиотеку, где отыскала несколько интересных исторических книг на французском языке. Историю Ненси любила, и теперь у нее было занятие – по утрам она могла читать, но остальное время дня, по прежнему, тянулось скучно и однообразно.
– О, нет, пусть лучше меньше пользы для моего здоровья, но в Париж! в Париж!.. – твердила Ненси. – Тут даже и природы нет разнообразной – все луга, луга да лес… Ни холмика, ни горки…
Однажды вечером бабушка велела заложить кабриолет.
– Поедем покататься, Ненси.
– Отлично! Отчего тебе давно это в голову не пришло? Я буду сама править.
– Ну, хорошо, но грума мы все-таки возьмем.
Ненси быстро убежала и почти тотчас же вернулась, одетая в шляпку и толстые перчатки, вся пунцовая от нетерпения.
– Что уже, скоро?
– Да сейчас, сейчас!
Кучер Вавила, жирный, обленившийся старик, смотрел, однако, по-видимому, на дело несколько иначе и совсем не торопился, несмотря на слезные просьбы мальчика-грума, который, желая изо всех сил угодить барышне, молил его запрягать как можно скорее.
– Постой… постой, – медленно приговаривал Вавила, – не егози… Что поспешишь – людей насмешишь!..
– Вавила… – раздался, наконец, у конюшни нетерпеливый голос Ненси. – Я приду, право, сама помогать!
Вавила усмехнулся себе в бороду и покачал головой.
– Ишь ты, какая прыткая, что твой гренадер!.. Шустро-больно – поспеешь… Сей-ча-с, барышня! – протянул он, закидывая чересседельник.
Наконец запряжка была кончена, и кабриолет подкатил в крыльцу.
– Лошадь смирная? – спросила опасливо Марья Львовна.
– И-и-и… овца!.. – отвечал Вавила.
Ненси вскочила и ловко взялась за возжи. Бабушка уселась рядом, а сзади поместился грум, сын заведующего молочным хозяйством, черноглазый расторопный подросток Васютка. Он был грамотный, отлично учился в школе и, услыхав о приезде господ, сам побежал к управляющему просить, чтобы его сделали грумом.
Лошадь, потряхивая ушами, резво бежала по проселочной, хорошо накатанной дороге. Вправо и влево потянулись луга, с разбросанными кое-где деревьями: там стройный, высокий дуб стоит одиноко, подняв горделиво свою кудрявую голову; здесь, в стороне от него, близко лепясь одна в другой, молодые березки скучились небольшой рощицей и между ними завязалась злосчастная осинка, с вечно трепещущими, не знающими покоя листьями. За лугами пошли вспаханные поля. Какой-то запоздалый мужик, почти у самой дороги, допахивал на бурой, тощей клячонке свою полоску, спеша окончить долгий рабочий день. Навстречу кабриолету, поднимая целую тучу ныли, шла домой с поля скотина; пастух с длинным-предлинным кнутом и двое босых мальчишек-подпасков, перебегая с места на место, подгоняли отстававших коров и овец. Большая, косматая овчарка, как бы с сознанием серьезности возложенной на нее обязанности, важно выступала впереди стада.
Ненси опустила возжи, и лошадь пошла шагом. Проезжали мимо небольшой усадебки, стоящей на границе бабушкина имения.
Новый, в русском стиле, с резным крыльцом и таким же балкончиком, дом приютился под сенью темных развесистых лип и зеленых кленов. Перед домом, на небольшом открытом лужке разбита круглая пестрая клумба, с очень искусным подбором цветов. Дверь на балкон, откуда спускалась лестница в сад, была раскрыта настежь. Тихие, меланхолические звуки Шопеновского ноктюрна неслись оттуда и как бы замирали, дрожа и плача в окрестном воздухе. Кто-то играл не столько искусно, сколько увлекательно. Чья-то душа изливалась в звуках. Под пальцами играющего они пели, рыдали, они говорили.
«Nocturne» был кончен. И вот, то требуя и угрожая, то плача и изнемогая, понеслись могучие вопли Бетховенской сонаты «Pathétique»[44]. Таинственный некто играл удивительно, с поразительной силой, передавая муки великого духа, томящегося бытием.
Как очарованные сидели в своем кабриолете бабушка и Ненси, сдерживая дыхание, боясь пошевельнуться.
Рояль замолк, но через минуту он зазвучал новой, на этот раз бесконечно грустной мелодией. То было «Warum?»[45] Шумана. Томящие звуки неотступной мольбы лились тоскливо-тревожно. Они нарастали больше и больше, а все та же неизменная музыкальная фраза настойчиво повторяла тяжелый, неразрешимый вопрос… Напрасно все!.. Как он устал, как изнемог он, в тщетных поисках – истерзанный творец, он гаснет, умирая. И вопль последнего, предсмертного «Warum?» хватает за душу и рвет на части сердце.
– Как хорошо!.. – тихо прошептала Ненси, когда замерла последняя нота.
– Поедем. Неловко, могут заметить, – убеждала бабушка.
– Ах, нет, мы должны послушать еще!
Но слушать больше было нечего. Артист кончил. Ненси подождала с минуту, потом, вздохнув, тронула лошадь, но поехала шагом, все еще надеясь, что волшебные звуки опять раздадутся из уютного деревянного домика.
– Как хорошо!.. Кто там живет и кто так очаровательно играл?
– Барчонок… – предупредительно откликнулся Васютка.
Ненси обернулась.
– Какой барчонок? Неужели он маленький?
– Нет, какой маленький, – фыркнул Васютка, – длиннейший. А только он молодой совсем еще… В гимназию вот только перестал ходить.
– А!.. да, я теперь припоминаю: это вдова с сыном. Она недавно, лет пять тому назад, купила эту усадьбу. Я как-то видела ее один раз в церкви, – сказала Марьи Львовна.
– Ах, бабушка, голубушка, – засуетилась Ненси, – позови их к нам! Он будет играть нам, играть много-много, сколько захотим.
– Полно, дитя! Ну, как же я позову? Мы незнакомы.
– Ну, милая… ну, ради Бога!.. Напиши записку – они и приедут… Ну, я хочу! – капризно настаивала Ненси.
– Нет, этого нельзя. Может быть, представится случай, тогда – другое дело.
Ненси нетерпеливо дернула лошадь, и она побежала рысью. Дорога пошла хуже; кабриолет, поминутно, то подбрасывало на кочках, то совсем накренивало на бок, на глубоких неровных колеях.
Ненси не обращала ни малейшего внимания на это обстоятельство. Понукая и торопя лошадь, она ехала, не разбирая дороги, сердитая и мрачная.
– Ненси, – взмолилась наконец Марья Львовна. – Ты с ума сошла… Да пожалей меня!.. Едем назад!
Ненси молча повернула лошадь и поехала шагом. Бабушка чувствовала себя виноватой перед своей любимицей.
– Ненси, успокойся. Я как-нибудь устрою. Раз ты хочешь – конечно, я сделаю…
Личико Ненси моментально озарилось беззаботной улыбкой. Она чмокнула старуху в щеку.
– Бабушка, как это будет весело!.. Он будем играть много, много…
Когда кабриолет снова поравнялся с домиком, дверь балкона оказалась закрытой; но ее большие, широкие стекла позволяли видеть уютную комнату, освещенную лампой с красивым абажуром, и сидящих у стола: пожилую, благообразной наружности женщину, с работой в руках, и бледного, худощавого юношу, наклонившегося над книгой.
– Вот это верно он – наш музыкант, – шепнула Ненси. – Посмотри, это и есть барчонок? – спросила она Васютку.
– Они… они… он самый! – почему-то ужасно обрадовавшись, Васютка привстал даже на своем сиденье, заглядывая в стеклянные двери балкона.
С этого вечера Ненси не переставала надоедать бабушке относительно данного ей обещания. Старуха не знала, как быть? Ехать самой она считала неловким и для себя унизительным. Одна оставалась надежда – встретиться в церкви, находившейся в имении Марьи Львовны, куда съезжались в обедне все более или менее богомольные соседи-помещики. Хотя пришлось бы идти на знакомство первой и в этом случае, но церковь как-то примиряла с этою мыслью Марью Львовну. В церкви все-таки будто не так неловко; тем более, что церковь принадлежала ей.
Но судьбе было угодно распорядиться иначе, и желанию Ненси суждено было исполниться совсем не по плану, намеченному бабушкой.
V.
В один из жарких августовских дней, – таких, когда солнце печет, как будто предупреждая, что это его последние греющие землю лучи, перед долгой разлукой его горячие прощальные поцелуи, – бабушка была занята расчетами и хозяйственными соображениями, а Ненси, захватив книгу, которую никак не могла одолеть, отправилась в лес искать красивого тенистого уголка, где можно было бы, усевшись под деревом, почитать и помечтать. Бродя в раздумье, она увидела небольшой песчаный обрыв, усеянный кустарником и молодым ивняком; на дне обрыва лежали большие серые камни, а возле них протекал ручей.
– Вот здесь усядусь, – подумала Ненси, наметив самый большой камень у ручья, и стала уже спускаться, как вдруг остановилась. На одном из уступов обрыва, совершенно закрытом зеленью, лежал он – бледный, худощавый юноша-музыкант – и что-то торопливо писал на небольших длинных листках нотной бумаги.
Ненси овладело детское, шаловливое чувство: она тихо, бесшумно подкралась к пишущему.
– Что вы тут делаете? – окликнула она его с звонким смехом. – Забрались в чащу, и думаете, что вас никто не видит… А вот я и увидела!
Юноша вздрогнул, инстинктивным движением рук прикрыл листки бумаги и, увидев перед собою озаренную солнцем прелестную фигурку хорошенькой девушки, с длинными, ниспадавшими по плечам золотистыми волосами – покраснел и растерялся. Ненси стало от этого еще смешнее: ее забавлял растерянный, сконфуженный вид знакомого незнакомца.
– Позвольте представиться – я ваша поклонница. Ведь вы артист, а я… ваша поклонница.
Юноша встал, хотел поклониться, но в это время листки нот от его движения рассыпались и полетели, один догоняя другого, вниз, к ручью. Юноша что-то пробормотал и бросился за ними вдогонку; но Ненси опередила его и, покрасневшая, слегка запыхавшаяся, передала ему листки, когда он достиг ручья.
– Благодарю вас… благодарю… – лепетал он, неловко кланяясь.
Высокого роста и худой, он был угловат в движениях.
– Сядемте вон на тот камень, – пригласила его Ненси. – Я к нему и подбиралась.
Когда они уселись, Ненси с любопытством окинула взглядом все еще сконфуженного, не знавшего куда, девать свои руки молодого человека, и лицо его ей очень понравилось. Оно было правильной овальной формы, с тонко-очерченными носом и ртом, с близорукими большими темно-серыми выразительными глазами и высоким, необыкновенной белизны, прекрасным лбом, с сильно развитыми на нем выпуклостями поверх густо-соболиных бровей. Руки его были несколько велики и некрасивы, но Ненси вспомнила, что это руки музыканта, и простила им их некрасивость.
– Как ваша фамилия? – спросила она юношу.
– Мирволин.
– А моя – Войновская; видите, как смешно: война и мир. А как вас зовут?
– Юрий.
– А меня Ненси… т.-е. не Ненси – Елена, но я так уж привыкла, и Ненси красивее… А как ваше отчество?
– Николаич.
– А мое – Сократовна. Видите, как уморительно: Ненси Сократовна… Но вы меня зовите просто – Ненси… так все меня зовут. Вам сколько лет?
– Девятнадцать.
– А мне чуть-чуть что не шестнадцать… Вот будет через две недели… Тогда я буду уж Сократовна, а не просто Ненси… А вы что делали сейчас?..
Юрий вспыхнул и ничего не ответил.
– Нет, вы признайтесь мне, не бойтесь… Я никому, никому не скажу.
– Я… я писал… сочинял, – ответил он, запнувшись.
– Ах, вы и сочиняете… Вот вы какой талант!.. И у вас больше к чему влечение: к грустному или к веселому?
– Т.-е., как это?
– Ну, что вы больше любите?.. Вот я – я больше люблю грустное, и даже когда вокруг весело – мне делается часто грустно… А вы – вы любите веселое?
– Нет, тоже больше, пожалуй, грустное… в поэзии; а в музыке я люблю все.
– Вот, когда вы играли… Ах, как вы играли!.. Я никогда не забуду… Мы ехали мимо – я остановила кабриолёт, и мы все время стояли, пока вы играли…
Юрий зарделся.
– О, Боже мой, зачем? Если бы я знал, я ни за что не стал бы играть.
– И очень глупо! – наставительно произнесла Ненси. – А если бы у меня был талант, я поставила бы рояль на площади самого большого города и стала бы играть… Со всего мира приходили бы толпы народа, чтобы слушать меня и наслаждаться.
– Но я еще не музыкант! – глубоко вздохнул Юрий, – и чтобы играть, по настоящему, я должен еще много, много учиться.
– Послушайте… знаете что? Пойдемте сейчас к нам. Вы будете мне играть… все… как тогда… Шопена и Бетховена, и «Warum»… Ах, этот чудный «Warum»!
– А вы любите и знаете музыку? – оживился Юрий.
– Да, я училась и знаю, но я сама играю плохо, – небрежно ответила Неиси. – Но не в этом дело… Пойдемте сейчас к нам!
– Нет, как же это… вдруг… Не знаю, право…
– О, да какой же вы трус!.. Пойдемте!.. Ведь мы живем только вдвоем – бабушка и я… Меня вы, верно, не боитесь, – лукаво усмехнулась она, – а бабушка…
– Вот ваша бабушка… Она скажет… Неловко… я не знаком.
– Бабушка моя предобрая. Я очень люблю мою бабушку. Что я хочу – то и она хочет; что я люблю – то и она любит… У нас есть старуха, скотница… Она мне попробовала было рассказывать, что бабушка прежде была злая, но я велела ей сейчас же замолчать… И не поверю никогда!.. Кто любит музыку, картины и цветы, как бабушка – не может быть злым… Это неправда!
Юрий слушал с восторгом ее мелодический, юный голосок. Эта девочка с золотистыми волосами, говорящая так горячо, так просто, смелая, наивная и прелестная, казалась его восторженной душе каким-то чудным видением, лесной, явившейся ему в солнечных лучах феей.
Не прошло минуты, и он уже следовал за ней по направлению в усадьбе.
Бабушка покончила со счетами и ожидала Ненси к завтраку, в большой прохладной столовой. Несмотря на то, что их было всего две – стол сервировался очень парадно и им прислуживали два лакея в белых перчатках. Один из них старик – еще из бывших дворовых, другой – молодой, выписанный, по случаю приезда барыни, из города.
Ненси ввела Юрия за руку, почти силой. Он не ожидал, что попадет в такие хоромы, и чувствовал себя крайне неловко.
– Бабушка! я привела гостя, – кричала Ненси. – Прошу любить и жаловать… А это – моя бабушка, – обратилась она к молодому человеку. – Тоже ваша поклонница, как и я…
– Прошу садиться! – проговорила Марья Львовна, желая ободрить сконфуженного юношу. – Позавтракайте с нами… Дмитрий, – еще прибор!
– Я… очень благодарен… я… я завтракал.
– Ничего. В деревне можно, говорят, и завтракать, и обедать по два раза, – любезно улыбнулась Марья Львовна.
Юрий сел, проклиная свою глупую уступчивость настояниям Ненси.
Лакеи подавали чопорно, чуть что не сердито. Юрий задел ложкой за соусник, и тот едва не полетел на пол. Руки у Юрия дрожали, он готов был провалиться.
– Ничего, – успокоивала его Марья Львовна, – это случается. Нужно ближе подавать, – заметила она лакею, который, чувствуя себя вполне правым, только презрительно повел плечом.
Ненси было и жалко бедного музыканта, и она кусала себе губы, чтобы не расхохотаться над его смущением и неловкостью. «Что он дикий, что ли, совсем?» – думала она, наблюдая за ним.
Наконец, несносный для Юрия завтрак окончился. Перешли в большой вал, с старинной мебелью, украшенной бронзою и великолепным новым роялем по середине. Ненси приступила прямо к цели.
– Ну, конфузливый господин, садитесь и играйте, а мы с бабушкой сядем вон там и зажмурим глаза… Вы знаете: когда зажмуришь глаза и слушаешь музыку, уносишься далеко-далеко, в заоблачные края…
Юрий чувствовал, что положительно не может играть, – до того ему, всегда свободно отдающемуся любимому занятию, было странно и непривычно положение, в которое он попал. Он стоял в нерешимости и имел самый жалкий и убитый вид.
Ненси готова была рассердиться от досады, глядя на него.
– Ну, что же, мы вас ждем!.. – подошла она к нему. – Прикажете раскрыть рояль?..
Она направилась в роялю, а он пошел за ней, точно подчиняясь тяжелой, неизбежной необходимости, и, сев в роялю, поднял на нее чуть не с мольбой свои большие, ясные глаза:
– Я… ничего не могу играть сегодня, – проговорил он с трудом. – Сыграю, может быть, романс Рубинштейна – и больше ничего.
На этот раз, несмотря на непреклонность своего, наконец, исполнившегося желания, и Ненси почувствовала, что надо покориться.
– Ну, хорошо, – сказала она кротко, с грустью, и пошла к бабушке, сидевшей на диване.
Юрий заиграл. Играл он бегло и с оттенками, но то нечто, что заставляло его самого забывать весь мир и воплощаться в звуках, то нечто, что уносило его на небо и заставляло сладко замирать сердце – отсутствовало. Лицо Юрия выражало крайнее напряжение, вокруг губ легла глубокая скорбная складка.
«Так хорошо было тогда и так обыкновенно теперь! – досадовала про себя Ненси. – Как я глупо сделала, что упросила его играть!»
Юрий встал.
– Вот видите, – сказал он мрачно, нервно-звенящим голосом, – я говорил – не могу… Ну, просто, – не могу… Когда свободно, когда спускается вечер, когда особенное что-то повеет в воздухе – душа требует звуков сама, тогда – я могу… Ну, а теперь… Нет, зачем вы заставили меня?!.. – с нескрываемым горьким упреком вырвалось у него…
– О, что вы!.. – вступилась Марья Львовна. – Вы очень, очень мило играли… Но вы правы: нужно настроение… Однако ничего, – прибавила она ободряющим тоном: – когда-нибудь мы вас послушаем «в ударе».
– Прощайте! – неожиданно и печально произнес Юрий.
– Передайте мой привет вашей maman и попросите ее, без церемоний, по-деревенски, к нам. Ведь мы соседи…
Марья Львовна любезно протянула руку Юрию. Ненси молча кивнула ему головой, и когда он ушел, побежала в себе в комнату и, отчего, сама не зная, – горько заплакала. Она не хотела, чтобы бабушка видела ее слезы, и потому вышла через балкон в сад, оттуда в небольшую рощу и вернулась только к обеду, уже без малейших следов волнения.
– Он очень милый мальчик, – заметила бабушка. – Немножко мало воспитан, не умеет держаться… manque d'éducation[46]… Но он красив… в нем что-то есть…
– О, нет!.. Я на него зла!.. – как-то особенно горячо заговорила Ненси. – Зачем он так обманул меня… зачем?..
Бабушка посмотрела на нее с изумлением:
– Как обманул?
– Да, обманул!.. Я думала – он гений… музыкант… а он, а он просто – длинный, скверный, некрасивый мальчишка… верзила!
Ненси не выдержала и разразилась детскими, неудержимыми слезами.
Марья Львовна захохотала.
– Ну, поди сюда, глупенькая!.. – она притянула в себе Ненси и посадила на колени. – Ну, успокойся! – продолжала она, смеясь. – Мы его снова сделаем гением – вот увидишь!
Ненси вдруг самой стало смешно своих слез, и она засмеялась вместе с бабушкой.
– А вот нервы твои меня беспокоят. Il faut partir absolument[47], – дай только мне справиться с делами.
В этом имении сосредоточивалось главное богатство Марьи Львовны, и потому она, лишь от времени до времени, наезжая в другие, неизбежно посещала его каждый год, хотя ненадолго. Сюда же ей присылались и все отчеты по остальным имениям, и Марья Львовна то разбиралась сама в толстых приходо-расходных книгах, то уходила, для важных совещаний, в кабинет с своим управляющим, ученым агрономом Адольфом Карловичем. Совещания часто получали довольно бурный характер: путешествуя постоянно по Европе, Марья Львовна стремилась в новаторству; Адольф же Карлович, будучи ярым консерватором, отвергал в хозяйстве всякие пробы и нововведения. Впрочем, после горячих прений, победа оставалась всегда на стороне осторожного немца, вручавшего владелице ежегодно очень крупные денежные суммы.
Это было единственное время в жизни Марьи Львовны, когда голову ее занимали иные мысли и планы, кроме Ненси.
На следующее утро, после описанного дня, совершив обычные церемонии по туалету Ненси, бабушка тотчас же послала за управляющим.
«Надо скорее уезжать. Здоровье здоровьем, но бедная девочка уже жаждет общества… Elle а seize ans…[48] почти… Требование молодости и жизни»…
– Крошка, что ты будешь делать, пока я займусь делами?
– Я буду читать, бабушка.
– Ну, хорошо; а после мы придумаем что-нибудь повеселее. У меня есть несколько мыслей касательно будущих твоих туалетов – это важный вопрос, – и мы займемся им теперь, на свободе.
Бабушка ушла. Ненси вдруг почувствовала какое-то странное беспокойство. Она уселась на балкон, взяла книгу. «Нет, – не то»!.. Подумав, она прошла в сад и забралась в свой любимый старинный бельведер, с круглыми белыми колоннами, построенный на искусственно, для этой цели, сооруженной горе. Она смотрела на подножия колонн, покрытые зеленой застарелой плесенью, на капители их, где прилепились гнезда юрких, непоседливых ласточек; смотрела на извилистые, запущенные дорожки сада, на пруды с зелеными островками и полуразрушенными от времени замысловатыми мостиками.
Немец-управляющий, сосредоточив все свое внимание на существенные стороны доходов, старался как можно больше выжимать из имения на пользу помещицы (причем не забывал, конечно, и себя), а сад, как излишняя роскошь, с его загадочным прошлым, с его тайнами прежних обитателей, глох с каждым днем и умирал. Лишь по вечерам, когда темнота окутывала деревья и ветер шевелил их макушками, вековые липы, казалось, шептали друг другу о давно прошедших, забытых временах… Чего-чего не видал, не подслушал старый сад: робкие грезы юной девушки, мечтательно глядящей на луну, пламенные клятвы, сладость первого поцелуя жены, изменившей мужу, циничный разврат помещика, совершающего грубое насилие в какой-нибудь уединенной беседке над крепостной девушкой, ее слезы… проклятия… Все это видел и слышал старый сад… И вековые липы, колеблемые ветром, таинственно, как с сокрушением, покачивали своими зелеными головами…