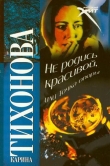Текст книги "Бабушкина внучка"
Автор книги: Нина Анненкова-Бернар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
От Ненси не укрылось его беспокойное душевное состояние.
– Что с тобой? – спросила она его однажды, перед тем, как ложиться спать. – Ты болен?
– Нет.
– Но что с тобой? Не мучь меня.
– Ах, Ненси, – тоскливо вырвалось у него, – если бы ты знала, как мне хочется работать!
Ненси даже не поняла, о чем он говорит. Работать? Зачем работать?.. Если бы он был бедняк, тогда – другое дело; а ведь они так богаты!
– Богата, Ненси, ты, – ответил он с улыбкой, – и даже не ты, а твоя бабушка.
– А если бабушка, тогда и я, – сказала Ненси уверенно.
– Ну ты, ну бабушка… а я?
– И ты! Раз это моя бабушка – она твоя бабушка; она богата, я богата, значит и ты богат.
– Нет, это вовсе не значит. Да если бы я и сам, понимаешь, сам даже был богат, – я бы все-таки считал долгом работать.
– Зачем?
– Чтобы иметь законное право жить в человеческом обществе.
Но Ненси, положительно, не соглашалась с ним.
– Если богатые будут работать, то что же тогда останется делать бедным? Это ужасно! Они должны будут все, все умереть с голода. Нет, пускай бедные работают, а богатые платят им большие, большие деньги; тогда наступит общее благополучие и в мире не останется несчастных.
К вопросу о призвании Юрия к музыке Ненси отнеслась, однакоже, гораздо более сочувственно, хотя находила, что он и так играет необыкновенно, и что теперь, когда уж он женат и даже отец семейства, – совсем не время делаться школьником. Но по мере того как он говорил, она сама стала увлекаться его пламенем.
Да, да! ему необходимо поступить в класс композиции, который теперь в Петербурге в ведении знаменитости, профессора-композитора.
– Отлично! едем! – пылко воскликнула она. – Но ты не будешь музыку любить больше меня? – прибавила она с лукавою улыбкой, прижимаясь к мужу.
Тот горячо, от всей души поцеловал ее.
На другой день он отправился к матери.
– Мама, милая, я пришел в тебе с просьбою, – начал он застенчиво.
– Что, родной? Говори.
– Я, видишь, мама… я решил поехать в августе в консерваторию, – так помоги мне!
Наталья Федоровна вся просияла от радости.
– Милый, милый! – говорила она, захлебываясь от избытка нахлынувшего чувства, – да как же ты надумал?.. Ну, слава Богу!.. Я верила в тебя!.. всегда верила!.. Ты говоришь: помочь?.. Ах, глупый, да для кого же я живу? Что мое, то и твое… Немного – это правда, но чтобы поддержать тебя, пока ты станешь на ноги – хватит… Вот только, пожалуй, встретится препятствие относительно бесплатного поступления – уж год прошел… Ну, да все равно, будем платить, – не важность… Ах, ты мой родной!.. Милый ты… милый мой!
Наталья Федоровна гладила его пушистые волосы, целовала его.
– Хорошее у нее, отзывчивое сердце! – с чувством произнесла Наталья Федоровна, когда Юрий рассказал о решении Ненси ехать с ним.
– Но, впрочем, как же иначе? Иначе не могло и быть. Вы так любите друг друга – разлука невозможна.
Ненси, с своей стороны, тоже сообщила бабушке о новых планах на зиму.
Бабушка разинула рот от изумления.
– А… а Париж? Уж нынче можно ехать превосходно и провести чудесную зиму.
– Ему надо учиться, – повторила Ненси.
– Ah, quelle bêtise!.. – вспылила бабушка, – d'avoir une femme charmante – и таким вздором пичкать себе голову!.. C'est révoltant!..[104]
– Mais nous irons ensemble[105], – возразила Ненси.
Тут уж негодованию бабушки не было конца.
– Как? как? Oh, pauvre petite! Ты до того унизилась, что бросаешь меня, все, – и идешь, сломя голову, за ним, ради его каприза!
– Нет, бабушка, мы едем все: и ты, и я, и Муся. Он там поступит в консерваторию, и всем нам будет очень, очень весело… Ты говорила мне сама, что Петербург – прелестный город.
– Comment? – бабушка задыхалась от волнения. – Чтобы я поехала? jamais! Mais tu es folle, chére petite![106] О, Боже мой, так подчинить себя мужчине, что потерять рассудок!.. Как я тебя учила с детства, как я просила, как а предупреждала?! Ведь это самое ужасное – пойми! Oh, pauvre petite, oh, pauvre petite, пойми, как ты упала!
– Ах, бабушка, но он должен учиться!.. – растерянно пробормотала Ненси, озадаченная этой тирадой.
– И в Петербург?!.– продолжала бабушка, не обращая внимания на ее слова. – Но это сумасшествие!.. Mais tu mourras!.. Все доктора сказали, что для тебя это – погибель… Mourir si jeune, si belle… Et il connaît trés bien, и… и допустить!.. Voilà l'amour fidéle et tendre![107]
– Но что же делать? – с отчаянием вскричала Ненси. – Не знаю, я не понимаю!
Как ни была раздражена бабушка, но, при виде смертельно бледного лица Ненси, смирилась.
– Ma chére enfant, обсудим хладнокровно, – перешла она в более сдержанный тон. – Я в первую минуту погорячилась. Soyons plus raisonnables. Un homme déjà marié, – il veut apprendre?[108]– бабушка улыбнулась иронически. – Пускай! Но прежде всего он должен думать о тебе… Tu es si belle, si jeune, тебе необходимо общество, – чтобы вокруг тебя все было весело и оживленно!.. Когда же жить? Les concerts, les spectacles, les dames, les belles toilettes – c'est gai, c'est amusant!.. Нельзя же вечно жить в деревне и наслаждаться поцелуями. Il faut commencer la vie.[109] Тебе в Петербурге жить нельзя – c'est décidé!.. Moscou? Je le déteste, – avec ses rues si sales, avec ses marchands, avec la vie si ordinaire…[110] Куда же ехать? В Париж – pas d'autre choix!.. И если он хочет учиться – чего лучше? Парижская консерватория – c'est un peu mieux, чем наши доморощенные, – je pense bien.[111]
Ненси указанный бабушкой исход казался в высшей степени привлекательным.
«Парижская консерватория – ведь это прелесть! – думала она. – Как бабушка умна! Как бабушка добра»!
К возможности посещать концерты и спектакли Ненси тоже отнеслась сочувственно. Ярко встал в ее воображении ее любимый город, с его шумной, точно вечно празднующей какой-то праздник толпой, с его тенистыми бульварами, с его магазинами, щеголяющими один перед другим роскошными выставками товара в окнах. Точно во сне проносились перед нею длинные ряды фиакров, с их кучерами в белых и черных цилиндрах, блестящие экипажи с красивыми женщинами в богатых изящных нарядах, в шляпках самых разнообразных и причудливых форм; ей слышится гул толпы, бесконечными шпалерами снующей по обеим сторонам Елисейских Полей, смех, свист, визг и говор, хлопанье бичей, пронзительный крик газетчиков, выкликающих на всевозможные голоса: «la Presse»!.. «le Jour»… «l'Intrasigeant!»… Париж живет, Париж энергично дышит своей могучей грудью, боясь минуту потерять в вечной погоне за радостями жизни. Воображение Ненси уносит ее в Лувр. Она видит себя среди своих любимых картин. Она здесь как дома: ведь это все ее старые знакомцы. Вот «Юдифь и Олоферн», Верне… вот «Les illusions perdues», «La liberté qui donne le peuple»… «La mort d'Elisabeth»[112]… вот Грез… а вот и она, ее особенная любимица – «Мадонна» Мурильо…
– О, Боже мой! Опять все это видеть! – и Юрий вместе с нею… Какое блаженство!
Она нетерпеливо ожидала возвращения Юрия.
– Послушай, знаешь что? – встретила она его. – Ты… ты не можешь себе представить, как все устроивается!
И она с шумною радостью сообщила мужу о бабушкиных планах, пересыпая рассказ восторженными прибавлениями от себя.
– Ну, что же ты молчишь?.. ну, отчего не восхищаешься? – теребила она Юрия, все более и более становившегося мрачным.
– Это невозможно! – проговорил он, после минутного молчания, тихо и твердо.
Ненси оторопела.
– Как?.. Как?.. Почему?
– Я тебе говорил.
– Ах, это, верно, опять все тот же несчастный денежный вопрос! – возмутилась Ненси. – Но отчего же в Петербурге тебе можно, а в Париже нет?
– А очень просто, – смущенно ответил Юрий, – тут мне отчасти поможет мать… и сам я тоже… уроки, если не музыки – репетитором буду… Еще – вот главное – есть шанс, что я буду принят даром…
– Но отчего же нельзя принять помощь от бабушки? – не понимаю.
Ненси, вскинув задорно голову, повела плечами.
– Она… она… – Юрий искал слов, чтобы яснее и мягче выразить свою мысль. – Она чужая… т.-е. не чужая… я ее очень, очень люблю, но… как бы мне тебе объяснить?.. Ну, вот: если мать поможет, пока я слаб – и я ей буду помогать потом… А тут я чем отвечу? Облагодетельствованным быть я не хочу!
– Зачем же ты тогда на мне женился? – неожиданно и резко сказала Ненси. – Ты же знал, что я богата!
Лицо Юрия валилось густою краскою.
– Зачем я на тебе женился? – повторил он, как бы сам для себя ее вопрос. – Зачем? Мне сердце так велело, – он порывистым нервным движением откинул упавшую на лоб прядь курчавых волос. – Богата ли ты, или нет – я не знал… не думал… Я… я любил!.. Но… чтобы так… всю жизнь жить за чужие средства… Я не могу!.. Лишать тебя, когда ты так привыкла – я не имею права… Но сам? Нет! Это было бы гнусно.
– Ты знаешь? В Петербурге жить мне невозможно, – сдвинув сердито брови, заявила Ненси. – Мне доктора давно сказали, а бабушка напомнила… Там для меня – смерть!
Юрий задумался, потом быстрыми, решительными шагами подошел в Ненси, присел около и взял ее за руку.
– Послушай, Ненси, – с силою проговорил он. – Это необходимо и… иначе я не могу – пойми!.. Но, милая, но, дорогая, – он нежно обнял ее за талию, – ведь это так не долго!.. Ну, три-четыре года… Ведь можно приезжать на Рождество, на Пасху, и лето будем вместе. Не покладая рук я стану работать, чтобы поскорее кончить, и заживем мы снова неразлучно.
«Voilà l'amour fidéle et tendre!»[113] – пронеслись в голове Ненси зловещие бабушкины слова.
– Что же ты молчишь? – ласково окликнул ее Юрий.
– Ах, оставьте меня, оставьте!
И Ненси стремительно убежала по направлению к бабушкиной комнате. Юрий не ожидал такой странной, обидной для него выходки. Он стоял в недоумении. Ему захотелось сейчас же броситься за нею следом, но почему-то он вдруг повернул в противоположную сторону и побрел в сад.
Ненси, прерывая свою речь слезами, рассказывала бабушке о только что происшедшем разговоре.
– Ну вот, ну вот! – злорадно торжествовала бабушка. – Я говорила, говорила! Voilà le commencement! Чем дальше – будет хуже!.. Oh! Nency, mon enfant, tu es bien malheureuse, pauvre petite! Voilà l'amour! Voilà!..[114]
И Ненси, действительно, чувствовала себя глубоко несчастной. Как? ради каких-то нелепых денежных счетов, он находит возможным расстаться с нею?! Из-за упрямства не хочет уступить? Он должен был все, все перенести, только бы не разлучаться. И вдруг, в жертву ложному самолюбию приносить их счастье! Да, бабушка была права, тысячу раз права – он вовсе не любит!
– Nency, mon enfant chérie, – говорила бабушка наставительно, – au moins теперь, sois obéissante, – слушайся беспрекословно. Il doit être puni. Il doit rester seul et bien comprendre son crime. Пожалуйста, не вздумай отправляться в спальню – tout sera perdu! C'est une punition la plus sensible pour un homme,[115]– поверь мне. Ты будешь спать сегодня у меня.
До самого глубокого вечера просидел Юрий в старом бельведере. Уже стемнело совсем. Юрий с удивлением взглянул на точно застывшие в полумраке деревья. Среди своих глубоких, мрачных дум он и не заметил, что спустилась ночь. Уныло поникнув головою, побрел он домой…
Прошло два дня. Юрий, по-видимому, был непреклонен в своем решении. Он не говорил ни слова, глядел мрачно исподлобья, целые дни проводил в саду. Он глубоко, глубоко страдал. Поведение Ненси – то, что она так мало его понимала – приводило его в отчаяние. При виде ее постоянно заплаканных глаз – у него сердце разрывалось на части, но в то же время он знал, он чувствовал, что, несмотря ни на что, решения своего не изменит.
Ненси все время держалась около бабушки, избегала оставаться с ним наедине и смотрела за него глазами, полными упрёка. Бабушка же была в совершенном недоумении: придуманное ею самое чувствительное наказание оказывалось бессильным.
Однажды, вечером, Юрий, на глазах бабушки, взял Ненси за руку и увел в сад.
– Послушай: неужели ты хочешь, чтобы я был приживальщиком? Ты бы должна была, в таком случае, презирать меня!
Сказав эти слова и не дожидаясь даже ответа, он бросил ее руку и пошел в глубь аллеи.
Она побежала за ним.
– Прости, прости меня! – лепетала она, прижимаясь к нему, заглядывая в его полные скорби глаза и заливаясь слезами.
Они помирились. Влияние бабушки значительно ослабло, но в тайнике души Ненси все-таки жила глубокая обида. Нет, он не любит! – утверждалась она все больше и больше в своей мысли.
Так протянулся месяц, и Юрий стал готовиться к отъезду. В душе Ненси снова вспыхнула надежда. Неужели он решится? Неужели он от нее уедет? Чем ближе подходил роковой день, тем Юрий становился капризнее и капризнее. Бабушка решилась, наконец, сама поговорить – avec cet imbécile![116] Она призвала его в кабинет и заперла дверь на ключ.
– Разве вы не видите, что делается с Ненси? – строго спросила она его. – Вы убиваете ее.
Юрий вздохнул и поднял на бабушку свои измученные глаза.
– На что же вы решаетесь? Неужели же невозможно изменить ваш план?
Юрий молчал.
– Mais répondez![117]
– Нет, – едва слышно проговорил Юрий.
– C'est révoltant![118]– вскипела бабушка. – К чему же это приведет?
– К хорошему, – убежденно ответил Юрий.
– Et cette pauvre petite femme restera seule… Mais elle tous aime!..[119]
– И я ее люблю больше собственной жизни!
– Но что же с нею будет?
– Она слишком честна – она поймет, что иначе мне поступить нельзя.
Бабушка, чувствуя, что больше не в силах сдерживаться, и что может выйти какая-нибудь «история», чего она была злейший враг, отчаянно замахала руками:
– Allez, allez![120]
* * *
Юрий уехал. В минуту отъезда произошла раздирающая сцена: Ненси плакала, цеплялась за него, как безумная; бедный юноша не выдержал и, прижав ее крепко к груди, разрыдался сам.
– Прости, прости меня, – лепетал он, – но иначе нельзя!
Она в бессилии упала на кресло; он опустился на колени, целовал ее руки…
– Ненси, не плачь! – умолял он ее. – Я буду писать тебе каждый день… Все мысли мои будут с тобою и около тебя… Ненси, Ненси, ты помни – у нас дочь! Мы жить должны не только для себя, но и для нее!..
Бабушка хотя и холодно рассталась с Юрием, но все-таки, в виде благословения, вручила ему маленький образок Казанской Божией Матери, со словами:
– Elle vous guidera dans toutes vos actions![121]
X.
В городе шли большие приготовления к предстоящему благотворительному балу. В обширном барском доме-особняке, который наняла и омеблировала роскошно Марья Львовна, чтобы провести в нем зиму, – так как Ненси решила не уезжать из России, – тоже было не мало хлопот.
Сидя в своей любимой угловой темно-малиновой комнате, бабушка совещалась относительно туалета Ненси с постоянным завсегдатаем их гостиной, старым холостяком Эспером Михайловичем.
Это был чрезвычайно благообразной наружности, худощавый господин с сильной проседью, с выпуклыми светло-голубыми глазами и совсем белыми холеными усами, для чего на них самым аккуратным образом надевались на ночь наусники «монополь». Эспер Михайлович постоянно бывал не то чтобы навеселе, а в меру возбужден. Эспер Михайлович когда-то был очень богат, спустил свое состояние, получил наследство от дяди, потом от тетки, и эти спустил; наконец, досталось ему небольшое имение от какой-то дальней кузины – он вздумал его эксплоатировать, как практический человек нашего практического века – ставши компаньоном одного «верного» дела; но дело оказалось совсем неверным, и Эспер Михайлович остался без всяких средств. Но он не унывал. Он стал жить в долг, перехватывая у приятелей, не переставая любить жизнь и ожидая в будущем еще каких-то эфемерных наследств. Он три четверти жизни провел заграницей, очень любил дамское общество, доподлинно знал все романические истории города, в каждом доме был первый друг и советчик и незаменим на светских базарах, лотереях и вечерах.
В эту минуту он сидел возле Марьи Львовны перед столом, на котором стояло четыре лампы. Бабушка перебирала образцы материй, поднося их к огню.
– Нет, cher[122], как вы хотите, но эти два цвета: vieux rose и jaune[123] – несовместимы.
– Уж поверьте мне, – горячо отстаивал Эспер Михайлович, – я сам видел une pareille toilette[124] в Париже в 83 году…
– Н-не знаю…
Марья Львовна зажмурила глаза, чтобы яснее представить себе Ненси в проектируемом платье.
– Н-не знаю… Une petite basque ajustée, ornée de perles…[125]
– Oh, c'est parfait! – с восторгом подхватил Эспер Михайлович.– Mais ajustée.[126]
Обоюдными усилиями, наконец, авторы пришли к соглашению.
– А где наша bébé-charmeuse[127]?
Так прозвал Эспер Михайлович Ненси.
– В детской. Купают Мусю – она любит смотреть.
– И я пойду. J'adore les petits enfants.[128]
Он пошел моложавой походкой, слегка раскачиваясь стройным станом и напевая вполголоса.
– Oh, pauvre, pauvre homme! – вздохнула ему вслед Марья Львовна.– Les beaux restes[129] прежнего дворянства.
В детской, окрашенной белой масляной краской и немного жарко натопленной, происходила церемония купанья маленькой Муси.
В ванночке сидела девочка, наполовину завернутая в простыньку. Она улыбалась, покрякивала и била ручонками по воде.
Нянька, с сознанием необыкновенной важности совершаемой операции, поливала плечи ребенка водой и, намылив губку, бесцеремонно мазала ею по голове и лицу девочки. Та отфыркивалась, встряхивала головенкой и, как бы в виде протеста, еще сильнее шлепала ручками по воде.
Рослая мамка, сидя в углу детской у стола, лениво пила чай и, громко чавкая, пережевывала булку.
Ненси, глядя на девочку, покатывалась со смеху всякий раз, как та гримасничала от прикосновения губки.
– Можно? – раздался голос Эспера Михайловича за дверями, и, не дожидаясь ответа, он сам появился на пороге.
– Charmeuse, туалет решен! – объявил он торжественно.– Mais comme nous sommes jolies?![130]– и Эспер Михайлович взасос поцеловал лобик ребенка.
– Она вся мокрая, она вся мокрая! – захохотала Ненси.
– О, это ничего… j'adore les petits enfants!.. Капот – восторг! – обратился он к Ненси, указывая на ее капот. – Складки лежат превкусно!..
– Ох, барин, и шутник же!.. – усмехнулась нянька.
– Ппхи!.. – фыркнула в углу кормилица.
– Чего ты?
– Да больно шутники.
– О, быдло, быдло! – презрительно повел глазами в сторону мамки Эспер Михайлович. – Ну, вот вам!.. Ах, как меня всегда злят все эти народники! Однако, charmeuse, нас ждут grand'maman и высшие соображения относительно туалета, – напомнил он Ненси.
– Мы забыли намазать ее глицерином, – сказала Ненси, уходя из детской.
– Ничего, барыня, ванна из миндальных отрубей была даже очень успокоительна, – отвечала нянька.
Ненси изменилась с тех пор, как мы ее оставили. Своенравный, капризный ребенок с золотистыми кудрями по плечам удивительно скоро превратился в молодую, но вполне выдержанную светскую даму.
Появление в городе богатых, именитых Гудауровых, которым принадлежали крупнейшие и богатейшие поместья в губернии, было целым событием в городской жизни. О бабушке и ее красавице-внучке заговорили, их искали, добивались знакомства с ними. Марья Львовна гостеприимно открыла двери своей великолепной гостиной, и Ненси стала сразу центром общего внимания, и даже злоба местных красавиц должна была смириться перед преимуществами новой гостьи. Она была молода, красива, исключительно богата, говорила на четырех языках, объездила вдоль и поперек Европу – с такой соперничать было бы бесполезно и глупо. Дамы наперерыв с мужчинами стали восхищаться Ненси. А Ненси было очень, очень весело. Она переменила прежнюю живописную полудетскую прическу на дамскую, и, приподняв высоко волосы, завертывала узлом золотистые кудри; необыкновенно скоро приобрела она небрежный, но слегка повелительный тон в разговорах с мужчинами, а дам очаровывала изысканной любезностью.
Бабушка с восторгом любовалась созданием своих рук.
Да! Ненси было весело: спектакли, концерты, вечера, прогулки; милые, добрые знакомые ее баловали, возили ей конфекты, цветы; все восхищались ее поразительными туалетами, все выражали сочувствие по поводу ее разлуки с мужем… Последнее обстоятельство несколько омрачало веселое существование Ненси, и как ни старалась она внушить себе законность этой разлуки, чувство обиженнего самолюбия не переставало грызть ее сердце.
«Не забывай меня и занимайся Мусей», – писал Юрий, и Ненси каждый вечер отправлялась в детскую присутствовать при купанье своей маленькой дочки, целовала ее нежно, хохотала над ее гримасами, но больше положительно не могла придумать, что с нею еще делать. Она, впрочем, снялась в фотографии вместе с ребенком и послала портрет Юрию.
XI.
Когда Эспер Михайлович пришел объявить, что Ненси сейчас придет, только переоденется, Марья Львовна уже была не одна. В гостиной сидело несколько человек гостей: жандармский генерал Нельман – крашенный, в больших бакенбардах и усах; товарищ прокурора Пигмалионов – господин средних лет, очень глубокомысленный и очень рыжий, и служащий в отделении государственного банка, молодой, благообразный блондин Крач с женой, тоже светлой блондинкой, высокой и стройной. Злая иронизирующая улыбка играла на ее крупных бледных губах, а живописно вьющиеся волосы, в связи с мечтательными глазами, придавали ее лицу странное, но поэтическое выражение. Серафима Константиновна – так звали прекрасную блондинку – была талантливой художницей и относилась свысока ко всем, начиная с своего добродушного мужа. Ее гибкую фигуру без корсета облекало черное простое платье, стянутое у пояса широкой лентой с старинной серебряной пряжкой и оттеняло еще больше болезненную прозрачность ее кожи.
Поодаль от других сидел местный поэт Лигус, недавно окончивший курс в правоведении, молодой человек, приехавший в город кандидатом на судебные должности. Его густые, блестящие волосы были аккуратно приглажены, образуя сбоку пробор; от маленькой, коротко остриженной бородки несло духами; темные глаза смотрели рассеянно; обутые же в лакированные сапоги, ноги нетерпеливо постукивали острыми носками. Он был влюблен в Ненси и ждал ее.
– Войновский мне пишет, что будет непременно к балу, – громко заявил Нельман.
Вошла Ненси. Произнесенное имя поразило ее – это была фамилия ее отца.
– Войновский? Как его зовут? – спросила в то же время Марья Львовна.
– Борис Сергеевич.
«Должно быть, однофамилец или дальний родственник», – подумала успокоенная Ненси, обходя всех с любезной улыбкой.
– Кто этот Войновский? – спросила она подсевшего к ней Лигуса.
– Наш городской голова, богатый человек… Разве вы не знаете?.. Я вам романс новый принес – мои слова.
Он протянул ей тоненькую нотную тетрадь.
– Merci. Вы споете?
– Мне музыка не нравится, – Лигус сделал гримасу.
– Авенир Игнатьевич, вы, кажется, хотите нас порадовать? – окликнула его с дивана Марья Львовна:– я вижу, вы нам принесли новые ноты.
– Да, – вспыхнул молодой человек, – мои слова, но музыкой я не доволен.
– А кто писал?
– Тут есть один такой… настройщик Гриль…
– Ах, Гриль? Дрянь! – раздался сердитый бас Нельмана. – Я, как директор музыкального кружка, хотел его поднять, спасти талант… вы понимаете? – обратился он преимущественно к Марье Львовне. – Я призываю его как-то к себе и говорю: послушайте, говорю, Гриль, – я обращаюсь к вашей совести и говорю вам как друг: хотите исправиться?.. Он рассыпается в благодарности, и то, и сё… Я говорю: поймите, вы ведь нищий, у вас ничего нет, но вы талант – хотите, я вас спасу?.. Он, понимаете, в восторге, чуть не плачет. Я ему опять: итак, слово честного человека – вы бросите пить! Затем кружок будет вам выдавать двенадцать рублей ежемесячно… вы понимаете? Это все-таки обеспечение, а вы ведь нищий. Но так как кружок учреждение не благотворительное, то вы с своей стороны будете участвовать безвозмездно во всех его вечерах и отдадите в полную его собственность все, что вы будете писать… Согласны? – «Помилуйте, говорит, вы благодетель!» – В первый же месяц написал несколько пьес – принес, получил двенадцать рублей. Отлично! Затем испортился рояль в кружке. Я говорю Грилю: исправьте. А он, надо вам сказать, великолепнейший настройщик. Но так как в кружке было неудобно чинить – он взял инструмент к себе, на квартиру. Проходит неделя – ни рояля, ни Гриля! Я посылаю. Ответ такой: привезут рояль через три дня. Жду – не шлет. Отправляюсь, наконец, сам. Что ж вы бы думали – застаю этого негодяя – pardon за выражение! – мертвецки пьяным, а тысячерублевый рояль оказался уж проданным. Я не хотел поднимать эту грязную историю, предавать суду этого каналью – pardon за выражение! – я выписал новый рояль, но все это меня страшно расстроило, страшно расстроило!..
И как бы в доказательство своего расстройства он вынул платок и стал поспешно вытирать выступивший на лбу пот.
– О, cher, люди так неблагодарны!.. – успокоила его Марья Львовва.
– Пойдемте петь, – обратилась Ненси к Лигусу.
– Avant dites la poésie.[131]
Лигус поднес в лампе тетрадку и продекламировал с чувством:
Спрошу я мысль: «куда летишь?»
Ответа нет, ответа нет!..
И сердце: «ты зачем молчишь?»
Ответа нет, ответа нет!
Ответа нет! Но отчего,
Когда гляжу в лазурь небес,
Любви я вижу торжество
И жажду песен и чудес?!
Я муки глубину постиг,
Безумной муки многих лет…
На вздох души, на сердца крикъ
Ответа нет! Ответа нет!
– Il а du talent[132], – как бы сообщила всему обществу Марья Львовна, – вы не находите, Платон Иванович? – окликнула она точно заснувшего рыжего прокурора, когда молодые люди вышли в другую комнату, где находился рояль.
– Н-да, не без дарования, – глубокомысленно подтвердил Пигмалионов.
– Платон Иванович дарованья судит с прокурорской точки зрения, – иронизировала Серафима Константиновна.
– Это мне нравится! – захохотал Нельман. – Позвольте, однако… Я крайне заинтересован: мы с Платоном Ивановичем, оба, являемся как бы охранителями общественного спокойствия… значит, и я… значит, и я, в некотором роде должен иметь… как это?.. прокурорскую точку зрения на талант, а я – директор музыкального кружка… Вот вы и объясните нам, милая барыня…
– Мне скучно, это слишком длинно, – проговорила с гримасой Серафима Константиновна.
– Вот, вот, вот так всегда дамы! – хихикал Нельман. – Заденут, заведут, а после и ни с места! Да-с! Хе, хе! Система прекрасного пола… Сирены, сирены!
«Ответа нет, ответа нет!» – доносился из залы несколько носового звука, но приятный тенор Лигуса.
– Ни тут, ни там – ответа нет! – и Нельман захохотал, страшно довольный своей остротой.
– Моя судьба вся в этих словах: «ответа нет!» – проговорил Лигус, окончив романс, – но вы… вы не поймете, все равно.
– Прелестно! – крикнула из гостиной Марья Львовна, и как бы в подтверждение ее слов раздалось несколько ленивых аплодисментов.
– Вы меня считаете глупой? – задорно спросила Ненси.
– Я? Вас?
– Ну да!.. вы говорите… я не могу понять… Я молода, но я все понимаю.
– Нет, вы меня не можете понять.
– Ах, вы такой глубокомысленный?!
– Нет, не хотите.
– А вот вы молодой, а точно старик – такой чувствительный, такой сентиментальный!..
Ненси захлопнула крышку рояля и пошла, посмеиваясь, в гостиную, впереди уныло за нею шагавшего Лигуса.
В гостиной появилось новое лицо – жена директора местной гимназии – Варвара Степановна Ласточкина, полная, средних лет дама, с мелкими чертами на сером, неинтересном лице. Она знала все городские новости; ее языка боялись, как огня, и она поэтому пользовалась большим влиянием в городе.
– Я окончательно могу сообщить, из самых достоверных источников, что Войновский к балу приехать не может, – тараторила она, обмахиваясь веером, с которым никогда не разставалась, – комиссия, где он заседает, продлится еще два месяца, мне это достоверно известно.
– Однако, как это странно! – мягко заметил Нельман. – Он пишет мне, что будет непременно.
– Не будет, не будет, не будет! Мне это достоверно известно. Мне это сказала вчера m-me Ранкевич. Он обещал ей привезти модный газ из Петербурга, и m-me Ранкевич страшно расстроена – приходится ей шить совершенно в другом роде платье.
– Мне кажется, сведения m-me Ранкевич могут быть не особенно основательны: комиссия заканчивает свои действия через неделю, – внушительно произнес прокурор.
– Ах, Платон Иванович, как вы любите спорить! – вспыхнула Ласточкина. – Я говорю вам, что я знаю из достоверных источников!
Прокурор, пожав плечами, подошел в Ненси.
– Вы сегодня необыкновенно интересны! – проговорил он мрачно и повел своими рыжими усами.
– Merci! – ответила Ненси небрежно.
– Бал без него немыслим! – горячился Эспер Михайлович. – Без него тоска и мертвечина!
– Что он – красив, умен? – спросила Марья Львовна.
– C'est une beauté![133]– воскликнул Эспер Михайлович. – Я в него влюблен, положительно влюблен, как женщина!.. Великолепный рост, глаза засыпающего льва… потом умен… ума палата!
– Не нахожу! – возразила Ласточкина, презрительно пожимая плечами.
– Уж извините – умен! Поставил город образцово, по-барски. Все эти купчины наши злятся, а ничего сделать не могут. Он барин настоящий, родовой, и города теперь узнать нельзя.
– Вы вечно спорите, Эспер Михайлович, а я не нахожу, не нахожу, не нахожу!
– Нет, человек он интересный, – проронила точно сквозь зубы Серафима Константиновна.
Ответ Ласточкиной был прерван появлением лакея, объявившего, что чай готов.
XII.
Залы дворянского собрания блещут огнями. Одиннадцать часов вечера.
У небольшого, кокетливо утопающего в зелени пальм киоска Ненси сплошной стеной толпятся фраки и мундиры. В главный буфет, где у чайного стола заседает сама губернаторша, окруженная цветником интересных дам, с очаровательной улыбкой разливающих чай и предлагающих бисквиты, то и дело прибегают лакеи с требованием новых крюшонов.
Ненся, в своем белом, вышитом жемчужными бусами платье, очаровательна. Лицо ее сияет, глаза горят жадным, лихорадочным блеском. Она опьянела от толпы и успеха. Она почти автоматически наливает из большой хрустальной вазы в граненые стаканчики янтарную жидкость крюшона; любезная улыбка не сходит с ее алых губ, а сверкающей бриллиантами ручкой она собирает обильную дань благотворительных бумажек.
– Счастье валит! – шепчет, в упоении, состоящий при ней Эспер Михайлович. – Еще немного, и у нас в кассе – семьсот.
Ненси вздрогнула от удовольствия.
– А, Авенир Игнатьевич!.. Что вы так поздно? – приветствовала она Лигуса, появившегося перед киоском.
Он низко нагнул свою напомаженную голову и, снова подняв ее, прикоснулся губами к протянутой ручке.
– Я был занять, кончал поэму.
– Какие все глупости! Вы тут необходимы.
– Зачем?
– Чтобы быть у кассы. Бедный Эспер Михайлович совсем измучился.
– Ай-ай-ай, charmeuse, какая клевета! Я счастлив, что могу быть вам полезен, – и он чмокнул, поймав на лету ручку Ненси.