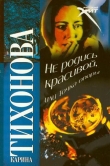Текст книги "Бабушкина внучка"
Автор книги: Нина Анненкова-Бернар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Как?!
Ненси схватилась за голову и смотрела на бабушку почти обезумевшими глазами.
– Как? – стоном вырвалось вторично из ее груди.
– Oh, chére enfant, c'est une histoire bien ordinaire! Tu es femme…[138]
– Как? – прошептала растерянно Ненси.
– При том, il est bien beau[139], – мечтательно вздохнула Марья Львовна, – я это очень, очень понимаю.
– Но… он… родной, – пролепетала Ненси.
– Это родство не кровное.
– А завтра? – совсем уже чуть слышно произнесла Ненси.
– Завтра?.. Будь как можно нежнее – он все-таки твой муж.
– Я убегу!
– Притом, он заслужил…
В глазах Марьи Львовны мелькнул злобный огонь.
– А ты не виновата, крошка. Мы были все молоды. Молодость бывает только раз – надо ею пользоваться.
Марья Львовна притянула в себе бледную, дрожащую внучку.
– Помни, помни одно: sois raisonnable[140].
Ненси ничего не понимала: ее не порицают – нет! ее даже как будто хвалят!.. Бедное сердце то мучительно сжималось, то прыгало, как бешеное, в груди. В голове царил полный хаос…
– Если ты любишь меня – ты будешь держаться умницей, – нежно, но твердо произнес Войновский, прощаясь вечером с Ненси.
Всю ночь Ненси не сомкнула глаз.
XV.
Когда из темной дали показались три огненных фонаря локомотива, Ненси, ходившая по дебаркадеру с Эспером Михайловичем, едва сдержала готовый вырваться из стесненной груди крик. Она судорожно схватила своего спутника за руку.
Гремя цепями, поезд медленно подползал к платформе. Замелькали в окошках лица пассажиров, забегали носильщики, засуетились пришедшие встречать.
С площадки вагона второго класса соскочил высокий, бледный молодой человек, с русой бородкой. Ненси едва узнала в нем Юрия – так он переменился за эти четыре месяца. Он похудел и сильно возмужал.
– Ненси!.. Ненси!.. Нен-си!.. – крикнул он прерывающимся от волнения голосом, бросаясь в ней, а его серые, лучистые глаза подернулись влагою. – Голубушка, родная!
– Позвольте познакомиться, в качестве близкого друга вашей семьи, – поспешил отрекомендоваться Эспер Михайлович.
– Ах, очень, очень рад, – потрясал его руку Юрий, не отрывая глаз от Ненси и смеясь безотчетным, ребячьим смехом.
– Голубушка… родная… родная! – повторял он все те же слова, не зная, чем и как проявить свою радость.
Улыбаясь приветливо и грустно, Ненси едва держалась на ногах.
– Какая ты стала красавица!.. – с восторгом воскликнул Юрий. – Еще лучше, чем прежде!
– Однако, где же ваши вещи?.. надо вещи… багаж… – суетился Эспер Михайлович.
– Да… да… да…
Но Юрий вдруг весело неудержимо засмеялся.
– Да что же я? Ведь у меня вот только что в руках – я весь багаж.
– Так едем, едем поскорее!
– Привез! – с торжественностью доложил Эспер Михайлович ожидавшим в столовой Марье Львовне и Войновскому.
Дверь настежь распахнулась.
– Здравствуйте, бабушка! – и Юрий, с светлым, радостным лицом, поцеловал у старухи руку.
– Здравствуй, здравствуй, – несколько сухо, хотя любезно ответила Марья Львовна.
– А вот, – она округленным жестом показала на Войновского, – вот познакомься: наш родственник и друг – Борис Сергеевич…
– Прошу любить и жаловать, – откликнулся Войновский.
Юрий, с благодушным видом, потянулся поцеловаться с ним.
«Да это совсем щенок, не сто́ящий внимания!» – подумал Войновский, не без некоторого ревнивого чувства разглядывая лицо и угловатую фигуру молодого человека.
Юрий беспокойными глазами искал Ненси. Она вошла немного неуверенной походкой и, потупив взор, села за стол.
– Ну, присаживайтесь к вашей молодой супруге, – развязно проговорил Войновский, стараясь придать как можно больше добродушия своему тону.
– Как же твои музыкальные дела? – спросила Марья Львовна, подавая Юрию стакан горячего чаю.
Молодой человек стал с увлечением рассказывать о своих занятиях, о профессорах, о личных впечатлениях, и радостных, и неприятных. Он быстро перескакивал с одного предмета на другой, то снова возвращался в старым, то забегал вперед.
– Ваш чай, – предупредительно напомнил ему Эспер Михайлович.
– Ах, да! – прищурив свои близорукие глаза, Юрий отхлебнул из стакана и с тем же жаром принялся опять рассказывать.
Ненси слушала его жадно, любовалась его детски-откровенной улыбкой, и прежняя, маленькая Ненси, у обрыва, точно снова воскресла в ней; но… черные глаза сидящего против нее человека слишком красноречиво напоминали ей о действительности. Ненси чувствовала на себе их властный, пристальный взгляд, и ее юное бедное сердце замирало перед ужасом роковой правды.
На другой день приехала Наталья Федоровна из деревни. Марья Львовна, скрепя сердце, предоставила в распоряжение гостьи свой кабинет, которым, впрочем, сама никогда не пользовалась.
– Не могу сказать, чтобы присутствие этой прелестной родни меня особенно радовало, – откровенно признавалась она Войновскому.
Целый день беспрестанно раздавались звонки. Близкие знакомые спешили принести свои поздравления, а еще незнакомые близко, но жаждущие войти в дом – пользовались удобным случаем явиться в первый раз с визитом.
Пока Ненси с бабушкой принимали в гостиной сановных и несановных посетителей, Юрий сидел, вместе с матерью, в детской у маленькой Муси.
Наталья Федоровна нашла в сыне перемену к лучшему.
– Это ничего, голубчик, что ты похудел: занимался сильно – это естественно… Твой бодрый дух меня радует – вот что! А тело мы с тобой нагуляем летом.
Несмотря на просьбы Ненси, Юрий не захотел выйти в гостиную.
– Оставь его сегодня, милая, – говорила Наталья Федоровна, нежно целуя Ненси, – ведь он устал с дороги; времени еще много впереди.
А Юрий, с первого же дня, почувствовал себя точно чужим в этом родном для него доме. Он так, за последние четыре месяца, привык в своей крошечной, скромной, с роялью, комнате, к одиночеству и тишине, что гам и сутолока светской жизни, в какую он сразу попал, хотя не принимая участия, как бы оглушали его, и в вечеру он почувствовал себя совсем точно разбитым. Последующие дни были тоже неутешительны. В доме вставали поздно, пили кофе, завтракали, затем начинались всевозможные посещения. Являлись нарядные дамы и мужчины; знакомясь с Юрием, они считали своей обязанностью надоедать ему расспросами о консерватории и восхищаться музыкой. Казалось, всем этим людям решительно больше нечего было делать, как только одеваться нарядно и ездить с визитами. Но больше всего возмущала Юрия личность Эспера Михайловича. Уже в утреннему кофе раздавался его порывистый звонок, он влетал в столовую, сообщал, захлебываясь, все животрепещущие новости, выпивал чашку кофе и исчезал; иногда снова появлялся к обеду, иногда пропадал до самого вечера и, видимо утомленный проведенным днем, усаживался за безик с Марьей Львовной.
Тоскливо слушал Юрий скучное пение Лигуса и чувствительные разглагольствования о своих добродетелях Нельмана, и восторги Ласточкиной по поводу удачно найденной, наконец, пьесы, и ее злые, несносные сплетни про всех и про вся; с удивлением и любопытством смотрел он на странную полубогиню Серафиму Константиновну, как-то важно, нехотя, сквозь зубы, роняющую слова, и на полковника Ерастова.
Все эти люди казались ему такими далекими от настоящей правды жизни, совсем ненужными и неизвестно зачем и для какой цели живущими за свете!.. Да и сама Ненси, его прелестная, милая Ненси, стала точно совсем другою. То возбужденно веселая, то капризно плаксивая, – то будто избегала она его, то осыпала порывистыми ласками.
«И все это от бестолковой, праздной жизни», – думал он с болью в сердце.
Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими тяжелыми, печальными думами, но какой-то внутренний инстинкт останавливал его говорить об этом с матерью. Напротив, он старался казаться перед нею веселым и беззаботным.
Наталью Федоровну изумляло в нем одно – он почти не притрогивался в инструменту.
– Что же ты не играешь совсем? – спрашивала его встревоженная этим обстоятельством мать.
– Я устал просто, – успокоивал он ее. – Праздники теперь, наиграюсь еще, – ведь я не меньше шести часов играю ежедневно.
– Ненси, когда я кончу курс в консерватории, я бы хотел жить совсем иначе, – сказал он раз серьезно жене, когда они сидели вдвоем в ее голубом, нарядном будуаре. – Такая жизнь, по моему, безнравственна… Ведь ты со мной согласна, Ненси? да? – допрашивал он ее, волнуясь. – Ведь это все не нужно – правда?… Все эти экипажи, лошади, кареты, лакеи, повара?…
Ненси упорно молчала.
– По моему, так жить не хорошо!.. Душа, ты понимаешь, – душа тут погибает…
И он смотрел на нее полными ожидания и муки глазами, не понимал ее молчания и мучился им.
А Ненси, хотя и наряжалась, и принимала гостей, и выезжала, и даже решилась взять маленькую роль, для предстоящего любительского спектакля, – переживала адские муки в душе. Как ребенок, боящийся темноты, бежала она от себя самой, от того страшного, что неотступно давило ей грудь. Все была напрасно. Оно, это страшное, не повидало ни на минуту, упорна и зло точило сердце, мозг!..
Войновский был с нею почтителен и холодно любезен, ни разу не поцеловал у нее даже руки, и Ненси была ему за это благодарна. Напротив, все свое внимание он обратил на Юрия, но его предупредительная доброта стесняла молодого человека, и тот как-то безотчетно сторонился от этого блестящего, красивого господина, находя его в то же время интересным.
Тяжелым кошмаром пролетели для Юрия двухнедельные каникулы, и он уехал измученный, недоумевающий, твердо решись работать, не покладая рук, чтобы скорее стать на ноги и вырвать Ненси из этой сокрушающей его обстановки.
«Ненси, Ненси! – писал он ей из Петербурга, сейчас же по своем приезде. – За эти две недели нам не пришлось ни разу поговорить как следует. Ты от меня точно ушла куда-то; а если бы ты знала, как много хотелось сказать, как многое теперь рвет на части мне грудь, не находя исхода. Я не хочу стеснять твоей свободы, я не хочу навязывать своих симпатий, взглядов… я могу только просить, умолять. Я молод, я так же мало знаю жизнь, как ты, или немногим больше; я только чувствую душой, что там, где ты живешь, что те, среди которых ты живешь – забыли, потеряли правду. Я чувствую, что есть что-то в нас высшее, чем жалкая земная оболочка, и это высшее, во мне, зовет тебя теперь, тоскует о тебе… Ненси! вернись такою, как была, – стань прежней»…
Ненси читала и перечитывала это письмо, обливая его слезами, не зная, что ей отвечать. Но, пересилив свое волнение, она присела в письменному столу и с болью в сердце, с отвращением к самой себе, написала короткий, успокоительный ответ.
Она провела несколько мучительных ночей, и Войновскому стоило много труда, чтобы снова все вошло в прежнюю волею.
– Послушай, – говорила ему Ненси, в первое их возобновленное свидание, в охотничьем домике, куда они приехали, ловко исчезнув с танцовального вечера, где Ненси была, на этот раз, без бабушки, – ведь так продолжать нельзя… скажем все, и я уйду к тебе!
– Что же будет дальше? – мрачно спросил Войновский.
– Я… я не знаю… Ну, берут развод… ну, женятся… Это все же честнее…
– Ты думаешь – так это все легко?.. Да, наконец, я не считаю себя вправе… Да! не считаю себя вправе, – подтвердил он горячо, видя полные недоумения и испуга глаза Ненси. – Это ли не эгоизм: старик, идущий к склону жизни… Ну, пять-шесть лет, ну, – десять… Что же дальше?.. И ради этого разбить семью, чужие молодые жизни? Да я себя бы не уважал!.. Ну, наконец, хорошо! Представь себе: я был бы так слаб духом, что допустил бы все это безумие. Ты можешь поручиться за исход? Ты можешь поручиться, – повторил он с еще большею силой, – что этот мальчик не выдержит удара и не пустит себе пулю в лоб? – возвысил он чуть не до крика свой голос.
Ненси вся похолодела.
– Тебе, конечно, подобная картина не приходила в голову? – продолжал он нервно и торопливо. – Ну, так представь себе: какое же возможно счастье, когда между людьми стоит мертвец?!
Ненси слушала его, ощущая какую-то неуловимую фальшь, но слова были полны такого благородства, голос дрожал, в глазах горел огонь… Да! Это был мученик, жертвующий своим счастьем во имя чужого благополучия.
– Люби меня! – прошептала она, задыхаясь от ужаса и смятения. – Чем больше я преступна, тем больше ты люби меня!
XVI.
Разорение одного богатого, титулованного землевладельца, еще недавно получившего крупный куш из дворянского банка, для поправления своих дел, взволновало губернские умы.
– Ужасно! ужасно!.. – кипятился вечером у Марьи Львовны Эспер Михайлович. – В какое время мы живем!? Имения разорены, купец восседает на прадедовских креслах, мужик топит печь фамильными портретами!.. И говорят: «поднять дворянство»!.. Нет, поздно-с! Ни ссудами, ни банками теперь уж не поднимешь!..
– Положим, этот господин во всем виноват сам, – вмешался в разговор Войновский, сидевший поодаль, возле Ненси.
Он встал и подошел к группе обычных завсегдатаев гостиной Марья Львовны.
– Ведь ссуда выдана была ему на дело, а он отправился в Монте-Карло… Кто же виноват?.. Культуры деловой в нас еще мало… Наружное все, показное… дикарь еще в нас живет… вот что! Татарщина!.. вот в чем беда!
– При чем же тут татарщина?
– Нет равновесия культуры, эстетики ума, – устойчивости нет!..
– Крестьянская реформа преждевременна – вот что! Вот причина всех причин! Наш сиволапый слишком сиволап!.. – злобно ораторствовал Эспер Михайлович. – Помилуйте, я про себя скажу: я человек не злой, – но даже не могу теперь, без негодования, проехать мимо моего бывшего имения. Купили у меня крестьяне… вчетвером… Ведь сердце кровью обливается: из дома сделали амбар, весь сад вырублен!.. Великолепные дубовые аллеи, кусты жасмина и сирени. Ни кустика, ни пня!..
– Что же, я их не виню, – спокойно произнес Войновский. – «Печной горшок ему дороже, – Он пищу в нем себе варит!» – продекламировал он.
– Но, cher, я вас совсем не понимаю, – возмутилась Марья Львовна. – Неужели вы не согласны, что наш мужик действительно, un être malheureux, полуживотное, – un animal terrible![141]
– Все будет в свое время, – шутливо успокоивал ее Войновский.
– Такое равнодушие граничит с нигилизмом, – наставительно пробасил Нельман. – Ведь этак до того можно дойти, что станешь отрицать религию, музыку и нравственность.
– До полной душевной апатии, – вставил скромно свое слово беленький, тихонький Крач.
– Напротив, я слишком люблю жизнь, как наслаждение, и просто не хочу себя ничем неприятным тревожить.
– Но есть сверхчувственное, что выше ординарной жизни, что служит символом иных, безбрежных наслаждений, – изрекла Серафима Константиновна, щуря свои прекрасные глазки.
– О, нет, я этой мудрости боюсь, – засмеялся Войновский. – Я жажду чувств земных и ощущений более реальных.
– Ведь так не далеко дойти и до животного, – уже более смело заметил Крач, желая поддержать жену, перед которой благоговейно преклонялся.
– Ну, что же? Я ничего не имею против этих, в своем роде, милых созданий, – все в том же небрежно-шутливом тоне продолжал Войновский. – Животное!.. Мне кажется, что человек уже чересчур самонадеян, и еслибы в нем не было животного – жизнь стала бы невообразимо скучна; но если вы отнимете культуру – инстинкты будут слишком грубы… Вот в известном сочетании этих-то двух начал и заключается наука жизни. Таков мой взгляд!..
– Mon cher, да вы толстовец!.. – захохотал Эспер Михайлович, знавший это слово только как модное и, очевидно, не понимавший его истинного значения, также как и смысла эпикурейской философии Войновского.
– Ах, cher, не вспоминайте мне! – горячо вступилась Марья Львовна: – этот Толстой и это… «не противься злу» всегда меня выводят из себя… Сама я не читала и читать не буду, но это так нелепо…
– И очень, очень вредно!.. – подтвердил глубокомысленно Ерастов. – Я видел на примере: один мой офицер… исправный офицер… читал, читал, и начитался разных там… идей. Представьте, что же выкинул: вышел в отставку, купил какой-то хутор, – живет теперь отшельником… Жена в отчаянии!..
– И наш Игнатов – пример перед глазами!.. – затараторил Эспер Михайлович. – Роздал имение, устроил какое-то братство, поучает, развивает… совсем с ума сошел!.. И тоже начитался…
– О чем вы задумались? – раздался над головой Ненси, покачивавшейся в качалке, нежный голос Серафимы Константиновны. – Вы так были сейчас красивы в своей задумчивой позе. Мне страшно жалко вас, – продолжала она, под шум несмолкающего разговора, – в вас столько поэтичной неосязаемости… а жизнь вокруг идет таким обычным ритмом… все это так обыкновенно!.. – и ее узенькие плечи вздрогнули, а на лице явилось выражение брезгливого недовольства. – Мне все и вся противно, а вас мне жалко!..
Ненси, движимая чувством благодарности, протянула ей свою маленькую ручку, на что Серафима Константиновна ответила мягким, теплым пожатием.
– Когда я буду с вас писать, когда мы обе, переживая настроение, уйдем далеко от всей этой ничтожной, не оригинальной жизни, – тогда поймете вы, что есть минуты бесконечного и на земле… Вы понимаете меня?.. Минуты бес-ко-нечного!.. А где конец – там нет иллюзии, там нет блаженства!..
Ненси было грустно, и ее приятно баюкала туманная, непонятная ей речь странной Серафимы Константиновны.
Городская жизнь, в этом году, изобиловала событиями, как никогда.
Спектакль m-me Ласточкиной совсем наладился, и уже готовились приступить к репетициям; ученики реального училища послали, с разрешения директора, поздравительную телеграмму в Париж, по поводу юбилея одного парижского учебного заведения; в местном университете, в отклик столицам, поволновались студенты; в городе, по этому поводу, ходили таинственные толки о многочисленных арестах, на что Нельман только добродушно посмеивался, какая-то наивная, юная фельдшерица, приехавшая на место, только что окончив курс, подала в управу заявление о возмутительных порядках больницы и злоупотреблениях смотрителя, и была выгнана вон за неуживчивость характера; поговаривали о том, что фонды m-me Ранкевич значительно пошатнулись и даже указывали ее заместительницу, маленькую, курносенькую блондинку – жену корпусного врача, причем все, даже самые ярые недоброжелательницы m-me Ранкевич, так возмущавшиеся раньше ее поведением, – теперь страшно за нее обиделись и готовы были всячески отстаивать ее права; в загородной слободе какая-то мещанка, в сообщничестве с любовником, утопила в проруби своего пьяного мужа, и таинственно был убит, дамой легкого поведения, один из блестящих армейских дон-жуанов…
…А в охотничьем домике, среди полудеревенской природы, все продолжало совершаться медленное бескровное убийство человеческой души…
XVI.
Жизнь Ненси осложнилась прибавлением новых занятий: начались репетиции любительского спектакля и сеансы у Серафимы Константиновны. Ненси решительно не имела ни минуты свободной.
Серафима Константиновна писала ее лежащею на черной медвежьей шкуре, с золотым обручем на голове и живописно распущенными по плечам волосами. Наверху искусно сгруппированные, редеющие облака изображали голову Юпитера; немного ниже, сбоку, в лучах розового рассвета, на колеснице спускалась Аврора, осыпая розами черный, пушистый мех, на котором лежала Ненси. Картина называлась: «Отдыхающая весна», и художница решила послать ее на выставку в Петербург.
Серафима Константиновна набросала эскиз, чтобы показать его Марье Львовне. Та осталась очень довольна идеей, но нашла изображение «Весны» несколько откровенным и попросила закутать Ненси хотя бы в белый прозрачный газ.
– Все же это будет скромнее. Я покупаю у вас теперь же эту картину… заранее, – прибавила она.
Отчасти по недостатку средств, а главное для большого количества света, супруги Крач забрались на самый верх большого, заново отстроенного, каменного дома. Квартира их помещалась в четвертом этаже. Лучшая комната была обращена в мастерскую, где среди блеклых кусков старинных материй висели эскизы и картины Серафимы Константиновны, изобилующие такими же блеклыми, точно потускневшими красками. Она не любила ничего яркого ни в природе, ни на полотне. Затем имелись: маленькая, небогато, но со вкусом убранная гостиная, столовая и спальня, где возле украшенной балдахином кровати Серафимы Константиновны приютились: простая, скромная кроватка и письменный стол беленького Крача, доводившего до minimum'а свои личные потребности, во имя удобств и прихотей талантливой супруги.
Ненси приезжала часов в одиннадцать каждый день, так как художница торопилась работой, боясь потерять «минуту настроения».
Когда сеанс, в виду светлого дня, затягивался, Серафима Константиновна приказывала подать завтрак в мастерскую и в своем оригинальном сером рабочем костюме, похожем на греческий хитон или римскую тунику, сама прислуживала «Отдыхающей весне». Изящными, белыми ручками наливала она шоколад в красивые, ею самой расписанные чашки, подкладывала сухарики, очищала грушу или апельсин, не пропуская случая нежно поцеловать свою прелестную «натуру».
Сначала Ненси стеснялась необычайностью всей обстановки, но вскоре она привыкла к тому, находя все это забавным и даже интересным.
Репетиции спектакля тоже не особенно ладились. М-me Ранкевич то капризничала, то вовсе не приезжала, и зачастую, прождав ее напрасно, собравшиеся расходились.
– Бедная!.. Я ее не обвиняю, разрыв почти совершился, – таинственно сообщала Ласточкина, – ей, конечно, теперь ни до чего, она голову потеряла, обращалась даже в отцу Никодиму, чтобы повлиял, – еще таинственнее присовокупляла директорша, – ничего не помогло!.. Однако, что же нам!.. – забыв через минуту свои сожаления, возмущалась она. – У меня тоже главная роль, а мы еще ни разу не репетировали из-за этой злосчастной кривляки!..
В последних числах февраля, совершенно неожиданно, как снег на голову свалилась Сусанна. Не оповестив заранее о своем приезде, она явилась в утреннему кофе, бодрая и свежая, несмотря на три дня, проведенные в вагоне.
Марья Львовна до того растерялась от неожиданности ее появления, что сначала даже как будто обрадовалась непрошенной гостье. Она сейчас же устроила дочь в небольшой угловой комнате, рядом с комнатой Ненси. Пока переносили и ставили на место сундуки, Сусанна успела шепотом сообщать матери, что ее роман с итальянцем кончился очень печально; из ревности этот «brigand»[142] чуть не застрелил ее, и теперь она – «seule» и «abandonnée»[143].
Она сразу вошла в жизнь своей семьи, очаровала своей внешностью и особым складом заграничной дамы всех друзей и знакомых Марьи Львовны.
– У нас теперь: bébé-charmeuse и maman-charmeuse![144]– восклицал в восхищении Эспер Михайлович.
– А grand'maman[145]? – спросила его слащаво Сусанна, наивно поднимая свои, и без того круглые, черные брови.
– La pins grande de toutes les charmeuses…[146]– нашелся изворотливый Эспер Михайлович.
– Trop vieille déjà, mon cher[147], – произнесла сухо Марья Львовна, недовольная и Сусанной, и этим разговором.
Практическая мамаша предвидела все вперед. Она знала, что Марьей Львовной составлено духовное завещание всецело в пользу внучки, и была поэтому чересчур ласкова и предупредительна с Ненси, видимо заискивая в ней.
Однажды, после обеда, она нежно обняла дочь и, прогуливаясь с нею по большой зале, стала участливо расспрашивать о Юрие, о их отношениях, планах в будущем… сожалела, в то же время, о их настоящей разлуке.
Ненси ножом резали по сердцу все эти вопросы. Она не могла на них отвечать; она только все ближе и ближе прижималась к матери, как бы ища защиты.
– Ты точно боишься меня? – удивлялась ее молчанию Сусанна. – Но я понимаю и не виню!.. Grand' maman всегда меня отстраняла от моего единственного ребенка… Бог ей судья! – и, вздохнув, она даже вытерла тонким, надушенным платком навернувшиеся на глазах слезы, вообразив, вероятно, что действительно страшно страдала от разлуки с единственной дочерью.
– Но теперь… теперь, – продолжала она, увлекаясь ролью любящей матери, – c'est autre chose; ты взрослая, une femme mariée, и мы с тобой можем быть друзьями – comme des amies, не правда ли?.. просто как товарищи… Теперь я тебе нужнее, как мать, как друг… Мое присутствие около тебя необходимо… Assez! – решила я, довольно! – j'ai une fille[148], она зовет меня к себе!
Слова эти задели самые больные струны одиноко страдающего сердца бедной Ненси, взбудоражили все, что лежало на дне ее истерзанной души. Она не почувствовала их фальши, и, припав к плечу матери тихо, жалостно заплакала.
– Mon enfant chérie, tu pleures? – воскликнула Сусанна.– Tu es malheureuse?[149]
Ненси вздрогнула, закрыла лицо руками и, всхлипывая, убежала в себе.
И в первый раз в жизни ей захотелось материнской близости. Теперь, когда она так одинока, когда она не в силах ни разобраться в сложных, запутанных обстоятельствах, ни уяснить себе, куда идти, что делать – теперь, когда душа ее изнемогала от тоски и горя – как всепрощающий, как верный друг, теперь ей была нужна мать. С этой минуты установилась невидимая, но дорогая сердцу Ненси связь между нею и матерью. Ненси не замечала ни искусно подкрашенных щек Сусанны, ни ее фальшивого слащавого тона – она создала в своей душе какой-то совсем иной облик и носилась с ним, и лелеяла его. Страстное желание высказаться с каждым днем охватывало ее все сильнее и сильнее, точно она ждала для себя спасения в этой исповеди.
И вот, наконец, минута наступила.
Как-то вечером, ложась спать, Ненси, сгорая от стыда и муки, поверила матери тайну своего изболевшего сердца.
Обе они находились в розовой спальне Ненси. Сусанна, в палевом пеньюаре, обильно отделанном кружевами, сидела на маленьком уютном диване. Она задумчиво покуривала папироску и, с наслаждением выпуская колечки дыма из своего пухлого рта, рассеянно слушала взволнованную речь сидящей возле нее дочери.
– Зачем это? Зачем? – воскликнула, в неудержимой тревоге, бледная, вся дрожащая Ненси. – Я хочу знать – зачем?
– Зачем? Oh, pauvre enfant, tu es trop jeune![150]
– Точно надвинулось что-то… и нет сил сдвинуть!.. – глухо сказала Ненси. – Камень!.. камень!..
Она беспомощно упала головой на стол.
– О, Боже мой, как все это просто!.. – с легкой улыбкой произнесла Сусанна, продолжая любоваться дымом своей папироски.
– Просто? – Ненси быстро подняла голову. – Она устремила на мать внимательные, жаждущие ответа, лихорадочные глаза.
– Конечно! Ты только напрасно осложняешь жизнь!.. Ты можешь мне довериться: я мать, я твой друг! Все это очень, очень просто, поверь мне!..
– Просто!.. – с горечью, убитым голосом проговорила Ненси. – А мне так больно!.. Зачем же, если просто?..
Сусанна улыбнулась.
– Ты женщина – une femme mariée[151], ты понимаешь… Темперамент!
– Просто? – соображала Ненси, как бы не слыша этих слов:– и бабушка… та тоже… просто…
– Ну, grand' maman – другое дело, та вечно была романтична, романы – ее слабость… а я смотрю на жизнь как должно, трезво… Ты понимаешь…
Чувственные глаза Сусанны слегка подернулись влагой.
– Ты понимаешь: un homme déjà âgé – pour une jeune femme[152] – ведь это море наслаждения… Вот нам – другое дело, – усмехнулась она загадочно, – когда приходит бабье лето… Ты понимаешь? О, тогда il faut de la jeunesse!..[153]
С ужасом отпрянула Ненси от этой откровенной в своем цинизме женщины… Точно сразу что-то оборвалось в ее душе. Она стала сейчас же поспешно раздеваться и бросилась в постель.
– Tu dors déjà?[154] – раздался над нею сладкий голос Сусанны, и Ненси почувствовала нежное прикосновение ее руки. А Ненси, оставшись одна, долго неудержимо рыдала…
XVII.
Фыркая и отбрасывая рыхлый снег, подкатили кони в резвому крылечку охотничьего домика.
Все было уже приготовлено в приему гостей гостеприимным хозяином: в гобеленовой комнате их ожидал роскошно сервированный обеденный стол. Повар был прислан с утра. В вазах стояли редкие еще для времени года розы. Запах тонких духов носился в воздухе. Благоухали и столовая, и стильная спальня, и маленький зимний сад, где с духами смешивался свежий аромат растений.
Войновский, не без самолюбивой гордости, выслушивал похвалы своему поэтическому уголку. Он самодовольно улыбался, и его волоокие глаза светились веселым блеском.
Пигмалионов увивался возле Ненси, топорща особенно усердно на этот раз свои тараканьи рыжие усы.
Ненси было скучно. Ей было тяжело и обидно, и ей казалось, что все это видят, замечают, и не понимала она, как он мог это допустить… И не было ему ни больно, ни стыдно, а даже весело?
– Зачем мы приехали сюда? – спросила она его шепотом с тоном упрека.
– Я так привык… я люблю… Я каждый год устраиваю пикники, – ответил он с беспечной, радостной улыбкой.
В ожидании обеда, Сусанна расположилась на большом диване и, нюхая красную розу, слушала, с хохотом, анекдоты игривого свойства, передаваемые довольно откровенно Эспером Михайловичем.
Все чувствовали себя как дома.
– Не ревнуй, глупая мышка! – проговорил Войновский, проходя мимо спальни, где сидела, в большом кресле, грустная Ненси. – Ведь здесь обыкновенно бывал целый цветник дам, а теперь видишь: только ты и твоя мать.
Он пошел к повару – поторопить его. Когда он возвращался, Ненси продолжала сидеть в той же позе и с теми же грустными глазами.
– Ну… ну!.. – он ласково потрепал ее по щечке. – Ты знаешь, я не люблю обычных женских сцен… Будь умница, не надо сентиментов!..
Обильная закуска, горячий бульон, янтарная, великолепная осетрина, шофруа[155] из перепелов, l'asperge du Nord[156] в замороженных, ледяных, сверкающих блеском настоящего хрусталя, формах, синий огонь пылающего плям-пуддинга, дорогие французские вина, холодное шампанское – все это вызывало еще более веселое настроение у собравшегося общества.
Предложенные, во время кофе, радушным хозяином гаванские сигары приятно щекотали нервы своим душистым ароматом.
Огромный, из разноцветных стекол, с выпуклыми фигурами, фонарь фантастически пестрил комнату, причудливо играя синими, красными, зелеными бликами на лицах.
Казалось, что дух Бахуса витал в этом роскошном уголке и радовался и поощрял в веселью своих новейших поклонников.
Уже немного опьяневшие Пигмалионов и Уверенный отважно налегли на ликеры, спаивая юного Сильфидова и беленького Крача, неизвестно каким образом залученного в эту компанию.
Сильфидов изо всех сил старался поддержать честь бравого офицера, опорожняя рюмку за рюмкой и громко, глупо, без всякой причины смеялся; Крач имел унылый вид; его маленькие посоловелые глазки усиленно моргали.
Войновский и Сусанна пропали неизвестно куда. На Ненси никто почти не обращал внимания, и она была этому рада. С той минуты, как голоса приехавших раздались в стенах охотничьего домика, ей казалось, что стены эти точно обнажились, и все тайное сделалось явным: и стулья, и столы, и диваны рассказывали о позорно-сладких и мучительных часах, проведенных ею здесь. Чувство панического ужаса охватило ее. Она решила незаметно исчезнуть.