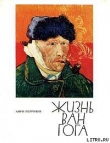Текст книги "Винсент ван Гог. Очерк жизни и творчества"
Автор книги: Нина Дмитриева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Винсент Ван Гог прожил тридцать семь лет; только в двадцать семь лет он решил стать художником и стал им примерно к тридцати юдам. Таким образом, вся его художественная биография укладывается в одно десятилетие.
За этот недолгий срок он сделал свыше восьмисот картин и еще больше рисунков. Только одна картина при его жизни нашла покупателя: это отношение – один к восьмистам – показывает меру прижизненной популярности Ван Тога. Зато посмертная популярность, увеличиваясь год от года сначала медленно, потом с нарастающим ускорением, достигла почти фантастических масштабов. Со временем произведения Ван Гога были приобщены к лику художественных абсолютов, поставлены выше достоинств и недостатков.
Написано ли полотно сильнее или слабее – раз оно принадлежит кисти Ван Тога, этого достаточно, чтобы стать гордостью любой галереи мира, обогатить торговца картинами, осчастливить коллекционера, вызвать поток подражаний и подделок.
Порой кажется, что история жизни Ван Гога будто нарочно кем-то задумана как драматическая притча о тернистом пути художника, вступившего в единоборство с враждебными обстоятельствами, надорвавшегося в неравной борьбе, но одержавшего победу в самом поражении. Судьба Ван Гога с такой жестокой последовательностью воплотила эту «притчу» об участи художника конца века, что рассказ о ней не нуждается в домыслах и вымыслах: так было.
Но почему так было? Почему одни и те же картины сначала не вызывали ничего, кроме равнодушия и раздражения, а потом стали цениться на вес золота? Разве люди так изменились за несколько десятков лет? Или причина – в необъяснимых поветриях моды, эпидемических увлечениях, прихотях рынка? Но слава Ван Гога утвердилась прочно и не померкла, когда схлынула волна очередной моды.
А ведь были художники, его современники и в какой-то мере сподвижники, которые делали вещи, может быть, и более искусные, однако их имена теперь помнят только историки.
Нет однозначных ответов на такие вопросы.
Тут соединилось многое: потрясения в умах, перевороты в художественных вкусах, исторические сдвиги, принесенные XX веком.
И запоздалое обнаружение тех предвестий, предвосхищений, какие всегда заключены в подлинно великом искусстве. Общество, которое побаивается будущего, не любит предвосхищений, отворачивается от них. Только когда накоплен социальный опыт, оправдывающий предвидения художника, настает черед его признания.
Ван Гог отдал своему искусству огромный заряд духовной энергии, – это был заряд замедленного действия, но энергия не пропадает: рано или поздно начинается процесс ее обратного превращения в энергию жизни. Чаще поздно, чем рано.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ родился 30 марта 1853 года в семье голландского пастора. Родословная Ван Гогов прослеживается вплоть до XVI столетия: их предок участвовал в войне Нидерландов за независимость. В следующих поколениях преобладали две профессии – протестантских священников и торговцев картинами. Винсент Ван Гог испробовал обе, прежде чем стал художником.
Его детство проходило в тихом брабантском местечке Гроот Зюндерт, среди полей и лугов. Через много лет, почти в конце жизни, он признавался: «Во время болезни я вспоминал каждую комнату в нашем зюндертском доме, каждую тропинку и кустик в нашем саду, окрестности, поля, соседей, кладбище, церковь, огород за нашим домом – все, вплоть до сорочьего гнезда на высокой акации у кладбища».
В середине XIX века Голландия, особенно сельская, была еще похожа на ту, которую мы все знаем по картинам голландских пейзажистов XVII столетия. Сохранялись (отчасти даже и теперь сохраняются) неповторимые черты ее ландшафта: сочные луга и пастбища со стадами коров, широкие и узкие каналы почти вровень с землей, подъемные мосты и мостики, пески дюн, бесчисленные ветряные мельницы, невысокие дома, шпили церквей. Небо облачно, воздух серебрист и насыщен влагой. Поля определяют облик этой равнинной страны, лежащей ниже уровня моря, но они никогда не выглядят пустынными – пейзаж Голландии населенный, обжитой, «сделанный» руками людей. Голландцы из века в век сопротивлялись угрозе моря и отвоевывали сушу; им приходилось трудиться, не покладая рук и не угашая бдительности, в размеренном, напористом ритме. Когда Ван Гог впоследствии, живя во Франции, наблюдал работу французских крестьян, она казалась ему вялой по сравнению с работой его соотечественников, несмотря на живость французского темперамента, не похожего на спокойный, несколько замкнутый склад голландских характеров. Флегматичные голландцы – упорные и настойчивые труженики.
Может быть, именно из глубины ранних, детских впечатлений, ставших частью его личности, у Ван Гога осталось неистребимое пристрастие к пейзажу «с фигурами» – работающими фигурами, и сама природа всегда представлялась ему работающей – движущейся, действующей.
По семейным преданиям, он с детства любил долгие одинокие прогулки, собирал растения, наблюдал птиц.
Земля его родины осталась у него в крови; неуемный странник, он всюду носил ее с собой. Но он был не в ладу с голландским бюргерским бытом, с чинным, законсервированным образом жизни «средних людей» – торговцев, чиновников, духовенства.
Вошли в поговорку чистота и уют голландских жилищ, но в этих опрятных домиках людей среднего достатка не так-то легко дышалось, хотя они хорошо проветривались. То, что мы называем филистерством, обывательской ограниченностью, буржуазными предрассудками, свило здесь прочное гнездо. Не составляла исключения и семья пастора Ван Гога, человека небогатого, но и не бедного, образованного, но ограниченного, не злого, но нетерпимого ко всякому нарушению условностей, раз навсегда принятых.
Мятежный дух его старшего сына Винсента обнаружился не сразу: в детстве и отрочестве он был и послушен, и благочестив, и почитал родителей. Просто он выглядел каким-то не совсем удачливым. У него был неуравновешенный характер, бывали приступы странной замкнутости, отрешенности, и тогда он казался чужим в своей довольно большой семье (отец, мать, три сестры и двое братьев). Эта отчужденность с годами росла, оставалась неизменной только привязанность к младшему брату Тео.
Одиннадцати лет Винсента поместили в школу-пансион в Зевенбергсне, ближайшем городке. Он учился прилежно, но не очень успешно. Вероятно, по этой причине его взяли из школы до окончания, и уже в 16-летнем возрасте он начал работать. С помощью дяди, компаньона крупной парижской художественной фирмы Гупиль, Винсент поступил младшим продавцом (то есть попросту приказчиком) в Гаагский Салон фирмы. Тут он проработал четыре года, потом был переведен в лондонский филиал, затем в Париж, потом опять в Лондон. Так начались – сначала вынужденно – его нескончаемые перемены мест. В общей сложности Винсент пробыл служащим фирмы Гупиль шесть лет. Его брат Тео тоже пошел по этой стезе и, в отличие от Винсента, на ней укрепился, до конца дней занимаясь торговлей картинами в Париже. Только благодаря его денежной поддержке старший брат мог впоследствии посвятить себя живописи. И только благодаря их многолетней переписке мы узнали многое о личности Винсента Ван Гога.
Редко кто из художников был способен на такое искреннее самораскрытие, как Винсент Ван Гог в письмах к Тео. Это летопись его жизни, месяц за месяцем и год за годом длящаяся исповедь, тем более ценная, что ее автор и в мыслях не имел «работать на публику».
Уже ранние письма, относящиеся к годам работы у Гупиля, рисуют юношу далеко не обычного склада. Кажется, у него вовсе отсутствует естественный эгоизм юности: он не мечтает ни об удовольствиях, ни об успехах, но захвачен идеей тихого подвижничества, идеей долга своего перед миром. Молодой Ван Гог чувствует себя призванным к самоотверженному служению людям, хотя еще не знает – как, каким способом. Он сочувственно цитирует Ренана: «Чтобы жить и трудиться для человечества, надо умереть для себя», – не догадываясь, каким горьким пророчеством это для него обернется. В сущности, ему вовсе не хотелось «умереть для себя», да и кому это хочется в двадцать два года!
Ван Гог по натуре не был пессимистом. Он всегда обнаруживал склонность находить хорошее и надеяться на лучшее. «Я изо всех сил стараюсь видеть во всем сперва бесспорно хорошую сторону и лишь потом, с крайней неохотой, замечаю также и плохую». Занятие продавца картин до поры до времени не казалось ему ни унизительным, ни скучным: он находил его «замечательным делом» и радовался, узнав, что и Тео взялся за него. Оно доставляло ему, по его словам, «много радостей», – конечно, радостей общения с живописью. Тут он полюбил живопись впервые и навечно. Поначалу еще без строгого выбора. Ему нравилось чуть ли не всё: и старые мастера и современные. В письме из Лондона он перечисляет больше пятидесяти имен художников, которых «особенно ценит», и в заключение говорит: «Я мог бы продолжать список бог знает как долго».
Однако уже в эти годы он все решительнее выделяет среди своих многочисленных любимцев два навсегда священных для него имени: Рембрандт и Миллс. Позже он присоединил к ним Делакруа.
Сельская природа была первой любовью Ван Гога, живопись – второй; обе укоренились прочно. В двадцать один год он пережил и любовь к женщине – юной Урсуле Лойер, дочери его квартирной хозяйки в Лондоне. В письмах из Англии Винсент умалчивал о своей любви, но самый тон их показывает, что тогда он чувствовал себя счастливым. Продолжалось это недолго. Несколько лет спустя он вспоминал, как кончилась его платоническая юношеская любовь: «Я отказался от девушки, и она вышла замуж за другого, а я ушел, но не мог ее забыть». Этот эпизод биографии Ван Гога не очень ясен. Видимо, его чувство не оставалось безответным, тем не менее он «отказался». По косвенным данным можно предположить, что причиной было несогласие отца Винсента на брак сына с католичкой (Урсула, француженка по происхождению, принадлежала к католической церкви). Отец был тогда великим авторитетом для молодого Ван Гога. Он и сам был чрезвычайно религиозен. После разрыва с невестой его религиозные настроения еще усилились, а работа в Салоне начала тяготить. Его художественные вкусы все больше расходились со вкусами покупателей и требованиями хозяев фирмы. Поэтому он не был ни слишком удивлен, ни расстроен, когда в 1876 году ему отказали от места. Карьера торговца картинами не состоялась, надо было начинать что-то другое и с самого начала.
Тогда он был еще далек от мысли стать художником. Любить живопись – одно, а самому ею заниматься – совсем другое. Отчасти как раз потому, что Ван Гог так высоко ценил живопись, он считал ее для себя «чем-то невозможным и недостижимым», о чем лучше и не мечтать.
Он, впрочем, время от времени рисовал, но совершенно по-любительски, не обнаруживая больших способностей. Рисовал так, как многие в юности пишут стихи: чтобы дать разрядку взволнованным чувствам. Ранних рисунков сохранилось мало – ни он сам, ни окружающие, конечно, не заботились о том, чтобы их сберечь для потомства. Кое-что все-таки уцелело. Это «кое-что» никак не предвещает будущего великого художника.
Самое раннее – несколько больших аккуратных рисунков, подаренных Винсентом отцу; считается, что они сделаны в 10—11-летнем возрасте. Рисунки изображают: собаку, кружку, ионическую капитель. В них нет ни детской непосредственности, ни самостоятельности: прилежные и сухие, старательно оттушеванные, они, скорее всего, скопированы с какого-нибудь учебного пособия. Очевидно, Винсент тогда еще не увлекался этим занятием, а видел в нем нечто вроде урока по чистописанию.
Рисовать увлеченно и по-своему он начал гораздо позже, собственно уже взрослым. Польской исследовательницей Анной Шиманской недавно разысканы и опубликованы три тетрадки с рисунками, которые молодой Ван Гог в свое время подарил маленькой девочке – Бетси Терстех, дочери сотрудника фирмы Гупиль. Из письма Винсента к Бетси явствует, что они относятся к 1873–1874 годам, когда Винсент жил в Англии, а на каникулы приезжал домой. Эти рисунки совсем не похожи на мертвенную оттушеванную капитель: они довольно живые, хотя наивные и неумелые. Особенно «детскими» выглядят рисунки первой тетради – детскими не только по мотивам, но и по манере. Нарисованы стрекозы и жуки, птицы в гнезде и в клетке, козочки, рыбы в аквариуме, охотник с собакой, не выдерживающий критики с точки зрения анатомии; есть и смешные рисунки – собака в шляпе курит трубку. Во второй и третьей тетрадях – более сложные композиции и пейзажи: старушка у окна, едущий дилижанс, крестьянский дворик; на одном из листов скомпонованы женский портрет и два фрагмента пейзажа: один – с высокими церковными башнями, другой – с каналом и мельницей вдали.
Должно быть, Винсент начал делать эти тетрадки с целью позабавить свою маленькую приятельницу, а потом стал заполнять их зарисовками по собственному усмотрению и пристрастию. А. Шиманская замечает, что во второй и третьей тетрадях сказались впечатления от музейных картин: например, ваза с цветами и бабочками напоминает по композиции традиционные голландские натюрморты. Как самый интересный, в какой-то мере уже «вангоговский» рисунок А. Шиманская выделяет изображение темной и тревожной аллеи, уходящей в глубину.

Но все это еще беспомощно в профессиональном отношении и даже нельзя сказать, чтобы талантливо. Особенно если иметь в виду, что рисунки делались не подростком, а уже 20-летним юношей! Для сравнения вспомним хотя бы, что Серов в двадцать три года написал «Девочку с персиками», а двадцатилетний Пикассо был уже автором знаменитых «голубых» полотен.
Расставшись с фирмой Гупиль, Ван Гог должен был искать новую работу – и новую профессию. Ему предложили место помощника учителя (без жалования – за стол и жилье) в английской частной школе. Он принял это место и взялся за воспитание мальчиков с той же истовой серьезностью и надеждой, какую вкладывал во все, что начинал делать, пока не наступало разочарование. Мы знаем, хотя бы по романам Диккенса, что представляли собой тогда английские частные пансионы для детей небогатых родителей: более чем спартанские условия жизни в интернате, скудная кормежка, наказания за малейший проступок, вечно голодные воспитанники и немногим менее голодные и забитые воспитатели, полная зависимость тех и других от «настроения» хозяина пансиона. Школа, где работал Ван Гог, была достаточно унылым местом.
Работа школьного учителя скоро навела его на мысль об учительстве более возвышенном – о миссии религиозного проповедника. Тут-то, как ему казалось, он обретет свое настоящее призвание и его мечты о самоотверженном служении людям осуществятся. В этом намерении его укрепил вид лондонской бедноты, фабричных рабочих, детей, у которых отнято детство, юношей, у которых отнята юность, заброшенных стариков. С этими людьми он хотел быть, для них трудиться, зажечь им духовный свет. Он заранее представлял себе, как будет проповедовать евангелие в среде бедняков, как будет поддерживать их в их трудной жизни. Это было не поверхностное увлечение. Быть «тружеником во Христе» казалось тогда Ван Гогу самым достойным человеческим уделом. Он решительно отвергал легкую жизнь, хотел бремени, хотел креста, был готов к лишениям.
Но потратить годы на обучение на богословском факультете (как советовали ему родители и родственники), на шесть лет превратиться в школяра, – к этому он не был готов. Ему не терпелось скорее, не откладывая, приняться за свою миссию. Все же он сделал добросовестную попытку послушаться родных – он еще не вышел из традиций повиновения. Отец, разумеется, одобрял стремление сына к религиозному апостольству, но он хотел бы видеть его дипломированным и процветающим апостолом где-нибудь на столичной кафедре, а не бродячим проповедником. С благословения семьи Винсент начал занятия богословием в Амстердаме, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам на теологический факультет университета. Начал с мыслью: «Поскорее бы только большая и напряженная работа, без которой не сделаться служителем евангелия, осталась наконец позади!» Он очень старался. Зубрил латынь и греческий, штудировал Библию, изучал историю, даже искренне увлекался ею. Заниматься чем-либо, не вкладывая душу, слегка, кое-как, он никогда не мог. Когда он охладевал – он должен был уйти, и тут уж никакие увещания не могли на него подействовать. В решающие моменты жизни у него появлялось несокрушимое упорство.
Его прилежания в богословских науках хватило всего на год. Гонимый растущим беспокойством, он перевелся из Амстердама в миссионерскую школу в Бельгии, вблизи Брюсселя (там срок обучения был короче), где ему приходилось часто наблюдать людей, работавших в шахтах. И его желание «нести свет во тьму» вспыхнуло с новой силой: на этот раз оно имело определенный адрес, обратившись на тех, «кто работает во тьме, в черных недрах земли». Уже без колебаний он покинул до срока миссионерскую школу и в декабре 1878 года отправился в Боринаж, центр добычи угля на юге Бельгии. Там он получил место проповедника.
Это был крутой и суровый перелом в жизни Ван Гога. Хотя он и раньше переезжал с места на место, менял занятия, нуждался, и роковое клеймо неудачника уже нависало над ним, все же он удерживался в рамках относительно «приличного» существования, по понятиям его среды. Теперь, в Боринаже, он оказался в иной среде, глубоко и болезненно поразившей его впечатлительную натуру, и его образ жизни совершенно переменился.
Была зима, когда он впервые прибыл в мрачное шахтерское селение Боринаж, где сразу ему почудилось «что-то жуткое и мертвенное». Безмолвные лачуги углекопов, высокие трубы и горы угля у входа в шахты, искривленные деревья, закопченные до черноты, черные, как трубочисты, люди, бредущие вечерами домой по снежной равнине, черные колючие изгороди на снежном фоне (они напомнили ему черный шрифт на белой бумаге – как страница Евангелия) – вот что увидел он там, и там он впервые родился для искусства – художник ярчайших в мире красок.
Перед тем, как стать художником, он навсегда покончил с миссионерством, пережил разрыв с церковью, ссору с семьей и, как следствие всего этого, полную и отчаянную нищету.
Это произошло так. Сначала Ван Гог с жаром принялся читать углекопам проповеди. Его паству составляли люди, до предела изнуренные, истощенные, изглоданные злокачественной лихорадкой. Условия их жизни были хуже, чем можно было себе вообразить. Ван Гог сам спускался в шахту, на глубину семисот метров под землей, был в забоях, напоминающих ниши в склепе, где рубят уголь лежа и отовсюду просачивается вода, видел старообразных детей, мальчиков и девочек, работающих на погрузке угля. Видел молодых женщин, казавшихся старухами.
Положение «пастыря» ставило Ван Гога – молодого, здорового человека – как бы вне и над средой шахтеров; совесть его против этого восставала. Он не чувствовал себя вправе их поучать, не деля их судьбу. «Им свойственны инстинктивное недоверие и застарелая глубокая ненависть к каждому, кто пробует смотреть на них свысока. С шахтерами надо быть шахтером и держаться по-шахтерски, не позволяя себе никакого чванства, зазнайства и заносчивости, иначе с ними не уживешься и доверия у них не завоюешь». Ван Гог завоевал их доверие не проповедями – делами.
1879 год был в Боринаже грозным годом. Один за другим произошли три взрыва на шахтах со множеством человеческих жертв. Вдобавок свирепствовали эпидемии тифа и злокачественной лихорадки, в некоторых домах болели все поголовно и за больными некому было ходить. Раньше, когда Винсент только готовился к поездке в Боринаж, вычитав в каком-то справочнике, что «бельгийский шахтер обладает счастливым характером: он привык к такому образу жизни», и наивно этому поверив, он предвкушал в своих мечтах нечто вроде евангельской идиллии: он будет «проповедовать евангелие беднякам, то есть тем, кто в нем нуждается и кому оно особенно близко, а все свободное в течение недели время посвящать учению» (он разумел – изучению богословия). Теперь он слишком хорошо понял, что бедняки нуждаются не в богословии, а в улучшении условий труда, в пище, лекарствах и врачах. Что же касается свободного времени в течение недели – у Винсента его не оставалось. Он обходил хижины, помогал больным. Горько жалел, что никогда не изучал медицину. Одного углекопа, получившего при взрыве рудничного газа тяжелые ожоги, Ван Гог взял на свое попечение и ухаживал за ним два месяца, пока тот не поправился. Другого, беспомощного старика, поселил на зиму у себя, делил с ним пищу и кров. Все это он делал не по обязанности священнослужителя: пылкая, сердечная отзывчивость была свойством его натуры. Казалось бы – свойство, которое должно цениться церковью. Но вышло не так.
Серия катастроф завершилась бурным возмущением и массовой забастовкой: углекопы требовали от хозяев гарантии безопасности труда. События граничили с восстанием. Для усмирения были мобилизованы жандармы и даже армейские части. На церковников же возлагалась обязанность уговаривать и утихомиривать рабочих, а так как рабочие заявляли: «Мы послушаемся только нашего пастора Винсента», то ему и было это поручено. Но Винсент поступил иначе: он солидаризировался с забастовщиками и сам вступил в конфликт с администрацией шахт.
Это и было настоящей причиной того, что синод протестантской бельгийской церкви отстранил Ван Гога от должности проповедника. Но об этом не говорилось прямо: официальной причиной было выставлено отсутствие у него должного красноречия. Сохранился документ – решение синодального комитета. Документ поистине фарисейский. В нем признается, что господин Винсент Ван Гог обнаружил похвальную самоотверженность, подобающую служителю церкви, помогая больным и обездоленным, отдавая им свое платье и жертвуя собственным покоем, но для служителя церкви не менее необходим дар слова, а его-то, увы, недостает господину Ван Гогу, и потому не представляется возможным далее использовать его в качестве проповедника евангелия.
Лицемерие и предательство церковных властей потрясло Ван Гога до глубины души; его традиционное благоговение перед священнослужителями рухнуло раз и навсегда: он понял, что они не более чем равнодушные чиновники.
С тех пор Ван Гог оставался непримиримым противником духовного сословия. Вообще снисходительный и терпимый к человеческим недостаткам, незлопамятный, никогда не спешивший никого осуждать, он высказывал горькие и резкие суждения, когда речь шла о служителях церкви.
Более сложным было его отношение к религии, но как бы то ни было, экзальтированная юношеская религиозность больше никогда не возрождалась, а «мистицизм» стал в устах Ван Гога прямо-таки бранным словом.
Тогда же, во время боринажских событий, изменились отношения Винсента с отцом. Когда Винсент лишился места, между ними произошла ссора: отец, не желая вникнуть в суть дела, увидел во всем случившемся только доказательство, что его сын ни к чему не способен, неуживчив, обуза и крест семьи. Тут ему, вероятно, был поставлен на вид и разрыв с фирмой Гупиль, и то, что он не поступил в университет, хотя ему так старались помочь, и даже его небрежность в одежде, убогость его жилья, недостойные человека из порядочного общества. Эти упреки не только оскорбили Винсента, но разочаровали его в отце. Духовный авторитет отца был так же развенчан в его глазах, как авторитет церкви. Он продолжал любить отца, но любить «по-своему», сознавая, что между ними нет и не будет общего языка. Отныне в письмах к брату он отзывался об отце без былого почтения, как бы с иронической снисходительностью.
Но даже и брат, нежно любимый Тео, в эти тяжелые дни не встал на сторону Винсента. На целых девять месяцев между братьями прервалась переписка.
Трудно представить, как пережил эти месяцы Винсент, оставаясь по-прежнему в Боринаже без всяких средств к существованию, выгнанный проповедник на положении люмпен-пролетария. Именно тогда он сделал выбор, определивший его дальнейшую судьбу (а в какой-то мере и судьбу искусства XX века – ведь теперь оно не мыслится без наследия Ван Гога).
Нужно внимательно вчитаться в письма, написанные брату в 1879 году и потом, после возобновления переписки, в 1880 году, чтобы мысленно реконструировать путь, приведший Ван Гога к героическому решению – сделаться художником. Героическому – потому что он тогда не умел рисовать, а ему было уже двадцать семь лет, потому что ему никто не помогал и не на что было жить, и поблизости не только не было ни художников, ни картин, но и ни одного человека, который бы имел хоть малейшее представление о картинах.
Не следует думать, что Винсент принял это решение просто с отчаяния и внезапно. По видимости оно было внезапным, но ему предшествовал скрытый, подспудный процесс вызревания: зерно таилось в земле, прежде чем дать росток.
Винсент много рисовал еще по приезде в Боринаж; рисовал по памяти, ночами, «чтобы удержать воспоминания и подкрепить мысли, невольно возникающие у меня при взгляде на вещи» – так он это объяснял. Был и другой импульс: ностальгическая тоска по искусству. «Вдали от родины я тоскую о ней именно потому, что она – страна картин». В Боринаже ему мучительно не хватало общения с живописью, ставшего его второй натурой. А вместе с тем стал дорог здешний сумрачный мир, неведомый искусству и ничего не знавший об искусстве. Решение стать художником родилось из стремления воссоединить, слить в одну две свои привязанности к чуждым друг другу мирам – миру искусства и миру бедноты – и тем сблизить их.
Таким образом, его «апостольство» продолжалось, только приняло другое направление. Он хотел, чтобы в искусстве прозвучал голос «человека из бездны», «человека в деревянных башмаках», а в рабочих и крестьянских жилищах поселилось искусство – такова была его сверхзадача, его двуединая миссия, определившаяся поздно, но твердо.
Как он отважился принять ее на себя, он, никчемный неудачник, каким его считали родные? Никогда не отличавшийся самомнением, Винсент чуть было и сам с ними не согласился. Он долго и напряженно думал, в нем происходила внутренняя борьба с чередованиями отчаяния и надежды.
«Если бы я всерьез убедился, что я ни на что не годен… тогда меня охватила бы тоска и мне пришлось бы бороться с отчаянием… Будь это на самом деле так, я бы предпочел, чтобы мне не было суждено зажиться на этом свете.
Но когда меня по временам слишком сильно и долго гнетет такая мысль, у меня одновременно с ней возникает и другая – а может быть, все это лишь долгий страшный сон… Почем знать, быть может, все пойдет не хуже, а лучше?»
«Бывают бездельники по лени и слабости характера, по низости натуры; если хочешь, можешь считать меня одним из них.
Есть и другие бездельники, бездельники поневоле, которые сгорают от жажды действовать, но ничего не делают, потому что лишены возможности действовать… потому что они как бы заключены в тюрьму… потому что у них нет того, без чего нельзя трудиться плодотворно, потому что их довело до этого роковое стечение обстоятельств; такие люди не всегда знают, на что они способны, но инстинктивно испытывают такое чувство: «И я кое на что годен, и я имею право на существование! Я знаю, что могу быть совсем другим человеком! Какую же пользу я могу принести, чему же могу я служить? Во мне есть нечто, но что?»
Это совсем другой род бездельников – если хочешь, можешь считать меня и таким.
Птица в клетке отлично понимает весной, что происходит нечто такое, для чего она нужна; она отлично чувствует, что надо что-то делать, но не может этого сделать и не представляет себе, что же именно надо делать. Сначала ей ничего не удается вспомнить, затем у нее рождаются какие-то смутные представления, она говорит себе: «Другие вьют гнезда, зачинают птенцов, высиживают яйца», и вот уже она бьется головой о прутья клетки. Но клетка не поддается, а птица сходит с ума от боли».
Весной 1880 года Винсент, находясь в том состоянии, которое он описывает в этом письме, предпринял путешествие из Боринажа во французскую провинцию Па-де-Кале – пешком, ночуя то в брошенной телеге, то в стогу сена, по дороге выменивая на куски хлеба кое-какие свои рисунки. Он и сам хорошенько не знал, зачем идет; надеялся найти работу – любую, какую угодно, – но была у него и еще одна затаенная надежда. В Па-де-Кале, он знал, находилась мастерская Жюля Бретона, известного французского живописца, ценимого Ван Гогом. Он действительно увидел мастерскую Бретона, но только снаружи – зайти внутрь так и не решился – и отправился обратно в Боринаж, не найдя и работы. И все же это бессмысленное паломничество чем-то его окрылило. Новыми глазами, разбуженными глазами художника, он смотрел на места, которые проходил: пашни, стога, соломенные крыши сараев, небо над ними – более нежное и прозрачное, чем ту-манные небеса Боринажа. Глядя на встречных землекопов, дровосеков, ткачей, он думал: когда-нибудь я «сумею так нарисовать эти еще неизвестные или почти неизвестные типы, чтобы все познакомились с ними».
Тогда-то он и утвердился в своем решении бесповоротно. «С тех пор, как мне кажется, – писал он Тео в сентябре 1880 года, – все у меня изменилось: я вновь на верном пути, мой карандаш уже стал немножко послушнее и с каждым днем становится все более и более послушным».
С самого начала Ван Гог нисколько не уповал на свой талант – только на упорство, терпение и бесконечный труд. Он вообще скептически относился к представлению о таланте как о врожденном даре, делающем трудное легким, а гем более не признавал такого волшебного дара за собой. Но «я не художник, – как можно так жестоко отзываться о самом себе? Разве нельзя стать терпеливым, разве нельзя научиться терпению у природы, видя, как медленно созревает пшеница, как все растет?» До конца дней Ван Гог любил напоминать, что символом святого Луки, покровителя художников, является терпеливый вол.
Однако талант Ван Гога развивался не с медлительностью вола, а с быстротой птицы, покинувшей клетку. За два-три года, работая самоучкой, Ван Гог вырос в мощного рисовальщика. Ему нельзя было терять ни дня, ни часа: он начал поздно, а свою недолговечность предвидел, хотя был физически крепок.
Обычный путь начинающих – рисовать с неподвижно позирующих натурщиков и потом уже, овладев статикой, переходить к передаче движения. Ван Гог начал с самого трудного – с движущихся фигур. Боринажские рисунки изображали углекопов, откатчиков, женщин, таскающих мешки. Этих рисунков тоже осталось мало: художник потом сам уничтожал свои ранние опыты.