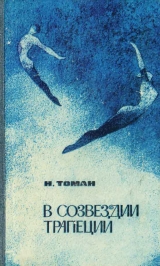
Текст книги "В созвездии трапеции (сборник)"
Автор книги: Николай Томан
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– А я на вашем месте не стал бы так торопиться, – кладет ему руку на плечо инженер Миронов. – Если не возражаете, займемся завтра вместе.
Илья крепко жмет ему руку.
Затаив дыхание, все напряженно смотрят на измерительные приборы, установленные в центре манежа. Их стрелки все еще неподвижны.
Илья Нестеров приглушенным голосом командует:
– Переключите реостат еще на два деления, Виктор Захарович!.. Еще на одно!
А стрелки по-прежнему недвижны, будто припаяны к нулевым делениям шкал.
– Вы все уже выжали? – спрашивает Илья у Миронова, вытирая мокрый лоб.
– Остались последние два деления, Илья Андреевич.
– Включайте тогда до отказа!
И тут на одном из приборов стрелка вздрагивает вдруг. Вздрагивает, но дальше не идет…
– Ну, что ты скажешь, Лева? – порывисто оборачивается Илья к Энглину. – Видел ты, как она дрогнула?
– Да, видел, – взволнованно отзывается Энглин. – И уже почти не сомневаюсь в успехе. Нужно только снова все пересчитать. В чем-то, наверное, есть еще неточность. Догадываюсь даже, в чем. Выключайте установку, Виктор Захарович.
И они снова все пересчитывают и выверяют, но никаких ошибок уже не находят.
– Может быть, отложим до завтра? – спрашивает Миронов, взглянув на часы.
– Все, конечно, чертовски устали, но я все-таки останусь и поработаю еще немного, – упрямо говорит Илья. – Тебе, Лева, тоже пора отдохнуть.
Миронов вопросительно смотрит на Энглина. А Лева, сделав вид, что не расслышал слов Ильи, снимает пиджак и засучивает рукава рубашки.
– Давайте-ка попробуем включить полную мощность сразу, – обращается он к Миронову.
– Ну вот что тогда, – останавливает его Виктор Захарович. – Устроим пятнадцатиминутный перерыв и поужинаем. У меня, кстати, есть для этого кое-что. Сейчас схожу к себе в бюро и принесу…
– Зачем же ходить? – весело восклицает неизвестно откуда появившийся Михаил Богданович. В руках у него чемоданчик. Он кладет его на барьер манежа и торжественно открывает крышку. – Вот, пожалуйста, угощайтесь! На всех хватит.
– Ты у нас, дед, просто маг и волшебник! – потирает руки Илья. – Перекусить действительно давно уже не мешает.
А спустя несколько минут все снова занимают свои места у пультов управления и измерительных приборов, ожидая команды Нестерова.
– Включайте, Виктор Захарович! – распоряжается Илья.
И опять робко вздрагивает стрелка гравиметра. Двинувшись чуть-чуть вверх по дуге шкалы, она снова беспомощно опадает к нулевому делению.
Раздосадованный Илья собирается уже подать команду, чтобы выключили установку, но тут находившийся все это время на манеже Михаил Богданович разбегается вдруг и, высоко подпрыгнув, легко делает двойное сальто-мортале.
– Видимо, заело стрелки в ваших приборах! – радостно кричит он и бросается обнимать внука. – Поздравляю тебя с победой, Илюшка! И всех вас тоже, дорогие мои!
25
Репетиции Зарницыных в ослабленном поле тяготения решено начать спустя два дня. К этому времени уточняется степень понижения гравитации в зоне манежа и стабильность этого явления. Определяются точные ее границы. Вводятся кое-какие усовершенствования и упрощения в конструкцию аппаратуры.
На первую репетицию Зарницыных в зоне ослабленного поля тяготения приходит не только вся местная администрация, но и почти все начальство Союзгосцирка.
– Что же это такое?! – в ужасе восклицает главный режиссер. – Как же можно в таких условиях репетировать? Они ведь не совершили еще ни одного полета в зоне невесомости… И вообще не известно пока, что у них может получиться, а вокруг уже обстановка ажиотажа. Нет, так нельзя! Так я просто не смогу начать репетицию…
– А ведь Анатолий Георгиевич прав, – соглашается управляющий Союзгосцирка. – Надо дать им освоить новый номер в спокойной обстановке.
И вот теперь на манеже только Зарницыны, Анатолий Георгиевич, – Ирина Михайловна да несколько униформистов. У пульта управления Илья и Виктор Захарович. В директорской ложе – Михаил Богданович, Юрий, Антон и дежурный врач, приглашенный на всякий случай главным режиссером.
Манеж ярко освещен. Зарницыны легкими, изящными прыжками вскакивают, на предохранительную сетку.
– А может быть, начнем сразу без нее? – спрашивает Ирину Михайловну Алеша Зарницын. – Не лучше ли с первой же репетиции приучить себя к мысли, что никакой страховки уже не существует.
– Нет, Алеша, этого я не смогу вам позволить, – решительно возражает Ирина Михайловна. – Пока вы не освоитесь с новыми условиями полета – будете работать с предохранительной сеткой. Мало того, пристегните-ка покрепче еще и пояса с лонжами. Кто знает, какова будет инерция ваших полетов. Можете улететь и за пределы манежа.
Алеша собирается что-то возразить, но Маша останавливает его:
– Зачем же спорить с разумным предложением, Алеша? Все и так знают, какие мы храбрые, – добавляет она, весело рассмеявшись.
Легкий толчок о пружинящую сетку, и Маша взлетает на мостик. Ее примеру следуют и братья. Алеша при этом отталкивается с такой силой, что перелетает через мостик и снова опускается в сетку.
– Ну что, – смеется довольная Маша, – будешь ты теперь протестовать против сетки?
– Пожалуй, ловиторку и трапеции следует развесить подальше друг от друга, – кричит снизу Ирина Михайловна. – А пока будьте осторожны и не слишком напрягайте мышцы. Нужно сначала привыкнуть, приноровиться К новым условиям.
Когда Сергей, совершив несколько пробных полетов, повисает вниз головой в своей качающейся ловиторке, Ирина Михайловна советует Маше:
– Попробуйте пока только одно заднее сальто в руки Сереже. И со слабого швунга.
Маша непривычно осторожно берется за гриф трапеции и совершает плавный кач. Затем энергичным броском отрывается от нее, набирает высоту и грациозно разворачивается в заднем сальто-мортале. Обычно в это время сильные руки брата всегда оказывались возле нее, но сейчас он уже ушел в противоположную сторону, и Маша плавно летит в сетку…
Через полчаса устраивают перерыв. Усаживаются на барьере манежа и возбужденно обсуждают неудачи.
– Такое впечатление, будто всему нужно учиться заново, – обескураженно произносит Алеша.
– Почему же заново? – вскидывает на него удивленные глаза Маша. – Просто нужно привыкнуть и освоиться с новыми условиями полета…
– А я считаю, что нужно послушаться совета Ирины Михайловны и увеличить расстояние между моей ловиторкой и трапециями, – прерывая сестру, убежденно заявляет Сергей. – Зачем нам переучиваться и изменять тот темп, к которому мы давно привыкли? Многие наши движения отработаны ведь почти до автоматизма. А это достигнуто ежедневными тренировками в течение нескольких лет. Зачем же нам начинать теперь все сначала?
– Конечно, это ни к чему, ребята! – поддерживает Сергея Михаил Богданович. – Просто нужно, чтобы вы пролетали большее расстояние. А для этого действительно необходимо пошире развесить вашу аппаратуру. Это даст вам возможность делать больше фигур в каждом трюке.
Вокруг гимнастов собираются теперь все присутствующие на их репетиции. Каждый считает своим долгом дать им совет. Молчит только Илья Нестеров. Некоторое время он сосредоточенно чертит что-то на бумаге, потом протягивает ее Сергею Зарницыну:
– Я вполне согласен с вами, Сережа. И вот прикинул даже целесообразное размещение ваших трапеций в соответствии с условиями ослабленного гравитационного поля.
– Виктор Захарович, – обращается к заведующему конструкторским бюро главный режиссер, – когда бы вы смогли перевесить аппаратуру Зарницыных?
– К завтрашнему утру все будет готово, Анатолий Георгиевич.
А в Академии наук тем временем окончательно решается вопрос об изучении «эффекта Нестерова-младшего» в научно-исследовательском институте Андрея Петровича. Илья пропадает там теперь буквально дни и ночи.
– А как же твоя цирковая установка? – спрашивает его отец.
– Она уже создана и запущена, – беспечно отвечает Илья. – А эксплуатация ее дело не хитрое. К тому же ведает ею опытный инженер, заведующий цирковым конструкторским бюро.
– А я на твоем месте не был бы так спокоен, – задумчиво покачивает головой Андрей Петрович. – Пока мы не разработаем физическую теорию обнаруженного тобой эффекта, ни в чем нельзя быть окончательно уверенным.
– А не припомнишь ли ты, папа, когда был сконструирован первый электрический двигатель? – спрашивает Андрея Петровича Илья. – В тысяча восемьсот двадцать первом году, кажется?
– В тысяча восемьсот двадцать первом году Фарадеем был создан лишь прибор для преобразования электрической энергии в механическую, – уточняет Андрей Петрович. – А датой создания первого электрического двигателя, пригодного для практических целей, следует считать тысяча восемьсот тридцать восьмой год. Конструктором его был русский ученый Якоби.
– Ну хорошо, – охотно соглашается Илья, – пусть будет тысяча восемьсот тридцать восьмой. А что было тогда известно об электричестве? Вспомни-ка наивные теории того времени о невесомых электрических жидкостях – флюидах и эфире. Лишь спустя несколько десятилетий после создания первого электрического двигателя Максвелл дал наконец математическое оформление тогдашних воззрений на электричество. А ведь практически уже существовали электромагниты, телеграф, гальванопластика, электродвигатели и генераторы тока. В сороковых годах девятнадцатого века появляются и осветительные электрические приборы.
– К чему ты это? – удивляется Андрей Петрович.
– А ты не понимаешь? Да все к тому же, что теория не всегда успевает за практикой. А что касается физической теории электричества, то она, как тебе известно, и сейчас еще не завершена. А ведь с тех пор, кроме Максвелла, Герца и Лоренца, немало потрудились над нею и Эйнштейн, и многие современные ученые. Нет, следовательно, ничего невероятного и в том, что моим эффектом уже сейчас пользуются цирковые артисты, не ожидая, когда появится его математический аппарат.
– Ну, а эти воздушные гимнасты имеют хоть какие-нибудь предохранительные средства на случай, если их подведет твой антигравитационный эффект? – допытывается Андрей Петрович. – Чем ведь черт не шутит…
– Ты об этом не беспокойся, папа. На них предохранительные лонжи, а внизу – сетка и униформисты.
26
Митрофан Холопов выбрал не очень подходящее время для разговора со своим шефом – режиссером экспериментальной киностудии Аркадием Марковичем Лаврецким. Режиссер сегодня явно не в духе. У него не ладится что-то со съемкой сатирического фильма об абстракционистах. Он показывал вчера отснятые куски кинокритику, с мнением которого очень считается художественный совет, и тот не порадовал его похвалой.
– В общем ничего, вполне приемлемо, – снисходительно заявил критик. – Но если судить вас по большому счету, а вас именно так и следует судить, ибо вы мастер и от вас ждут не просто хорошей, а принципиально новой ленты, то это… Как бы вам сказать? Ну, в общем не совсем то. Не очень оригинально.
Кинокритик говорил все это, улыбаясь и ни на чем не акцентируя, но Лаврецкому было ясно, что показанные куски фильма не понравились ему, и это надолго испортило Аркадию Марковичу настроение.
А тут еще этот Холопов стоит над душой и клянчит что-то. Лаврецкий почти не слушает Митрофана, у него полно своих забот, однако присутствие Холопова невольно заставляет его вспомнить единственную искреннюю похвалу кинокритика:
– А вот рисуночки абстракционистов получились у вас подлинными. И это вы правильно сделали. Это создало убедительность, достоверность высмеиваемой вами живописи.
«А что, – думает теперь Лаврецкий, – если я и абстракциониста покажу настоящего, живого, в натуральном виде, так сказать?..»
– Слушай-ка, старик, – обращается он к Холопо-ву, – ты играл когда-нибудь на сцене?
Холопов мнется.
– Видите ли..
– Вот и хорошо! Значит, не испорчен и будешь непосредствен. Завтра же пересниму все эпизоды, в которых снимался бездарный Парашкин. Его роль, роль художника-абстракциониста, сыграешь ты!
– Но как же так, Аркадий Маркович?
– А вот так! Да тебе и играть ничего не надо – будешь самим собой. И как я раньше этого не сообразил?
– Ну, если вы так считаете…
– Я в этом убежден. И всё об этом!
– А как же с циркачами?
– С какими циркачами?
– Я же вам уже полчаса о них…
– А, не морочь ты мне голову, старик! За каким мне чертом твои циркачи?
– А принятый вами сценарий о цирке?
– Это еще когда будет.
– Но ведь великолепный сценарий. Потрясающий фильм может получиться. И об этом уже надо думать.
Лаврецкий досадливо машет рукой:
– Успеется.
– А вы все-таки прочли бы этот сценарий еще раз. По нему грандиозную ленту можно отгрохать! Настоящий большой цирк на широком экране! Такой, какого нигде еще нет и не может быть, потому что в цирках занимаются этим люди без фантазии, без размаха. В кино тоже ничего монументального еще не создано. А ведь средствами современной кибернетики и оптики такое можно сотворить!
– Хорошо говоришь, – с любопытством взирает на Холопова Лаврецкий. – Не ожидал от тебя такого вдохновения. Ты ведь, кажется, еще и физик?
– Бывший студент физико-математического. Я и к цирку имею отношение. А главное – хорошо знаю тех, кто нам нужен для такого фильма. Есть, например, такой художник – Елецкий, никому пока не известный, но талантище! Нет, нет, не абстракционист, а самый настоящий реалист… И пишет только цирк. И мыслит, и видит все только его образами. Чертовски самобытен!
– Да ты что о нем так? Приятель он твой, что ли?
– Напротив – почти враг.
– Ну и ну!.. – удивленно покачивает лысеющей головой Лаврецкий. – Вот уж не ожидал от тебя такого великодушия.
– Плохо вы еще меня знаете, Аркадий Маркович. Для пользы дела я готов на все… А нам не только Елецкий пригодится. В цирке выступают сейчас потрясающие воздушные гимнасты – Зарницыны. Форменные птицы! Особенно Маша. Сегодня же организую билеты – посмотрите сами.
– Ты меня заинтересовал, старик, – произносит Лаврецкий, задумчиво поглаживая свою лысину. – Очень заманчиво все это… Нужно будет перечитать сценарий еще раз. Как-нибудь и в цирк сходим. Прежде, однако, нужно разделаться с абстракционистами. Черт меня дернул взяться за этот фильм!
– А с Елецким можно мне начать переговоры? – робко спрашивает Холопов. – Есть еще приятель у него– Мушкин, искусствовед и потрясающий эрудит! Один из лучших знатоков цирка. Вы только разрешите, я вам таких людей привлеку, с помощью которых отгрохаем мы феноменальнейший суперфильм о большом советском цирке. Американцам даже и присниться такой не сможет.
– Ну ладно, хватит тебе хвастаться! Приведи лучше кого-нибудь из них, а сам готовься к съемкам.
27
Лева Энглин и минуты не может посидеть спокойно. Даже читая, он непрерывно ходит по комнате. Зато Илья Нестеров способен часами сидеть на одном и том же месте и непременно что-нибудь делать. А когда читает, все время шевелит пальцами, комкает бумагу или теребит кончик своего галстука. Лева искренне завидует его работящим, ловким, искусным рукам прирожденного экспериментатора.
Он никогда не забудет, как Илья паял однажды квадратную рамку из четырех тончайших оловянных проволочек-паутинок. Леве было известно, что операция эта лишь внешне казалась нехитрой. Проволочки ведь спаивались только при строго определенной температуре. Малейшее повышение ее расплавляло их почти целиком, понижение вообще не плавило. Нельзя было добиться успеха и в том случае, если дрожали руки, а ведь они дрожат постоянно. Ну и конечно же нельзя было при этом разговаривать, кашлять, вздыхать, менять позу. Сказывалась на этой почти хирургической операции даже частота биения собственного сердца.
Мало того – испортить все дело могло самое незначительное изменение напряжения электрической сети, нагревающей паяльник.
Две недели ушло у Ильи на эту операцию. В те дни он приходил в лабораторию рано утром, брал в руки паяльник и несколько минут ерзал на своем сиденье, отыскивая самую удобную позу. А на поиски наиболее оптимального режима пайки ему пришлось затратить еще несколько дней. И всякий раз, уходя домой, клал он на свой стол лист картона с изображением черепа со скрещенными костями. Это означало, что касаться его стола строжайше запрещено.
На все это время он исключил из своего рациона не только спиртные напитки, но и кофе. А чего стоило ему, лучшему игроку институтской волейбольной команды, отказаться от посещения спортивной площадки не только во время обеденных перерывов, но и по вечерам?
Восхищала Энглина и изобретательность Ильи во время эксперимента. Как бы не был обеспечен любой физический опыт всем необходимым, всегда ведь оказывается, что экспериментатору чего-то не хватает. Наблюдая за тем, как остроумно выходил Илья из самых затруднительных положений, Лева почти всегда вспоминал слова одного из героев романа о физиках Митчела Уилсона:
«Если экспериментатор не может поставить любой опыт с помощью обрывка веревки, нескольких палочек, резиновой полоски и собственной слюны, он не стоит даже бумаги, на которой пишет».
Но и Илья Нестеров также остро завидует Леве Энглину. Его поразительной памяти, начитанности, знанию в подлинниках почти всех основных произведений Эйнштейна, Бора, Борна, Планка, Гейзенберга, де Бройля и Дирака. При надобности он может вспомнить буквально слово в слово высказывание любого из них по любому конкретному поводу. О советских ученых и говорить не приходится. Он не пропустил не только ни одной книги, но и ни одной статьи Ландау, Тамма, Берга, Фока, Колмогорова, Соболева, Амбарцумяна.
Сегодня у них заходит вдруг спор о физиках – экспериментаторах и теоретиках, и Лева не упускает случая продемонстрировать свою эрудицию.
– Ты послушай лучше, – убеждает он Илью, цепко хватая его за пуговицу пиджака, – что в свое время говорил об этом Макс Борн: «Естественно, – заявил он, – что человек должен рассматривать работу своих рук или своего мозга как полезную и важную. Поэтому никто не будет возражать ревностному экспериментатору, хвастающемуся своими инструментами и до некоторой степени смотрящему свысока на «бумажно-чернильную» физику своего друга-теоретика, который в свою очередь гордится своими возвышенными идеями и презирает грязные пальцы друга».
– А ты, теоретик, презираешь разве мои грязные пальцы? – очень серьезно спрашивает Леву Илья.
– Я завидую твоим пальцам, – искренне признается Лева. – А Макс Борн сказал это иронически…
– Спасибо, что объяснил! – шутливо восклицает Илья. – А то я подумал, что он это всерьез. Давай тогда протянем друг другу руки: я – выпачканную копотью и машинным маслом, ты – забрызганную чернилами.
Весело посмеиваясь, они долго трясут друг другу руки.
– В моем союзе с тобой ты можешь не сомневаться, – замечает при этом Лева Энглин. – Я не только теоретик, но с твоей помощью немного и экспериментатор. Во всяком случае, пока мы оба главным образом экспериментируем и очень еще далеки даже от намека на какую-либо теорию, объясняющую достигнутый тобой эффект.
– И ты представить себе не можешь, Лева, как это меня удручает, – вздыхает Илья.
– А ты не робей! – ободряюще похлопывает его по плечу Лева. – Мы ведь идем с тобой не по гладкой дорожке, а по целине. И это путь всех тех, кто думает открыть что-либо новое. Луи де Бройль сказал как-то, что только люди, не занимающиеся наукой, полагают, будто ученые делают все свои выводы на основе неоспоримых фактов и безупречных рассуждений и, следовательно, уверенно шагают вперед. Однако состояние современной науки, так же как и история наук в прошлом, доказывает, что дело обстоит совершенно не так. Положение, в котором находимся мы с тобой, Илюша, лишний раз подтверждает справедливость его слов. И, знаешь, я люблю это хождение по целине в трудных поисках верного пути.
Говоря это, Лева, по неизменной своей привычке неутомимо шагает по своей длинной комнате, уставленной множеством книжных полок. И хотя это иногда действует Илье на нервы, сегодня он почти не замечает Левиной непоседливости. Он и сам встает несколько раз и подходит то к окну, то к одной из полок, завидуя обилию собранных Левой книг по физике, математике, астрофизике и другим наукам.
А Лева продолжает приподнято:
– Ты прости меня, старик, за пристрастие к цитированию уважаемых мною ученых, но именно сейчас я никак не могу отказать себе в удовольствии привести слова того же де Бройля: «Научное исследование, – заявил он в своей статье о роли любопытства и интуиции в научном исследовании, – хотя оно почти всегда направляется разумом, тем не менее представляет собой увлекательное приключение». Ну, скажи, разве же это не так?
– Этот де Бройль, хоть он и потомок французских королей Людовиков, просто молодчина! – восторженно восклицает Илья.
– Еще бы! – смеется Лева Энглин. – Ведь он, черт побери, не только изрек эти романтические слова, но еще и выдвинул гипотезу о волновых свойствах вещества, составившую основу современной квантовой механики. Самое же удивительное, друг мой Илюша, это то, что в последние дни я думаю не только о теоретическом обосновании твоего эффекта, но и о той прелестной циркачке, которая была у вас на встрече Нового года.
– Так ты, значит, разглядел ее все-таки?! – всплескивает руками Илья. – А я-то думал…
– Таких не разглядывают, такие сами бросаются в глаза, – перебивает его Лева.
– Значит, физика физикой… – усмехается Илья.
Но Лева снова перебивает его:
– И даже математика математикой, а люди остаются людьми, и ничто человеческое им не чуждо. А у тебя с нею? Ах, да! Прости, пожалуйста, совсем забыл о твоей Гале. Где она, кстати?
– Ты же знаешь – она геофизик и сейчас в экспедиции.
– Зимой?
– У них какие-то специальные исследования в зимних условиях.
– Ну, а как ты думаешь, если я попробую? – робко спрашивает Лева.
– Что попробуешь? – удивленно поднимает брови Илья, хотя он сразу же догадывается, что Лева имеет в виду.
– Поухаживать за циркачкой?
– Не советую, – сухо замечает Илья. – Во-первых, она не циркачка или, вернее, не то, что имеется в виду под этим несколько пренебрежительным словом. Ты же знаешь мою маму, она ведь тоже циркачка…
– Прости, пожалуйста, – испуганно восклицает Лева, – я совсем не хотел оскорбить твою маму.
– Ну так не надо оскорблять и Машу. Эта девушка заслуживает всяческого уважения. Говорю тебе это к тому, что легкой победы тут быть не может. А во-вторых, в нее влюблен еще один человек, для которого и его жизнь, и его работа – все в этой Маше. Да ты его видел, он был у нас на встрече Нового года. Это Юра Елецкий. Он художник и рисует только Машу, и, какую бы другую женщину ни изображал, все равно она будет похожа на Машу. Но он настоящий художник, о котором скоро заговорят знатоки живописи. Понял ты теперь, в какую ситуацию собираешься вторгаться? Да и зачем тебе это, когда ты весь в физике да математике! И потом, – добавляет Илья уже со смехом, – кто же будет осмысливать мой эффект с теоретических позиций, если ты увлечешься этой девушкой?
– Да, черт побери! – сокрушенно вздыхает Лева. – И на то, и на это меня явно не хватит.
28
Репетиции в цирке идут теперь без особых осложнений. Как только увеличиваются дистанции между лови-торкой и трапециями, сразу же вырабатывается темп, необходимый для прихода гимнастов в руки друг другу. Теперь вольтижеры выполняют все свои трюки, не нуждаясь в слишком большом наборе высоты. Они вполне успевают совершить их за время плавного и гораздо более продолжительного полета через воздушное пространство над манежем. Больше времени получается теперь и у ловитора. Пока к нему летят его партнеры, он успевает обдумать и рассчитать, в какой момент и в каком темпе идти ему на сближение с ними.
– А не пора ли нам распрощаться с сеткой и лонжами? – предлагает Алеша Зарницын на десятый день репетиции.
– Еще через четыре дня, – обещает Ирина Михайловна. – Как раз две недели будет.
– Ну, если уж для ровного счета только – смеются Зарницыны.
Через две недели сетку и лонжи действительно снимают. С непривычки работать над «голым» манежем не очень приятно, хотя вероятность падения почти исключена. Движения гимнастов теперь очень плавные, а «трасса» полетов значительно длиннее. Это дает вольтижерам вполне достаточное время для того, чтобы ориентироваться в воздухе с безукоризненной точностью.
– У меня такое ощущение, Ирина Михайловна, – говорит своему режиссеру Маша Зарницына, – будто не мы стали легче, а воздух сделался плотнее. Стал держать нас, почти как вода. А без сетки, к которой мы за многие годы чисто психологически привыкли, лишь первое время было немножко страшновато. Но теперь я лично чувствую себя в гораздо большей безопасности, чем с сеткой и лонжами.
Это Маша говорит утром, до начала репетиции. А спустя полчаса, после того, как взбирается на отходной мостик и с безукоризненной точностью проделывает все фигуры своего трюка, она приходит в точку встречи с Сергеем на несколько мгновений раньше его и, не поймав руки брата, летит в зрительный зал… Полет ее хотя и плавный, но совершается с такой высоты, что тяжелый ушиб о кресла кажется неизбежным.
Ирина Михайловна и униформисты бросаются к ней навстречу, но и им и Маше ясно, что не успеть. И вдруг из полутьмы зрительного зала, опрокидывая и сокрушая все на своем пути, устремляется ей навстречу неизвестно откуда появившийся Юрий Елецкий. Он подхватывает ее своими сильными руками, но, не удержав равновесия, падает вместе с нею в проходе между креслами.
Теперь возле них уже и Ирина Михайловна, и униформисты. Успевают стремительно соскользнуть по канату на манеж и Машины братья.
– Господи, как же это вы так? – испуганно восклицает Ирина Михайловна, склоняясь над Машей. – Что же это такое случилось с вами?.. Не разбились?
Но всем и без этого ясно, что Маша не разбилась. Она снова уже на ногах. Улыбаясь, благодарно жмет руку Юрию:
– Если бы не он, непременно сломала бы себе что-нибудь…
– И откуда вы взялись, Юра? – удивляется Ирина Михайловна.. – Просто чудеса какие-то творятся сегодня.
– Раз Маше грозила беда, – убежденно говорит за Елецкого Мушкин, – Юра не мог не «взяться»…
– Ну ладно, хватит вам разводить мистику, – сердится Ирина Михайловна. – Как оказались вы тут на самом-то деле?
– Да ведь очень просто, Ирина Михайловна. Мы как раз в этот самый момент вошли с Антоном в зрительный зал, – объясняет Юрий. – Ну и увидели, что Маша падает…
– Увидели! – перебивает его Мушкин. – Я лично ничего не увидел. Я только услышал, как затрещала какая-то лестница, которую Юра опрокинул, устремляясь к Маше.
Долго еще не утихает шум удивленных, восторженных и благодарных голосов, а Ирина Михайловна, уже успокоившаяся за Машу, тревожится теперь о другом. Как же работать Зарницыным дальше?
– Но ведь это же явная случайность! – уверяет ее Маша.
– Правильно, случайность, – соглашается Ирина Михайловна. – А где гарантия, что она не повторится?
– Опять, значит, сеточку расстелем? – морщится, как. от реальной физической боли, Алеша.
– А что было бы с Машей, если бы Юра не подоспел? А разве вы, Алеша, не можете сорваться? Я тоже не за сетку, это вам известно, но тогда нужно придумать что-то другое…
– И чего вы голову ломаете над этим? – удивленно пожимает плечами Маша. – Проще простого решается вопрос. Юра показал нам его решение. Нужно поставить пассировщиков с четырех сторон манежа. Мы ведь срываемся с большой высоты, и падение наше происходит довольно плавно. За это время можно подоспеть в любую точку манежа.
– А если мимо? В зрительный зал, как Маша только, что?
– Ну, это я сама виновата, – смущенно улыбается Маша. – Нужно было затормозить полет задним сальто. Да и вряд ли вообще случится такое еще раз. Просто нужно быть немножко повнимательнее.
– Ну что ж, – соглашается наконец Ирина Михайловна после некоторого раздумья. – Давайте ограничимся пока лишь этой мерой предосторожности – поставим у барьера манежа униформистов.
29
Кроме своей лаборатории в научно-исследовательском институте, Лева Энглин и Илья Нестеров встречаются почти ежедневно на квартире Левы. И разговор у них теперь об одном и том же – в чем суть достигнутого Ильей эффекта? У Левы множество гипотез, но все они таковы, что Илья почти умоляет его никому о них больше не рассказывать, на что неунывающий Лева отвечает словами Циолковского:
– «Если мы не будем свободно высказывать новые мысли, то и наука не будет идти вперед».
А сегодня они собрались у Ильи. Поужинали в компании с Михаилом Богдановичем, сидят теперь в кабинете Андрея Петровича, не торопясь высказывают друг другу свои мысли.
– Ты знаешь, что говорят о нас в институте? – спрашивает Леву Илья.
– Догадываюсь, – усмехается Лева. – С точки зрения тех скудных познаний, которыми располагает современная наука о гравитации, наше предположение, что в твоем эффекте действуют гравитационные или антигравитационные силы, конечно, кажется им невероятным. Но ведь еще совсем недавно невероятным казалась и идея гиперболоида инженера Гарина из фантастического романа Алексея Толстого. Опровергал ее даже такой крупный авторитет в области оптики, как профессор Слюсарев. А у нас теперь квантовые генераторы света – лазеры. Устройство их, конечно, иное, но в принципе самого явления много общего с гиперболоидом инженера Гарина.
Замолчав, Лева пристально всматривается в хмурое лицо своего друга.
– Не нравишься ты мне в последнее время, Илья, – недовольно произносит он. – Похоже, что стал сдавать…
– И ничего похожего! – злится Илья. – Просто устал немного. Я ведь целыми днями в сплошных контратаках. И с отцом, и со всеми нашими… Ты же знаешь. Но могу я позволить себе высказать хоть тебе-то свои сомнения?
– А сомнения, значит, уже завелись?
– Они, по-моему, просто необходимы. Это только самовлюбленные дураки ни в чем не сомневаются.
– Ах, это, стало быть, творческие сомнения! Ну, таких-то и у меня хоть отбавляй. Такие побуждают к поискам, не дают успокаиваться.
Лева берет с полки какую-то книгу и, машинально перелистывая ее, продолжает:
– В последнее время я много думаю о гравитационных волнах. То, что они являются физической реальностью, следует из общей теории относительности Эйнштейна. А раз это так, то любое тело, излучающее гравитационные волны, должно терять часть своей энергии, а следовательно, и массы.
– Гравитация носит, значит, энтропийный характер! – сразу вдруг оживляется Илья. – Есть тут, стало быть, что-то общее с энтропией термодинамических явлений. Ты знаешь что-нибудь о работах Константина Эдуардовича Циолковского в области общей термодинамики? Или тебя, специалиста по ядерной физике, вопросы термодинамики не волнуют?
– Почему же? – обижается Лева. – Мне хорошо известны его высказывания против энтропийных постулатов Томсона – Клаузиуса, утверждавших непрерывное обесценивание энергии в природе и неизбежность «тепловой смерти» Вселенной. Циолковский же считал, что все явления в природе обратимы и что с той же закономерностью, с которой тепло переходит от более горячих к менее горячим телам, оно должно течь и в обратном направлении.








