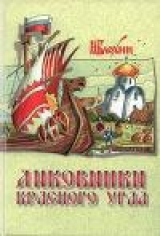
Текст книги "Диковинки Красного угла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Впервые в жизни сегодня Спиридон Николаевич произносил слово «грех». Он замолчал и продолжал смотреть на икону. Сзади него тихо открылась и закрылась дверь.
– ... А сейчас от нее только чуть-чуть пахнет, – сказал Петюня, почти вплотную приблизив свой нос к иконе.
– Да, – вздохнул Игнатий Пудович, – благодать нам дается по молитве нашей сокрушенной или по милости в нужный момент. А сейчас два святителя тихо говорят нам: «Мы всегда с вами. Только и вы о нас не забывайте, когда любуетесь своей мебелью».
Все гости по очереди поднесли иконку к носу и все согласились, что – да, есть какой-то аромат, только очень слабый. Но Карла сказала:
– А я ничего не чувствую. Вообще-то нос у меня очень чуткий... – она с шумом вдохнула, касаясь носом иконы. – Может, нос заложило?
– Нет, – грустно вздохнул Игнатий Пудович, – носы у нас в порядке. Я ведь тоже ничего не чувствую. Не носы – души наши заложило. А ну-ка, деточки, признайтесь, кто-нибудь чувствует аромат, как Петюня?
Оказалось, никто не чувствует. Тут Петюня сказал растерянно:
– Но ведь я правда чувствую!
– Я не сомневаюсь, – Игнатий Пудович погладил его по голове. – В Евангелии так сказано, деточки: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», вот... – он улыбнулся и развел руками. – Но целиком Бога, во всем Его величии, мы видеть не можем, потому как такой чистоты сердца у нас нет. «Бога не видел никто никогда», – это тоже из Евангелия. А малюсенькую долечку Его благодати воспринять можем. Как вот Петюня сейчас. Или не можем ничего, как все остальные тут стоящие, не исключая меня, грешного. Ему сверху виднее, кто достоин на сей момент.
– А сейчас тот человек, Спиридон Николаевич, жив? – спросила Карла.
– Нет, совсем недавно преставился, перед этим мне иконочку эту подарил и рассказал все это.
– А где сейчас эта мебель?
Пожал плечами Игнатий Пудович:
– Не ведаю. Да это и не важно. А важно вот что, деточки, – он вдруг задумался, шагнул к Красному углу, положил картонную иконку на место и взял какую-то зеленую монету, размером со старый рубль. – Важно, когда ты для Бога и для ближнего способен последнее отдать. Вот и монетка эта как раз об этом напоминает. Она чуть-чуть моложе той деревяшечки, части кола, на который моего предка, мученика Адриана, посадили. О нем мы говорили уже, теперь вот о монетке этой расскажем. История называется:
Народный выкуп
1445 год. Тяжкое это было время для Руси нашей. Хотя других времен у нее и не было. Все еще продолжали пожинать плоды междоусобной вражды времен Батыева нашествия, с которого уже 200 лет прошло. «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит», – так в Евангелии говорится. Князья власть не поделили – беда, значит – безвластие, а безвластие на Руси хуже чумы. Подданные вразнос пошли, повиноваться перестали, бузить, бунтовать, друг дружку обижать начали – то же самое, что и князья. Любому завоевателю такая держава – легкая добыча. А к этому времени, хоть и ослабла Золотая Орда от своих внутренних усобиц, все одно – много бед приносила земле нашей. Каждый год по нескольку раз татарские царевичи набеги творили, кого могли убить – убивали, что могли сжечь и сломать – жгли и ломали, что могли утащить – тащили.
Царствовал-княжил тогда у нас Василий Васильевич, замечательный государь – и храбрый, и умный, и воин, и Руси строитель. А тогда в Русской земле только и делали, что воевали да отстраивались. Воевали, потому как со всех сторон вражьи силы напирали, а отстраивались, потому что после набега очередного вражьего оставалось пепелище. Только отстроятся – опять лезут. Треть государственной деньги́, как нынче говорят, бюджета, на оборону, на войско шло.
И вот подстерег хан Улу-Магомет у реки Нерль, близ Суздаля, Василия Васильевича, с которым всего-то полторы тысячи войска было.
Впереди всех, «аки лев», дрался Василий Васильевич, и даже поначалу в бегство обратил врагов, но слишком неравны были силы. Татары оправились, собрались и всей своей огромной массой обрушились на малую рать нашего государя. С беззаветной храбростью сражалась русская дружина, самому князю прострелили руку, отрубили в сабельном бою несколько пальцев, тринадцать ран зияло на теле. Наконец, он изнемог и был захвачен в плен. С него сняли нательный крест и с послом отправили его в Москву. Зарыдали, глядя на этот крест, мать и жена Василия Васильевича. Привезший крест посол Ачисан был надменен и бесстрашен, не боялся он, что растерзают его москвичи с таким-то подарком – слишком велик залог находился в стане Улу-Магомета. Да и пока Москва войско для отпора соберет (а без великого князя его долго собирать придется), Улу-Магомет со своим полчищем здесь. И москвичи это понимали: страх на каждом лице видел посол и в открытую усмехался. Посол укатил, москвичи сели в осаду. Множество народу собралось и из других городов – те, кого застала здесь страшная весть.
А через неделю загорелось вдруг внутри Кремля и вскоре небывалый пожар бушевал в Москве. Жар стоял такой, что церкви каменные рассыпались и стены каменные упали во многих местах. Людей погорело великое множество, казна и все склады с едой и товарами сгорели дотла.
Но москвичи быстро взяли себя в руки, благодаря твердости и решительности епископа Ионы, будущего митрополита, прославленного в лике святых. Он теперь в Москве был и мирской властью, и духовной. Все успокаивалось там, где он появлялся. Казалось, что даже от его белой бороды веет духом покоя.
И тут новая весть: Улу-Магомет готов отпустить Василия Васильевича, если за него дадут выкуп в 200 тысяч рублей. Сумма неслыханная даже при трех полных казнах, а при пустой, да еще при таком разорении...
– Соберем, – ответил епископ Иона татарскому послу. Посол, племянник Улу-Магомета, усмехнулся и пожал недоверчиво плечами – ваше дело. Вспомнил он, как Улу-Магомет в ответ на его сомнения по поводу выкупа отрезал твердо:
– Они будут собирать, – очень выделив при этом слово «они». Двадцать лет уже имеет дело с ними Улу-Магомет, знает, что говорит.
Ближайший помощник владыки, выходец из Литвы, в котором текла литовская кровь, был просто возмущен ответом Ионы, а как только заговорил он о сопернике Василия Васильевича – Дмитрие Шемяке, едва посохом епископским по спине не получил.
– Шемяка – беззаконник, а Василий – законный государь!
– Ну-у, владыко, у Василия дети есть, наследники... Ну-у, другого выбрать-назначить... Все, что осталось, на оружие надобно, на починку стен...
– Оружие не впрок пойдет, если мы великого князя своего предадим! И без оружия обойдемся, если его выручим! Государь-батюшка, отец народа, в беду попал! И всем, что есть, мы его из беды выручим. Соберем. По всей Руси клич кликнем. Сам с кружкой пойду.
Кузнец-плавильщик Василий Адрианович сидел на пне рядом с домом и с печалью смотрел на разгромленную кузницу. Спасибо, что дом не сожгли, только забрали все дочиста, даже гвозди выдрали. По тому, как выдирали и разглядывали, понял, что сами они их ковать не умеют.
Семь тяжело груженных подвод неожиданно появилось из-за поворота, скрытого лесом. При каждой подводе по два вооруженных всадника. Остановились около сидящего Василия Адриановича. Поглядели на погром вокруг него, головами покачали.
– Схлынули, еще вчера. На юг умчались, далеко уж, небось. А там, кто ж их знает... А вы куда?
– К Казани.
– Прямо в логово, значит?
– Прямо туда.
– Дань везете?
– Нет, выкуп за государя Василия. Думали с ваших сел еще разжиться, да тут, видать, не до разживу, вам самим бы быть живу.
– Это так, – вздохнул Василий Адрианович. – Всё собрали? Нам тут епископскую грамоту зачитывали. Заломили они!
– Не всё, – также вздохнул сидящий в первой повозке иеромонах, который и заговорил с кузнецом. – К Нижнему должны подвезти.
– Погоди, – Василий Адрианович встал и вынул из-за пазухи нательный крест на цепочке, глянул на него с любовью и сожалением. – Сам ковал. Сам перекую, переплавлю. Крест-то, небось, нехорошо как выкуп сдавать, а, батюшка?
– Нехорошо, – подтвердил монах, печально кивнув головой.
– Ну, а коль перековать, Господь не обидится?
– Не обидится, – подумав сказал иеромонах, чуть даже улыбнувшись.
– Новый выкую, как отстроюсь... И гвозди, подлецы, выдернули... Монетку сделаю, вот прямо сейчас, погодите чуток. Хоть и медная, а все-таки – деньга. А то вдруг как раз монетки и не хватит. Эх, Господи, благослови...
И без того узкая, петляющая дорога совсем сузилась. Высокий кустарник справа и слева почти вплотную поджимал. Сидящие в повозках подремывали, а стражники дремали прямо в седлах. И в один миг были сдернуты с коней вылетевшими из зарослей арканами. Еще через несколько мгновений были скручены те, кто сидели на возах. Атаман шайки прохаживался около возов и довольно похохатывал: такой добычи ни разу не попадалось, хотя уже больше десяти лет он разбойничает, грабя всех без разбору – свой ли боярин, собравший ли урожай крестьянин, улу-махмедовский ли баскак, нижегородский ли купец – все одно. Правда, тех, кто тихо себя вел, не сопротивлялся, атаман щадил, не убивал.
Подошел к обозникам и стражникам, связанных вместе и всей кучей сидящих на земле.
– Что ты так смотришь на меня, чернец? – весело спросил он иеромонаха. – Уж не исповедовать ли меня собрался?
Его подручные захохотали.
– Нет, – ответил монах, – исповедовать тебя, похоже, незачем. Тебе все твое без исповеди на мытарствах бесы покажут. А эта добыча сразу в ад утянет.
– Ай, напугал! – еще веселей воскликнул атаман.
– Тебя пугать... Люди, вон, крест нательный в монетку плавят, чтоб сюда подбросить, а тебе – до-бы-ча! Только монетка та из крестика, она тебя адовым огнем попалит уже здесь, на земле! Всем миром собирали, чтоб государя-батюшку выкупить из басурманского плена, а выходит – тебе и твоим присным Святая Русь добычу на гульбу собирала?..
Посерьезнел атаман:
– Что, князь Василий в плен попал?
– А ты и не знал? Хотя, если из лесов вылезать, только чтоб грабить, где уж тут знать. Тебе бы с твоими бугаями в дружину княжескую, а не православных грабить!.. Может, твоей оравы и не хватило государю в том бою, когда его Улу-Магомет захватил.
– Так он у Улу-Магомета?
Атаман еще раз обошел вокруг повозок. Подошел к товарищам:
– Слышали?
– Слышали, – угрюмо отвечали те.
– Ну так что, атаман? – настороженно и зловеще спросил один из них, которого все кликали Башней. – Слышали, не слышали... Ты чего этак спрашиваешь-то?
– Ты погоди, Башня...
– Нечего мне годить, атаман. Ты мне в бою атаман, а тут, выходит, совет начинается? Зерно последнее в Ворше все как есть выгребли, на семена не оставили, так – ничего! А тут, выходит – чего! А почему «чего»? Государь в плену? А нам-то что? А не от его ли дружинников мы под Троицу отбивались? Нам с тобой власть государева – враг первый, хуже чем даже басурманская. Васильюшка пусть посидит в плену. Нам при бескняжии вольготнее.
Атаман оглядел товарищей, на каждом задерживая взгляд. Все под его взглядом опустили головы, кроме Башни, который взъерепенился еще больше и хотел опять что-то выкрикнуть, но атаман взял его за запястье и очень выразительно на него глянул. Хватка ручищи его была мертвая, взгляд – под стать хватке. Башня замолк. Все, что он говорил атаману, – было правдой. И зерно отняв, село на голод обрекли, да и вообще, столько начудили... да если все перечислять, никакой летописи не хватит, но главная правда Башни в том, что власть государева – всегда первый враг разбойникам. А разбойники – всегда враги власти. И если разбойник из себя справедливого корчит, мол, у богатых отнимаю – бедным отдаю, мол, притеснителей притесняю, то это все – вранье!
Атаман не корчил из себя справедливого и менять свою жизнь пока не собирался. Но чувствовал всегда своей разбойничьей душой, что это «пока» живет где-то в дальних ее тайниках. И сейчас, то ли от слов и взгляда монаха, то ли еще от чего, не по себе стало атаману. Разбойничает он здесь, в нижегородских лесах (пока безнаказанно), ну и ладно. Приедет в Псков ограбленный им купец, похнычет воеводе псковскому, вот, ограбили, мол, меня, за тыщу верст от тебя... А у воеводы псковского своих таких атаманов хватает. Псковские леса не жиже нижегородских. А уж у государя московского вообще забот полон рот, чтоб еще его шайку по лесам непроходимым ловить, а местные, когда слышат, что кого-то недалеко ограбили, радуются, что не их. Но сейчас, под прижимающим взглядом монаха (да ткни его пикой – и нет взгляда), на обоз глядя, проняло вдруг атамана. И почуял он сердцем, что если возьмет сейчас этот обоз как добычу, то быть ему вне закона и для псковских, и для тверских, и для московских князей-воевод и их подданных. И ни в каких лесах, ни за какой степью, ни за каким морем не скрыться ему от всеобщего гнева. Загонят, затравят, как бешеного волка.
Атаман подошел к связанным и обратился к иеромонаху:
– Слышь, батюшка, как тебя?..
– Пострижен в Феофана.
– Отец Феофан, а монетка та, из креста нательного, где она? В мешке каком-нибудь?
– Нет, при мне она, в кармане.
Атаман вынул из ножен здоровенный свой кинжалище, перерезал веревку и поднял иеромонаха за руку. Остальные поднялись сами. Отец Феофан вынул из кармана рясы монетку, подал ее атаману. Тот повертел ее, пристально на нее глядя, хмыкнул, покачал головой и отдал отцу Феофану со словами:
– Как настоящая.
– А она и есть настоящая.
– И много таких надо?
– Много. Двести тысяч рублей требуют.
– Сколько?!
– Сколько требуют, столько и соберем. Даже если ты вот это, – иеромонах кивнул головой на повозки, – отнимешь.
– Не отниму, – глухо сказал атаман. – Езжайте.
– Э, нет, атаман, – встрял опять Башня. – Мою долю с этого ты отдашь!
– С этого не будет ничьей доли! Со следующей добычи мою долю возьмешь. Или – катись на все четыре стороны! А еще хоть слово скажешь про долю – это будет твое последнее слово, – атаман зловеще качнул своим кинжалищем. – Всё! А вы езжайте. Один из моих ребят вас до Оки сопроводит. А то неровен час на вас Васька Бобер нападет, там он хозяйничает, поделено у нас. А моего орла увидит – не тронет...
Иеромонах Феофан еще издалека узнал его. К их нижегородскому стану, куда стекались обозы с выкупом, подъезжал кузнец-плавилыцик Василий Адрианович. Подъезжал на подводе, нагруженной четырьмя огромными мешками, в которых постукивало металлом о металл.
– Мир тебе, кузнец Василий, – встретил его отец Феофан.
– И тебе мир, батюшка, и благословения прошу, – ответил кузнец, подходя к иеромонаху.
– Однако, где ж это ты, при твоем разорении, мешки такие добыл?
– Эх, батюшка, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, – кузнец перекрестился. – Вскоре как вы уехали, нагрянули ко мне разбойнички. Много слыхал я про них, а увидел впервые. Эх, говорю, ребятушки, у меня басурманы все гвозди из стен выдернули, нечем вам поживиться, гол как сокол. А атаман ихний и говорит мне: «Ты свой крест нательный в монетку перековал?» – Я, говорю. Неужто за это казнить меня вы прискакали? И вижу, кинжальчик у него моей работы, пару лет назад купцу одному нижегородскому по заказу ковал. Добрая работа, не ржавеет, любой щит пробьет, любой нож перерубит. А атаман видит, как я на кинжал смотрю, усмехается. «Не бойся, – говорит, – не затем я здесь, чтоб им тебя зарезать». Да, говорю, обидно от этого кинжала смерть принимать. Ну и говорю ему, что моя, мол, работа. Очень атаман удивился, лицом переменился. «Ты, – говорит, – садись сейчас на эту подводу, что мы привезли. В мешках, – говорит, – всякие кубки, да ложки-брошки серебряные, и золотишко есть. Догоняй монаха. От нас князю Василию выручка...» Потом глянул с тоской на кинжал, усмехнулся. «Ну, – говорит, – и его забирай, как свое отдавай». Вот так, батюшка Феофан.
Иеромонах ничего не сказал, перекрестился только.
На великий праздник Покрова Богородицы, первого октября, государь Василий Васильевич был отпущен, а семнадцатого ноября, в день преподобного Никона Радонежского, ученика Сергиева, торжественно въехал в Москву. А по пути (сопровождал его назад тот же Феофан) остановился он перед домом кузнеца Василия Адриановича, кланялся ему в ноги, с целованием монетку вернул и сказал:
– За меня ты последнее отдал и она мне теперь дороже всего, прими же от меня самое мое дорогое...
– Вот такая, деточки, история, – закончил Игнатий Пудович. Все потрогали монетку, а Петюня спросил:
– А почему она зеленая?
– От времени. Окислилась – так это называется. А я не чищу ее, подновлять ее незачем. Такая, какая есть, она больше о том времени скажет.
– А как она к вам попала? – задумчиво глядя на монетку, спросила Карла.
– Так ведь кузнец – это ж предок мой, сын Адриана, который на колу мученическую смерть от Тамерлана принял. Во-от... Ну а теперь, после монетки, перейдем к кирпичу. Назовем историю:
Кирпич Ивана III
– Гладкий, будто полированный, – Игнатий Пудович погладил кирпич. – Правда, выбоинки есть, борозды. Много он видел... Когда говорят, что этот камень много видел, или дерево много видело, то это, конечно, неправда. Ничего не может видеть мертвое тело. Все, что вещи о себе и о времени своем рассказывают, все это – сила воображения и разумения нашего, людского. Напряжем же наш ум и воображение и поспрашиваем у нашего кирпича, откуда он взялся, где побывал, что повидал на Руси нашей, матушке...
Начиналась история кирпича пятьсот лет назад. Стоял, разрастался город на Москве-реке, столица государства Российского – красавица Москва. И недалеко от Москвы, за Красным холмом, жила своей немудреной жизнью глина. Но это была не совсем обыкновенная глина. Мастер каменных дел, Фиораванти, что прибыл из Италии (государь Иван III, сын Василия Васильевича, его пригласил), осмотрел эту глину, пощупал и сказал, что это та самая глина, из которой крепчайшие кирпичи получатся, а построенные из них храмы и дома будут стоять веками и не обрушатся. Большим знатоком своего дела был мастер Фиораванти! А наши мастера отменными учениками оказались.
Перво-наперво, взял маэстро Фиораванти кусок глины и стал разминать его. Не привыкла глина к такому обращению, удивилась она. Веками лежала и никто ее не трогал, в дождь и слякоть размокала, как кисель становилась, и люди, по ней едущие, ругали ее. Под солнышком она сохла, каменела, тот кусок дороги, где она лежала, становился очень удобным для проезда, и люди хвалили ее. И хула, и похвала людская безразличны были глине. Но мяли ее и рассматривали вот так – впервые. Затем глину смешали с чем-то, надавали по бокам и сунули в огонь. Тот яростно злился и своими языками словно растерзать ее пытался, но выходило наоборот – глина чувствовала, как набирается внутренней силы и крепости. И через некоторое время этот охлажденный кусок правильной формы ощутил, что он уже не глина, он – кирпич! Он увидел, как некий дюжий мужик поднимает над головой молоток, и тот летит на него сверху – аж воздух свистит от его полета. Все застыло в кирпиче от ужаса – сейчас конец!
– Бум-м! – гукнуло по кирпичу.
Ойкнул кирпич, подпрыгнул и – остался невредим. Покачал удивленно головой человек с молотком, а кирпич зло подумал: «Тебя бы так!». Но потом поразмыслил и решил, что злиться нечего. Раз уж он кирпичом стал, надо же было его как-то испытать. И он видел, что люди довольны им.
И вот взял его в руки сам государь Иван III.
– Ай да кирпич! – воскликнул государь. – Всем кирпичам кирпич.
Зарделся кирпич от государевой похвалы. Подкинул его Иван III на ладони и сказал:
– Такому кирпичу – особое место. Пусть он ляжет в основании Успенского собора, что мы в Кремле вместо старого строить начнем.
Но не суждено было нашему кирпичу лечь в основании собора Успенского. Русские мастера скоро и споро понаделали еще множество таких же кирпичей. Один к одному кирпичики, ничем не хуже нашего. Ну а строители, начав строить, в фундамент, к сваям дубовым, эти кирпичи и положили – не различить ведь их. Так, ненароком, малый приказ государев нарушили. Ну, да крепость собора от этого меньше не стала. А воля-то государя в том была, чтобы на века строить – и ее выполнили.
Наш же кирпич лег в кладку высоко над землей. А потом рядом с Успенским собором колокольню Ивана Великого выстроили. И кирпич оказался прямо напротив звонницы. Лежал он, стиснутый своими собратьями, скрепленный с ними раствором, и любовался Москвой, которая расстилалась перед ним за кремлевской стеной. Колокольный звон отлетал от него и несся над Москвой, и люди, услышав его, крестились и говорили:
– О! С Ивана Великого ударили...
Наш кирпич купался в дивных звуках перезвона. Он его не только отражал, но и впитывал. Он смотрел на замоскворецкие церковные кресты и становился иным, не таким, каким лег в кладку. Крепость его увеличивалась, и не только крепость. Не один уже только звон отражался от него и летел через кремлевскую стену к людям, но и благодать Божия, которой насыщен был весь Кремль.
Так сотню лет и пробыл наш кирпич на этом месте, благодать через себя передавая и сам наполняясь ею. Ничто не тревожило его покоя...
Как вдруг ядро пушечное шибануло по нему. Охнул кирпич, чуть было не дрогнул, но не дрогнул – крепко держали его собратья. Очнулся он от созерцания крестов замоскворецких и еще сильней с собратьями сцепился, защищаться приготовился. Обложили Кремль крымские татары, стреляют по нему ядрами тяжелыми. Еще один удар принял на себя кирпич и тем дело для него кончилось. Отогнала Богородица вражью силу от Своего дома, отогнала чудом, через свою икону, именуемую Донской. Покачал головой мастер-каменщик, когда осматривал потом раны нашего кирпича.
– Знатно сделан кирпич, – сказал он. – Две выбоинки только.
Он вышиб кирпич из кладки, ибо тот слегка расшатался, залил раствором то место, откуда его извлек, только собрался опять заложить его, а кирпич вдруг выскользнул из его рук. Только и успел мастер, что охнуть. Полетел кирпич вниз с высоты, стукнулся о камни, подпрыгнул от удара. И когда опомнился, стал соображать, цел он или рассыпался. Почувствовал он, что чуть ослаб внутри, но целость его не нарушена. Успокоился и стал ждать, когда мастер спустится, а того все нет и нет. Настала ночь. Ночью пошел дождь. Кирпич омыло, он лежал в мелкой лужице и смотрел ввысь на то место, где пролежал сто лет и где принял на себя удары вражеских ядер. Место было занято... Что ж, такова, знать, судьба. На следующий день шел мимо мужик. Шел с богослужения из Успенского собора домой. Он и поднял кирпич. Старуха, жена мужика, встретила его с ворчаньем:
– Это ж надо! Люди-то с обедни просвирки носят, а ты кирпич приволок!
– Не шуми, старая, просвирку я тоже принес. А кирпич нам в печь надобен, как раз одного не хватает, треснул давеча.
И лег кирпич в кладку русской печки, как раз туда, где дрова горят и пища варится. И эта служба глянулась кирпичу: дрова, огнем палимые, шелестят, уха налимья в горшке булькает, грибы белые на сковородке шипят-жарятся. Дух вокруг домашний, ласковый. Старики хоть иногда и ворчат друг на друга, однако живут мирно, дети и внуки их навещают. Понравилось здесь кирпичу.
Но вот однажды почувствовал он вокруг себя не такой огонь, как всегда. Горело не только в печи, но и за печью, горел весь дом. И вскоре сгорел дотла, только печка и осталась, да и то вся перекосилась, растрескалась. А вскоре попало в нее ядро шальное и вовсе она рассыпалась. Что стало с хозяевами дома – не ведомо было кирпичу. Гуляло по Москве Смутное время: не стало на Руси царя, явились чужеземцы – поляки. Поляки стреляли в русских, русские – в поляков и друг в друга, горело то тут, то там. Слухи разные неслись. Один говорил: «Я законный царь Димитрий», другой говорил: «Нет, я!», одни поддерживали одного самозванца, другие – другого, третьи вообще били всех, кого ни попадя. Каждый был сам по себе, сам за себя. Предавали, грабили, и никто никому не верил. Смута, одним словом. Только Церковь осталась не пораженной смутой, и теплился еще в русских людях страх Божий. Вера православная осталась. Эта вера и спасла, не дала пасть окончательно ни Москве, ни России-матушке.
Валялся наш кирпич на дороге, и никто его не поднимал, никто не убирал – не до него было. Видит как-то он: мчится на него пара запряженных лошадей и карету за собой тянет.
«А ведь колесу меня не миновать!» – только успел подумать кирпич, как раздался треск, грохот, ржанье и вот уже карета без колеса лежит опрокинутая. Страшно ругаясь, вылез из-под нее важный поляк в роскошной одежде.
– Ну и страна! – орал он. – От врагов отбился, болота миновал, а на кирпиче все рухнуло!
Очень этот пан спешил в Кремль, который тогда был в руках поляков. Да вот на тебе! Схватил он со злости наш кирпич, да как шмякнет им со всей силы по железной оси кареты. Кирпичу-то хоть бы что, а ось возьми да погнись. Вытаращился поляк на кирпич: да как же это может быть?
– Да вот, может, – отвечает ему кирпич. – Уж больно ты спешишь. Да, видно, Христу Богу нашему и верному святому Его, Георгию Победоносцу, Москвы покровителю, твоя спешка неугодна.
Не услышал, конечно, такого ответа вельможа польский, а если б услышал, то обязательно, хоть чем, но расколол бы кирпич! Велел он колесо на ось ставить, а ось выправить. И все это нашим кирпичом. Ничего больше под рукой не оказалось. Бросил он потом кирпич в карету, поехал. Да на наших воинов и нарвался.
– А зачем кирпич наш украл? – грозно спросил поляка предводитель наших воинов. – Нешто кирпичей у вас своих нет?
А поляк только глазами от злости и досады поводит и что ответить – не знает.
Вскоре Москву совсем от неприятеля освободили. Освободило наше ополчение с Мининым и князем Пожарским во главе. А первой в Москву, во главе войска, вошла Сама Богородица в образе Казанской Своей иконы.
После того заложили наш кирпич в мостовую недалеко от Кремля, откуда ему виден был Успенский собор и то место в стене, где он сто лет пребывал в каменном единении с собратьями. Грусть охватывала его от вида собора, очень хотелось ему на старое место, нет в мире лучше этого места, но только вздыхать оставалось кирпичу, если б он умел вздыхать.
Теперь служба у него пошла особая. Его топтали, ездили по нему колесами, долбили по нему, когда он зимой льдом обрастал. Его полировали ветер и дождевые потоки, покрывали ковром осенние опавшие листья, а после них – снег. Многие-многие годы провел кирпич, живя так. Множество его соседей-булыжников заменили другими, а он все лежал и лежал, пока конь какого-то лихого наездника не выворотил его из земли. Подобрал его один мужичок и в угол своего дома вставил, взамен вывалившегося. Это было самое скучное время из всей жизни кирпича. Угол дома выходил на лужайку, где паслась хозяйкина корова. Иногда корова чесала свой бок о наш кирпич и это было единственное развлечение, хотя и не очень приятное, потому как после чесания на кирпиче оставалась растертая грязь.
Он напрягался, прислушиваясь, не донесется ли до него знакомый благодатный кремлевский перезвон, но здесь звучал только колокол местного храма и заглушал собой все остальные звуки.
И вдруг многолетняя дремота разом оборвалась ревом огня. Огонь ревел, выл, трещал. Не было еще такого огня на Москве. Метались в огне французы, тоже не видевшие такого пожара. Еще недавно они восхваляли, как бога языческого, своего императора Наполеона, который полмира покорил и в Москву вошел. Теперь же они кляли его за то, что он привел их сюда, воевать с этим страшным, для любого врага, народом, который даже собственную столицу сжег, чтоб не досталась врагу.
Минуло и это время, и наш кирпич вновь стал храмовым кирпичом. Он лег во внешнюю кладку алтарной стены, как раз над окном. Но тут недолго суждено ему было пробыть. Недолго он смотрел на свое бывшее место на Успенском соборе – тот и отсюда был виден, выглядывал из-за зубцов кремлевской стены. Однажды ночью, когда наш кирпич любовался отблеском крестов в лунном свете, его вдруг грубо выдернули из кладки вместе с решеткой на окне. То были церковные грабители, самые окаянные из всех грабителей. Они влезли в окно, а лом бросили рядом с кирпичом.
«Ты что ж это делаешь?» – возмущенно спросил у лома кирпич.
«Да я-то при чем?!» – зазвенел в ответ лом. И он был прав.
Через то же окно вылезли грабители с мешком награбленной церковной утвари. Вылезли и стали лом искать. А пока они грабили, луна зашла за облака и наступила кромешная тьма. Руки грабителей с растопыренными пальцами шарили по земле вокруг лома, но все мимо. Они ругались последними словами, но точно сила какая отводила их руки от лома. Они ведь наметили еще один храм ограбить и вдруг такая незадача. Один из грабителей вдруг споткнулся о кирпич и рухнул плашмя в траву. Еще более мерзкая ругань понеслась к небесам. Причем кирпичу показалось, что его кто-то приподнял, чтобы нога грабителя зацепилась. Упавший поднялся, пошарил рукой, нашел наш кирпич и сказал:
– Ладно, нечего искать, время дорого. Вроде, крепкий кирпич. Поехали. Попробуем им замок сбить...
Бросили грабители мешок да кирпич на подводу и покатили. Ехать же было совсем недалеко. Но около храма, который они наметили, толпился народ, и очередное злодейство пришлось отменить. Покружили они вокруг, но грабить не решились. Поехали за город, в свое разбойничье логово, добычу делить. А кирпич наш забытый на подводе лежит.
Вот едут они лесом... Стали тут бесы рогами их подкалывать, чтоб совсем в погибель ввергнуть.
«Тьма-то какая крутом!» – подумал один из грабителей и поежился. А бес тут как тут, за левым плечом его шепчет:
«Бери кирпич, да бей сотоварища. Все тебе достанется!»
Но товарищу его, что сзади сидел, другой бес то же самое шептал. И товарищ, сразу вняв бесовскому голосу, поднял кирпич и опустил его с размаху на голову первому. И полетел тот с подводы в овраг, а за ним и кирпич наш.
Очнулся первый грабитель через некоторое время, и, открыв глаза, увидел над собой доброе бородатое лицо. Приподнялся он на локтях и заметил рядом с собой кирпич, который был весь в крови. Застонал грабитель и за голову схватился – от боли и досады.
А старичок бородатый и говорит:
– Ну что, Василий-горемыка, како денежки Божии поделил?
– Откуда ты знаешь мое имя, старец? – поразился грабитель.
– Ничего нет тайного, Василий, что не стало бы явным. Это не людские слова – Христовы. Бог все видит. Вот этот кирпич, мертвый, бессловесный, и то осмысленнее вас оказался. Пытались вы его к делу злому приспособить – не получилось. Мало того, он ко мне тебя привел. Ты не скорби, что тебе этак досталось. Это воля Божия о тебе. Милость Его великая. Голова кровью обагрилась, глядишь, душа светом озарится покаянным. Али, скажешь, тьма кромешная тебе не страшна?








