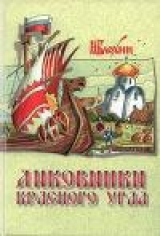
Текст книги "Диковинки Красного угла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Три армии
Наполеон стоял в своей обычной позе, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, и мрачно смотрел перед собой. Победитель Европы думал: «Вот стою я в сердце побежденной России, на Соборной кремлевской площади Москвы, но где же побежденные?». Москва, выгоревшая дотла, была пуста, окружающие бескрайние леса внешне были очень красивы, но в действительности очень враждебны...
«Где же этот старый сбитенщик?» – вчера попробовал русский сбитень – прокипяченную с медом и пряностями родниковую воду, и очень понравилось. Велел, чтоб и сегодня принес.
Медленно пошел по направлению к колокольне Ивана Великого: «Хоть на леса погляжу, обрыдли эти камни». Неуютно себя чувствовал властитель среди каменных православных храмов. Стоящая сзади свита – маршалы Бертье, Даву и Мортье – молча пошли вслед за императором, вполне разделяя его настроение, и вопросов не задавали. Когда поднялись на вершину колокольни, моросящий дождик кончился, и из-за облаков выглянуло солнце. Вид обгорелой черной Москвы был отвратителен, но еще более был отвратителен вид беснующейся пьяной солдатни. Наполеон не любил всех русских, но больше всех ненавидел сейчас генерал-губернатора Москвы Растопчина, который устроил пожар в своем городе. Гениально устроил, поджег всё, что горело, все противопожарные средства увез, а оставил огромный винный склад. И даже песком завалил, чтоб не взял его огонь. Склад давно расчищен и растаскивается, и из-за его огромных размеров его растащат еще очень не скоро. Даже Даву, самый жесткий из маршалов, не расстреливает пьяных офицеров-дебоширов – махнул рукой.
Наполеон отвернулся от гадкого зрелища великой армии и перевел взгляд на Воробьевы горы. И оторопело замер. Его рука вскинулась вперед и он истерично крикнул:
– Что это?! Откуда эти войска?! Почему Ней не доложил?! Он должен был заметить их раньше!
Маршалы испуганно переглянулись. Наполеон яростно топнул ногой:
– Не меньше трех армий! Да каких! Даву, Мортье! Немедленно поднимайте ваши корпуса, этот пьяный сброд. Чего уставились?
Бертье, начальник штаба всех императорских войск, двадцать лет сражаются бок о бок, пребывал в невероятном ужасе. Таким императора он еще не видел.
– Сир, – проговорил он сдавленным голосом, – там никого нет.
Даву же отчеканил по-всегдашнему бесстрастно и спокойно:
– Сир, я подниму своих спившихся мародеров, но там, куда Вы показываете, точно никого нет.
– Вы что скажете, Мортье?
– То же, что они, Ваше Величество.
– Что ж, я, по-вашему, спятил?!
Ужас в глазах Бертье был уже без меры, казалось, глаза сейчас лопнут, а жесткий, без эмоций взгляд Даву, говорил: «Если Вы настаиваете на Вашей галлюцинации, то – да, спятили».
Наполеон в бешенстве отвернулся от маршалов и почти заревел:
– Они приближаются! Да... три армии!
И тут маршалы увидели, что Наполеона вдруг начало трясти.
«Пропали! Действительно, спятил!..» – обреченно пронеслось в голове у Бертье.
– Они!.. они летят по воздуху! Видите! Головы в сиянии...
– Ваше Величество, опомнитесь! – пролепетал Бертье.
– Вижу вождя! Он весь в черном и с крестом... Вижу Его лицо, – челюсть Наполеона дрожала, он постоянно сглатывал слюну. – Они уже занимают полнеба! Где там шляются Мюрат с Неем?! За мной! – Наполеон рванулся к лестнице и побежал по ней вниз.
Совсем потерявшиеся Бертье и Мортье ринулись за ним. Даву шел не спеша, на ходу надевая перчатки. На половине лестницы Наполеон резко остановился. Бертье и Мортье едва не врезались в него. Император вновь смотрел туда, откуда на него по небу надвигались три армии во главе с вождем в черной одежде.
– Пропали. Нет никого, – сказал Наполеон своим обычным голосом.
– Я вне себя от радости, сир, – проговорил запыхавшийся Мортье.
– Но ведь были же!
– Не было, – тихо сказал подошедший Даву. – Надо всего лишь показаться врачу. Небесный вождь летал в Вашем воображении...
– Не в воображении! Это явно русский монах...
– Нет, в воображении, – совсем уже бесцеремонно перебил Даву. – А Ваше воображение, как нашего земного вождя, должно быть здоровым. Солдаты осатанели, есть скоро будет совсем нечего, когда ударят морозы, они начнут расползаться по лесам, чтобы чем-нибудь разжиться и, естественно, все по лесам же и передохнут... Вам принимать важнейшие решения, сир, и я настаиваю на Вашем обследовании врачами.
Наполеон отвернулся и, сцепив ладони за спиной, медленно пошел вниз. На площади его уже ждали сбитенщик с переводчиком.
– Подойди сюда, старик, – угрюмо позвал Наполеон; о сбитне он уже не думал, перед его глазами неотступно стоял вождь-монах. Он рассказал сбитенщику, что он видел.
– Свят-свят-свят! – проговорил изумленно старик.
– Ты не знаешь такого монаха? Из какого он монастыря? И почему мне казалось, что они летели?
– Не казалось вам, сударь, они летели. А из какого монастыря?.. Простые нынешние монахи по воздуху не пройдут... Три армии, говорите?.. Тогда их вел какой-нибудь великий наш святой, земли Русской покровитель, уж извините.
– А кто у вас главный покровитель?
– Главный наш покровитель – Сергий Преподобный из Радонежа, основатель Троицкой Лавры – Руси твердыни.
Услышав про Лавру, Наполеон вздрогнул: «Сегодня же, сейчас же отряд туда посылаю – чтоб дочиста! Чтоб всё оттуда вывезли!»
– А иконы его есть?
Очень удивился такому вопросу сбитенщик:
– В каждом храме нашем есть его иконы. Вон, в Успенский собор можно зайти.
– Там, где у нас конюшня?
– Как?! – вскрикнул сбитенщик, вытаращив глаза. – А что, больше негде было?
– Негде. Вы всё пожгли.
Почесав затылок, сбитенщик спросил:
– А у вас в Париже какой самый главный храм католицкий?
– Собор Парижской Богоматери.
– Вот когда мы возьмем Париж, а вы его весь сожжете и останется один этот Собор... да нет! И Собор сожжете, и останется один малюсенький костелик, я в него своего коня никогда не введу. Эх, Богоматерь-то у нас одна, а вы в Ее доме – конюшню! Ладно, пойдем, вон, в Благовещенский...
Когда вошли в Благовещенский Собор, сбитенщик подвел его к Сергиевой иконе.
– Он, – хрипло подтвердил император.
Ему стало совсем тошно. Да, дольше невмоготу оставаться в этой проклятой Москве и ждать, когда его солдаты совсем одичают. Да и сам уже он почти одичал: мечется между Петровским дворцом и Кремлем. На душе иногда просто жутко: «По-бе-ди-тель!» Что дальше делать, совершенно не известно. Одна мысль, что уходить (если уходить), не дай Бог, придется опять по этой невозможной Смоленской дороге... – по ночам вскакивал с криком: опять по ней до границы... Ждать зимника, так теплой одежды нет, а русская зима, говорят, несколько отличается от испанской.
«Да, дочиста ограбить Троицкую Лавру, всех сопротивлявшихся – без жалости, на месте... А саму Лавру сжечь! И уходить из Москвы сразу, без промедлений».
– Бертье!
– Я здесь, сир.
– Дайте дивизию этому полковнику... как его?..
– Де Мортемару.
– И пусть он скачет в Троицкую Лавру и забирает там всё! И побольше артиллерии и подвод. Надеюсь, он теперь не заблудится?! А ты чего ухмыляешься, старик? Давай-ка теперь твой сбитень.
– Сбитень берите. А и как же не ухмыляться, когда смешно. Дивизию? На Лавру хоть ты всей своей армией навались – отвалишься. В смуту, как раз 200 лет назад, поляков тысяч шестьдесят ее осаждало. А за стенами наших монахов полторы тыщи всего сидело. Сергий наш свое войско вам же показывал. Кто с таким войском справиться сможет?
Митрополит Платон сидел в настоятельских покоях, по его же проекту и указу выстроенных, и размышлял о своей скорой кончине. Он знал, что скорой, не боялся ее, уповая на милость Божию, и просил Его только о том, чтобы это свершилось после изгнания вражеских войск из Москвы. Он уже приготовил в помощь нашим одну из главных Лаврских святынь, древнюю икону «Явление Божией Матери Преподобному Сергию», а там пусть сами решат, то ли с ней до Парижа идти, то ли вернуть после изгнания неприятеля из Москвы. Иногда вздыхал по-стариковски, что Суворова Ляксан Василича больше нет. При нем бы справились с супостатом уже под Смоленском... В дверь постучали. Он сразу по стуку узнал кто.
– Аминь, – громко сказал митрополит, опередив обязательный возглас входящего «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» – Входи, Самуилушка.
Дверь открылась и вошел наместник, архимандрит Самуил.
– Что стряслось, батюшка? Ты чего такой взъерошенный, чего такой испуганный?
– Владыко, – архимандрит поклонился, – благослови за помощью к Кутузову послать. И быстрей! Нам войско нужно. Из Москвы доносят, что французы силой большой сюда движутся Лавру разорить и ограбить.
– Ну, а зачем же нам войско-то нужно? Войско там нужней.
– Как?! – не понял архимандрит. – А как же мы защищаться-то будем?
– А зачем же защищаться, мы нападать будем.
Архимандрит недоуменно смотрел на митрополита, не зная, что сказать.
– Да у нас святынь-то тут сколько. Одну вот завтра войску и отправлю.
– Владыко! – уже даже раздражение слышалось в голосе архимандрита. – Мы так вообще без единой святыньки останемся. Все сокровища растащат, а нас перебьют. А всё, что ты же тут и понастроил – разгромят и сожгут.
– Не сожгут, батюшка, не сожгут, поостынь, мы сейчас крестным ходом навстречу супостатам свое войско вышлем, небесное, – митрополит кряхтя поднялся из кресла. – И полководец есть – все ихние маршалы ему не чета. Давай-ка, чем суесловить, иди лучше братию на крестный ход собирай, а ты и понесешь святыньку, что завтра нашим воинам отправлю.
Архимандрит испытующе и с недоумением глядел прямо в глаза старому митрополиту: «Не много ли на себя берешь, владыко? не слишком ли ты дерзновенен?» А митрополит в ответ глядел тихо, просто и улыбчиво. И несокрушимая твердость, абсолютная вера в то, что он сказал – вот что еще обрамляло тишину, простоту и улыбчивость.
Уже два года как архимандрит Самуил постоянно общается с митрополитом Платоном, но никогда еще их взгляды не задерживались друг на друге больше нескольких мгновений. Монах говорит с собеседником и слушает его, не утомляя взглядом – много во взглядах соблазнов всяких, мало ли какая твердость-каменность «долбанет» оттуда из-за смены настроения. Но сейчас от долгого митрополичьего взгляда, который сам же и вызвал, архимандрит вдруг начал чувствовать в себе ту же веру в слова митрополита, про которые только что думал: «Много на себя берешь!» И уверенность растекалась по всей душе и твердела. Само смирение смотрело на него из глаз митрополита, и архимандрит Самуил вот сейчас осознал: да, это смирение может призвать небесное войско. Холодок пробежался по спине архимандрита, он осознавал теперь, что видит перед собой святость, которая ничего не говорит от себя, а уповает только на Бога и получает от Него всё просимое. По-Евангельски: о чем не попросите с верой Отца Небесного, всё получите. Святость не ищет ничего своего или лишнего.
– Прости, владыко, – прошептал архимандрит.
– Бог простит, и ты меня прости, – широко улыбаясь, сказал митрополит и обнял архимандрита. – Иди, собирай братию.
Длинной вереницей, с хоругвями, крестами и иконами шли монахи вдоль стены Лавры, выдержавшей все осады, и громко пели, взывая к небесам:
«Цари-це наша Пребла-га-ая, Надежде наша Богоро-ди-це, зриши на-шу беду, зри-ши на-ашу скорбь, помози нам, яко не-е-емощным...»
И шло уже в защиту немощным земным непобедимое воинство небесное.
Полковник де Мортемар без энтузиазма воспринял приказ ехать с дивизией грабить Троицкую Лавру. Этот приказ неделю назад он уже не выполнил и до сих пор не понимал, почему. Наваждение какое-то. Уже на десятой версте Троицкой дороги поняли, что заблудились. Невозможно заблудиться на Троицкой дороге, но – заблудились. И по-дурному начали плутать по каким-то деревням, где на вопрос, как к Троице проехать, мужики пожимали плечами и в один голос утверждали, что не знают.
Поляк при штабе де Мортемара, хорошо знавший русский язык, скрежетал зубами и бешено ругался.
– Что, ты не знаешь, где Троица?! – притянул он одного мужика, вынимая саблю.
– Ну точ-те-грю – не знаю!
Де Мортемар остановил поляка:
– Может быть, и правда не знает.
Ненавидящим взглядом окатил поляк своего начальника:
– Пан полковник! Ну какой же русский не знает, где Троицкая Лавра! Любой русский, хоть из архангельского леса, пьяный, вперед спиной всегда к ней выйдет. На Воробьевых горах заблудится, а Лавру с закрытыми глазами найдет! Веди, собака, не то зарублю! – вновь налетел он на мужика.
И де Мортемар увидел, что перед такой угрозой мужик перестал корчить из себя простеца и, бесстрашно глядя в лицо поляку, сказал:
– Руби. А проводника к Троице ищи в другом месте. Быстрей руби, быстрей ищи, а то вон темнеет, и как бы вас в темноте кто другой не нашел.
Остановил тогда поляка де Мортемар. Это убийство было бы лишним и могло иметь непредсказуемые последствия. Да и, действительно, стало уже совсем темно. И он принял единственно возможное решение – возвращаться. И как только решение было принято, через час они оказались на Троицкой дороге, но уже в пяти верстах от Москвы.
– На дорогу вышли, может, все-таки пойдем к Троице? – сказал неугомонный поляк.
Де Мортемар даже не ответил ему. Сквозь кромешную тьму идти 75 верст среди лесов, полных партизанами, было бы безумием.
Наполеон был в ярости.
– Вы полковник или курсант-первогодок? Вас что, не учили ориентироваться на местности?!
Де Мортемар молчал.
Наполеон только покричал, но плачевных для де Мортемара выводов не сделал, ибо знал, что русские дороги – это не берлинские шоссе, а эти жуткие лесные дебри – не Булонский лес, где все деревья пронумерованы табличками. Да и всё здесь чудит, всё тут не так, всё против правил.
И вот снова надо идти на Троицу. Утром, когда де Мортемар вышел на улицу, он сначала застыл на месте прямо у подъезда, а потом даже сплюнул: кругом стоял густейший туман, в пяти шагах ничего не было видно, и с каждой минутой он густел всё больше. Еле добрался он до расположения уже поднявшейся дивизии. Когда выбрались за заставу, туман стал непроницаем. Остановились для совета. Очень интересно протекал совет – никого и ничего не видно, одни голоса. И даже казалось, что их тоже гасит туман. Офицеры и солдаты были храбры и испытаны в сражениях, но сейчас в их словах звучал испуг на грани паники. И самого де Мортемара начал охватывать безотчетный страх. Все голоса говорили одно: надо возвращаться. Но решение было принимать де Мортемару. И он его принял – возвращаемся. «Пусть меня расстреляют, – думал он, – но хоть дивизия будет цела».
Решил идти докладывать императору сам. Бертье пожал плечами – идите, только я бы умягчить мог.
– Не надо умягчать, – сказал де Мортемар. – Я сам.
Когда он вошел, Наполеон стоял у окна, сцепив ладони за спиной, и смотрел на туман. Не оборачиваясь, произнес:
– Не надо докладывать, полковник. Идите, готовьте свою дивизию к маршу. Насколько это вообще возможно при таком тумане. Как только он рассеется, мы выходим из Москвы...
А сам император не мог оторвать взгляда от тумана, тошнота и страх, ранее неведомые ему, переполняли душу, ему опять мерещилось, что проступает из тумана облик вождя трех непобедимых небесных армий.
– Я смотрю, у вас сколько флакончиков с водой. И в каждом – святая? – спросила Клара Карловна.
– Конечно. От каждой иконы, от каждого святого, к которым обращаемся, в водичке от них особая святость. Водичкой от Николы-угодника мы с Ваней нашу лодку окропляли, когда в путешествие на ней отправлялись. Это когда в домике нашем жили. Никола-угодник – помощник всем путешествующим, особенно на водах.
– А это флакончик особый? – Клара Карловна с интересом разглядывала небольшую фиолетовую вазу с крышкой причудливой формы.
– Особый, – подтвердил со вздохом Игнатий Пудович. – Особый напоминатель мне на всю оставшуюся жизнь. В нем водичка с молебна у чудотворной иконы.
Неупиваемая Чаша
– Сама икона находится в Серпухове, в монастыре, который называется Высоцким. Он стоит высоко, на горке. А за флакончиком у меня фотография. Вот, видите, перед Владычицей нашей – Чаша с крестиком на столе, а в Чаше – Младенец, ручки в стороны приподнял. Это Спаситель наш. Стро-о-го смотрит. Да и как еще на нас, окаянных, смотреть! Смотрит-то строго, а спрашивает с нас до времени милостиво. А коли бы по справедливости... Каждый вечер перед Ней акафист читаю. И весь акафист дрожу от страха – каким был тогда, и не дай Бог возврата! Сколько нас таких очищалось благодатью святости от пагубы какой (у каждого – своя), а потом опять в омут, потому как не о том думаем, чтоб душу возвысить, а о том, чтоб плотские свои греховные потребы ублажить. Ублажил – и бес в тебе опять ожил. А когда благодать сознательной волей своей бережем, эти отродья и приблизиться к нам не смеют.
Давно это было...
Маленький мальчик и его бабушка шли по улице, завернули за угол и наткнулись на молодого Игната, сидевшего на снегу.
– Ой, бабушка, зачем дядя так сидит? – воскликнул испуганно мальчик.
– Дядя пьяный, – мрачно ответила бабушка, покачав головой, и добавила еще что-то тихо и неразборчиво, но явно, что-то очень неприятное – дяде.
Сам же дядя не мог ничего слышать, как не мог и подняться.
– А что такое – пьяный?
– Да ты глянь на него: вроде человек, а ведь – не человек.
– Да как же не человек? Вон руки, ноги...
– А ты в глаза глянь... Руки есть, а делать ничего не могут, только стакан держать, ноги есть, а стоять не может, голова, вроде, на месте, а спроси его о чем, так он ничего не понимает.
Что-то произнес невнятное дядя и, наконец, увидел стоявших перед ним.
– Чего он сказал, бабушка?
– Разве ты не слышишь? «Мы, му, му», а еще «бе-ме».
– Как коровка или овечка?
– Даже хуже. Коровки своим «му» друг с другом изъясняются, а мы, люди, словами. А у него слов сейчас нет, только «мумекать» может, да «бекать» бессмысленно.
И тут мальчик взглянул на бабушку взрослым испытующим взором. И бабушка поняла его взгляд и хотела отвести свои глаза от глаз внука, которые ни разу еще за его маленькую жизнь так не смотрели. Скорее всего, ему вдруг вспомнилась ее фраза про стакан, который только и могут держать дядины руки. Эту же фразу она недавно по телефону его папе сказала. Говорила при нем. Вообще, она всячески оберегала внука от семейной трагедии и от его родителей, которые давно уже были в разводе. Папа допился до белой горячки и находился в специальной больнице. На вопрос внука, где его папа, она резко буркала, что в больнице, и придет, когда выздоровеет, навещать его нельзя, и переводила разговор на другую тему.
Но промашки в телефонных разговорах насчет папы все-таки были. И сейчас ей показалось, что все они вдруг рядом ему вспомнились, и именно они сейчас, соединившись в один поток, и смотрят на нее взыскующими внуковыми глазами.
– Бабушка, а мой папа такой же?
– Да, – выдохнула бабушка.
– А как его лечат?
– Да ерундой всякой. Не лечится это... Вот, несу сейчас одно средство, в церкви дали, попробуем...
– А что это – церковь?
– Ну-у, дом с крестами, где Богу молятся. Вот, водичку дали там и икону.
– А почему ты меня туда с собой не берешь?
– Да я сама там сегодня первый раз была.
Ей сразу вспомнился разговор со священником, который только час назад был. Когда она вошла в храм и стала озираться, к кому обратиться, он сам подошел к ней и огорошил вопросом:
– Ну что, мать, приперло жизнью? Кто пьет-то, муж или сын?
– Сын, – выдавила она. – А вы откуда...
– Я не прозорливец, не пугайся. Просто вас таких за версту видать. А что пришла – молодец. Посетил Господь.
– Да уж не слишком ли страшное, не слишком ли тяжкое посещение? Уж не надо! – эта ее тирада шла по нарастающей неудовольствия, и последнее утверждение было выкрикнуто с вызовом.
А священник вдруг улыбнулся и ответил тихо, почти шепотом, приблизив к ней свое лицо:
– Надо. И не слишком. Его посещения, когда Он делает нам в жизни уютное и удобное, мы не воспринимаем как Его посещения. Мол, это мы сами с усами, всё можем-переможем. А на самом деле, всё в грех переложим. А сколько раз тебе Господь Себя являл?!
– Как это? Нисколько, – удивилась бабушка.
– А я думаю, много-много раз за всю твою жизнь, и столько, сколько надо. А удивляешься ты оттого, что всю жизнь положила на что угодно, только не на то, чтобы разглядеть Его чудеса и милости, тебе явленные. Разве не чудо было твое рождение, а потом – рождение у тебя твоего сына? Вообще, рождение человека – чудо из чудес. Две клеточки махонькие слепляются друг с другом во чреве матери, а в этом слепленном микросгусточке – уже весь человек заложен. А ты хоть раз задумывалась, что за такие дары отблагодарить Бога надобно? Да хоть бы просто вспомнить про Него! Ну, так вот Он тебе и напомнил о Себе, потому как благодарность твоя не Ему нужна, а тебе. Вот тебе сколько лет?
– Сорок восемь.
– Как думаешь, сколько еще протянешь?
– Ой, да кто ж его знает. И не думала об этом.
– Верно. Никто не может знать наших времен и сроков, кроме Господа Бога, ни к чему думать о том, сколько осталось. Но как же вообще не думать о том, что помрешь? А если завтра?
– Ой!..
– Вот тебе и ой! И с чем ты к Нему на ответ пойдешь? Что сына-пьяницу воспитала? Сын-то крещеный?
– Нет. Как-то не думала...
– Так это и плохо очень. Ведь за него на литургии и молиться-то нельзя. Ну, это, Бог даст, исправим, – священник сделал паузу и вдруг возвысил голос: – Если будет время! Ну вот, и чем же тебя тогда призвать? Только болезнью сына. За грехи ведь родительские дети наши болеют, попускает это Господь. А это матери сигнал. А твой приход сюда – первое в жизни твоей благое дело. Вот тебе водичка от иконы «Неупиваемая Чаша», она против «змия зеленого» главная воительница. Вот тебе несколько молитв на бумажечке и икона. Икону дома поставь на самое почетное место. Сегодня ничего не ешь, молитвы выучи, а завтра утром приходи на исповедь и причастие, а потом к сыну поедешь. И я с тобой поеду, Бог даст, окрестить его удастся. Ну, а уж водичкой от «Неупиваемой Чаши», это обязательно попотчуем. Тебя как звать-то?
– Ой, имя у меня чудное, я даже стесняюсь, Аглаидой меня зовут.
– Э! Да это прямо милость Божия! И никогда имени своего не стесняйся, имя у тебя замечательное: Аглаида – это госпожа человека именем Вонифатий. Давно это было, тогда христиан мучили за исповедание Христа. И вот, посылает она раба своего, Вонифатия, чтоб он принес ей в дом мощи какого-нибудь мученика. А Вонифатий вел жизнь загульную. Ушел он за мощами, а как увидел страдания христиан, то и сам стал мучеником, сам пострадал за Христа. Уходил грешником, а принесли Аглаиде мощи святого. Что просила, то и получила. Храм она в честь него около города Рима выстроила, а святой мученик Вонифатий теперь – главный врачеватель этой болезни, которой сын твой болен и миллионы иже с ним. Так что мученику Вонифатию об исцелении молимся, как и «Неупиваемой Чаше». А Аглаида, всё имение раздав, остаток жизни провела в покаянии и молитве и пережила мученика на 18 лет. И положили ее в том же храме рядом с Вонифатием. Именины у тебя 1-го января. Сейчас-то ты куда?
– За внуком.
– Крещеный?
– Крещеный!
– Кто ж крестил?
– Сын и крестил.
– Вот видишь, пьяница своего сына крестил, а ты – нет. С этого завтра исповедь и начнем. Все свои грехи вспоминай, ну, а что не вспомнишь, или за грех не посчитаешь, я, с Божьей помощью, буду спрашивать. На борьбу с бесом надо идти покаявшись.
– С каким бесом? – удивилась бабушка.
– А ты думаешь, кто твоего сына оседлал?! И по твоим грехам! Об этом тоже не забывай. Как внука зовут?
– Тимоша.
– А родился когда?
– 15-го декабря.
– Так у тебя с ним в один день именины! Диакон Тимофей – его небесный покровитель. Сам взошел с молитвой на костер, во имя Христово.
– Ой!..
– Да нет же, матушка, не ойкай, это не всем дано свои грехи кровью смывать. Нам с тобой положено покаяние с молитвой. Жизненную тяготу Господь каждому по силам дает. И обязательно завтра с внуком приходите.
Бабушка спросила робко:
– А вас, простите, как величать?
– Меня зовут – отец Варлаам.
Разговор продолжался еще минут пятнадцать. Из храма бабушка вышла, шатаясь, и побрела в детский сад за внуком.
– Бабушка, – сказал мальчик, – а когда ты меня в церковь сведешь? Когда папе водичка поможет?
«А если не поможет?! – тюкнуло в мозгу у бабушки. – Да и то – водичка какая-то... Чего уши развесила?»
И тут же встало у нее перед глазами доброе уставшее лицо отца Варлаама, а в ушах слова его:
– А бывает, что для нашего покаяния нужно, чтоб мы всю жизнь до кончины ходили за больным деточкой. Бывает, что только в том наше спасение. Господь нас знает лучше, чем мы себя.
И когда он говорил это, ей показалось, глядя на его печальные глаза, что это говорил его личный опыт. Этими словами он провожал ее из храма.
– Будем ходить теперь, Тимош, даже если не поможет. На все воля Божья. (Ой, да я ли эго говорю?) Вот завтра и пойдем, – сказала бабушка, а потом добавила: – Ну, пошли, чего на него смотреть? Насмотрелась я...
– Как «пошли», бабушка? – испуганно спросил Тимоша. – А дядя?
– Чего «дядя»?
– Да он замерзнет! Или... обидят его!
«Это точно, разденут», – подумала бабушка.
– И чего ж ты предлагаешь? – спросила она вслух.
– Как что? С собой взять. Он же перестанет быть таким.
– Здра-асте, – почти даже пропела бабушка. – Давай теперь алкашей по дороге собирать. Вытрезвитель на дому! Пойдем!
Бабушка потянула внука за руку и потянула довольно сильно. Но внук уперся и так глядел на бабушку, что та перестала его тянуть.
– Бабушка, а папа был таким? – спросил Тимоша, не отрывая своего взгляда от глаз бабушки. И никак не могла отвести она глаза от взгляда внука.
– Он и хуже бывал, – ответила она, прикрыв глаза и стиснув зубы, но и сквозь прикрытые веки чувствовала она его взгляд.
– А если и его так же бросят и не помогут?
– А ему и не помогал никто!.. Кроме меня.
– А мы давай этому дяде поможем, тогда, может, и папе помогать будут.
Такого вывода бабушка никак не ожидала от внука. Постояла она, брезгливо глядя на дядю, вздохнула, рукой махнула и сказала:
– Эх, ну и ладно, потащим пьянчужку этого в домашний вытрезвитель!
– Бабушка, ты сама говорила, что обзываться нельзя!
– Ладно... – бабушка уже тащила за руку мычащего дядю. – Давай! Шевелись, уродина!.. А ты, Тимоха, чего встал? Сзади поднимай, со-вет-ник! Худой, а тяжелый... Тимоха, справа на себя его тяни, а то завалит...
...Когда открыли дверь в квартиру, сил удерживать дядю у бабушки уже не было, и он рухнул на пол. Рухнул, правда, для себя удачно: на руки и на колени. Бабушка сокрушенно покачала головой и начала раздеваться сама и раздевать внука. Дядя, меж тем, оставаясь на коленях, сложил руки и в пол теперь упирался локтями и лбом. Глаза его, как были, так и оставались закрытыми.
– Пусть так и лежит, не будем трогать его, Тимоша.
– Пусть лежит, – подтвердил Тимоша.
Бабушке было отчего-то очень легко на душе, хотя очень тяжело рукам – такую тяжесть на себе волочь! Теперь мысли ее вернулись к подаренной иконе. Самое почетное место в ее однокомнатной квартире оказалось над кроваткой внука. И гвоздик там торчал, а у иконки петелька имелась. Она повесила ее, вздохнула, на нее глядя, и перекрестилась. Впервые в жизни. Взяла листочек с молитвами.
Думала быстро пробежать глазами, но, неожиданно для самой себя, начала читать громко вслух:
– «О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем... – голос у бабушки нарастал. – Молений наших не презри... – бабушка запнулась и повторила страшным шепотом: – Не презри!.. – и сразу опять почти закричала: – Услыши нас: жен, детей, матерей!..» – и тут она уронила листок и разрыдалась.
Вдруг сзади послышался непотребный рев. У бабушки враз оборвались рыдания, и она испуганно обернулась. На нее смотрели бессмысленные и безумные открывшиеся дядины глаза. Рот его был открыт, и того гляди, из него вновь исторгнется такой же жуткий рев. И тут бабушка взяла бутылку со святой водой, откупорила ее и решительно пошла на дядю. Встала над ним, остававшимся в такой же нелепой позе, и безо всяких рыданий, громко, почти приказывающе произнесла:
– «О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем. Молений наших не презри. Услыши нас: жен, детей, матерей!..»
Дальше она не знала, листок остался лежать у кроватки. Но она в этот момент была уверена, что того, что она сейчас произнесла, было достаточно. И еще бабушка была уверена в том, что Та, к Кому она обращалась, сейчас рядом и слышит ее. Бабушка наклонила бутылку и вылила струю воды на голову дяди. Голова его дернулась, и он так застонал, что бабушка отшатнулась. Теперь он именно застонал – жалобно, воюще, и пополз вдруг вперед, так и оставаясь на карачках. А бабушка всё поливала и поливала непрерывной струйкой его голову. Так и двигались они, а дядя при этом движении непрерывно стонал.
Не могла знать ни бабушка, ни тем более шедший за ней Тимоша, что происходило с дядей. А происходило вот что: когда вырвалась молитва из бабушкиных уст и открылись его глаза, он увидел впереди себя будто кусок чернозема, из которого торчало десять виноградных лоз с одной виноградной гроздью на каждой лозе. Но не чернозем видели его глаза, и не простые гроздья свисали с виноградных лоз. Черная, живая, страх излучающая тьма пульсировала и копошилась перед глазами, и будто кто толкал к ней, и невозможно было сопротивляться толканию. Да и как сопротивляться, если нет уже ни сил, ни воли! А гроздья... Он вдруг услышал голос в себе, от которого всё содрогнулось в нем, и голос этот его разделил как бы надвое: он увидел себя со стороны, в нем стало две личности, два «я». Голос этот говорил для обоих: «От виноградников содомских виноград их, и лоза их от Гоморры, гроздь их гроздь желчи, гроздь горести их; ярость змиев вино их и ярость аспидов неисцельна...»
До этого он не читал Писания, но знал (да и все знают), что Содом и Гоморра – это два города, испепеленные с неба огнем Божиим, ибо настолько погрязли жители их в грехах, что только огонь – участь их. Так решил долготерпеливый и многомилостивый Бог. Ужас для человека такого Божьего решения заполнил сейчас всю душу стоящего на карачках. И сзади никто не толкал. Убил толкающую силу голос. И, наконец, будто молнией пронзило сознание: голос, что он слышит, этот голос Того, Кто поразил огнем Содом и Гоморру! И вот, перед ним плоды призывающей шевелящейся тьмы: содомогоморрский виноград, гроздья желчного пьянственного винограда, гроздья горести и змеиного яда. И – пополз навстречу адскому призыву!..
Застонало, завыло второе «я», которое себя со стороны видело: опомнись! Куда ты!.. Но – поздно, уже съедена первая гроздь, помрачающая ум, переворачивающая разум и убивающая память. В каждой грозди свое зло. И каждая гроздь оборачивается в душе зеленым змеенышем, цель которого – пожрать душу. Вторая гроздь заражает душу бесстыдством, язык становится будто лопата, выкидывающая из пораженной души нечистоты. Третья гроздь делает язык-лопату балаболкой, которая выдает все вверенные ей тайны. Четвертая – распаляет похоть и уничтожает способность любить. Пятая делает человека бешеным чудищем, у которого главный кумир – собственная ярость: морду набить кому-нибудь надо, и совершенно все равно, кому и за что. Шестая напрочь пожирает здоровье: руки ничего не держат, способны только дрожать, голова разламывается, глаза не видят, желудок рвет на части, стареешь на глазах и умираешь безвременно...








