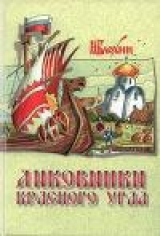
Текст книги "Диковинки Красного угла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Суровое Сергиево наказание
Впереди уже показались купола и башни нижегородского Кремля. Необыкновенно красив сам по себе высокий берег Оки, где она впадает в Волгу. Кремль же наверху прибавлял этой красоте таинственности, тишины и величия. Да и разве сравнить полоску Москвы-реки с водной громадой слившихся Волги и Оки! И ни в чем Ока в этом месте не уступает Волге, ни в мощи течения, ни в ширине.
– Эх, дивная красота, батюшка Сергий! – сказал монах-возница, подхлестывая двух лошадей, тянущих повозку.
– Красота-то красота, да вот благодать отсюда отошла...
– А все-таки, батюшка, прости что говорю, но зря без дружины идем. Говорят, лихие люди нижегородцы, да и Борискова дружина тут.
– А у нас митрополичья грамота самого владыки Алексия.
– Ну а если им и митрополичья грамота не указ?
– Тогда с Божьей помощью, прямо с наказания начнем.
– Эх, батюшка игумен, прости Христа ради, да чем их накажешь, ведь войска ты не взял?
– Мы с тобой другое взяли, – отец Сергий, улыбнувшись, похлопал рукой по громадному деревянному ящику, лежащему на повозке. В ящике позвякивало железом о железо. – Направляй-ка к Спасо-Преображенскому собору. Он главный в городе. Вовремя Господь сподобил доехать, как раз к воскресенью. И служба еще не началась.
Около открытых дверей собора сидел на лавочке человек, похожий на сторожа. Увидав подъехавших, он подошел к повозке.
– Мир вам, путники. Издалече?
– Мир и тебе, раб Божий Антоний, – отец Сергий снял скуфейку, надел клобук с мантией и сошел с повозки.
– А нешто ты знаешь меня? – удивился раб Божий Антоний, подходя под благословение. – Ой, – воскликнул он, когда над ним была занесена благословляющая рука отца Сергия. – Это ты, что ль, батюшка Сергий? Ослаб я нынче глазами, да и темновато еще.
– Значит, не забыл меня? Ну, слава Богу.
– Да нешто можно мне забыть тебя!..
Да, ту поездку он забыть не мог. Прослышав про необыкновенного радонежского игумена, исцеляющего душевные и телесные недуги, поехал он к нему год назад для исцеления своего душевного недуга. И не недуг даже, хуже, обвал в жизни случился, все рухнуло в одночасье, из ямы надо было выбираться, тоска смертная раздирала, жить не хотелось: его баркас с товарами у Жигулевского камня разбойники татарские ограбили, а баркас сожгли. И сына, родную кровиночку, надёжу, которого вез баркас, убили. За товары рассчитываться нечем – гол как сокол, всего лишился. А за сына с кого спросить, кто ответит? И в душе даже на Господа Бога роптал: ну как же это, Господи, почему допустил?
И поехал к батюшке Сергию, поехал почти без надежды. В монастыре ему показалось излишне тихо, скромно и невеличаво. Не поверил даже, когда на его вопрос, где тут отец Сергий, ему указали на старичка в потертом подряснике, который сгорбленно мотыжил грядки с луком. «Тоже мне, чудотворец!» – неуважительно подумалось. А тут вдруг князь московский Димитрий нагрянул с боярами. Князь, никого не видя, к старичку почти бегом и – в ноги ему упал. «Эге», – подумал странник нижегородский. Потом отец Сергий сам к нему подошел. Да так взглянул... Никто никогда не смотрел так на него: все в этом взгляде соединилось: и любовь с добротой, и строгость с укоризной. «Негоже, раб Божий, на Бога роптать!» И еще сказал, улыбаясь:
– Верно ты, брат, про мое недостоинство подумал. На деле же и того хуже.
И по взгляду его печальному было видно, что вправду он так о себе думает. Тут и разрыдался странник нижегородский, сам не зная, от чего больше, – то ли от смирения, которое он впервые видел, то ли от прозорливости подвижника.
– Бог дал, Бог взял, мил человек. Сына твоего к Себе в Царствие Свое взял – это радость; имущество отнял, считай, что грехи твои нераскаянные отнял по милости Своей.
Только это и сказал батюшка Сергий и хватило этого, чтобы вся душевная болячка на корню исцелела...
– А ты что, батюшка, всех помнишь, кто у тебя бывал? Улыбнулся отец Сергий:
– Таких, как ты, нешто забудешь! Что с глазами-то?
– Да поднял не по силам, надорвался слегка, вот по глазам и ударило.
– Да-а... Не по силам брать – гордыню тешить, Бога гневить. Взяли вы, нижегородцы, не по силам, и грамоты митрополичьи вам нипочем и указы великокняжеские московские – не указы, Богом ставленная власть – не власть... В храме никого?
– Никого, рано еще. А я за сторожа нынче.
– Ну-ка, сторож, помоги ящик вскрыть.
В ящике оказались доверху наваленные большие амбарные замки.
– Эх! – в один голос воскликнули возница и сторож. – И куда ж столько замков, батюшка?
– А храмы нижегородские закрывать, – тихо сказал отец Сергий, направляясь с замком к двери собора.
– Погодь, – испугался сторож, – как закрывать?
– А они вам без надобности.
– Да что ты говоришь такое, батюшка, как без надобности?
– В суд и осуждение будет вам причащение Святых Тайн, коли вы все, с князем вашим во главе, не подчиняетесь Богом данной власти. До покаяния не будет у вас церковной службы.
Вся фигура сторожа и растерянный взгляд его выражали ужас. Монаху-вознице тоже было не по себе: «Побить могут, а то и вообще растерзают...»
Тут перед дверьми появился еще один человек:
– Антоний, что тут происходит? – строго спросил он. – Откуда замок на двери?
– Да вот, – потерянно выдавил сторож Антон, – батюшка Сергий, московский посланник, храмы наши закрывать приехал.
– Че-вво?! – человек двинулся к отцу Сергию, но на его пути бесстрашно встал монах-возница.
– Осади, – тихо, но веско сказал он.
– Та-ак, ладно, послан-нич-ки московские, – яростно вскричал человек, – сейчас будет вам, сейчас вас самих под замки...
И он побежал по слободе, истошно голося:
– Эгей, нижегородцы! Чернецы московские явились наши храмы закрывать!..
Вскоре отца Сергия и монаха-возницу окружала огромная толпа. Часть толпы возмущенно гомонила, часть угрюмо молчала. Про игумена Сергия знали все, хотя большинство видело его в первый раз. Ближе всех к нему стояли архимандрит, настоятель собора и богатырского вида боярин.
– ...Обнаглела Москва, ишь, до чего додумались!..
– А хошь и Сергий, пусть у себя в Радонеже распоряжается... – такие выкрики слышались в толпе, и они становились все сильнее.
Архимандрит поднял руку, и гомон стих, после чего он обратился к отцу Сергию:
– Беззаконие творишь, батюшка, выше Бога себя ставишь.
Вздохнул сокрушенно игумен:
– По Его-то воле да по митрополитову благословению и пришел я, грешный... Беззаконие я пришел не творить, а прекратить. И ты это знаешь, архимандрит, а говоря иначе, своеволию своему потакаешь... Прости меня, недостойного.
– А почему ты решил, что воля Москвы – Божья воля?
– Верховная власть в державе должна быть одна. А когда ее каждый князь на свою сторону перетягивает, это самая страшная беда Руси – тогда Русь для всех врагов легкая добыча. «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит», – так Спаситель говорит. А Москва доказала, что сила и власть ее – материнская для всех, кто под нее встал. Нет у Москвы ни корысти торгаша, ни бесчинства завоевателя. Мать она теперь всем городам Русским вместо Киева. О чем Господа на ектении просим? О тихом и безмолвном житии, о благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временех мирных. И даст все это Господь, когда вы, наконец, власть ее признаете, бунтовать против нее перестанете. И иго монгольское окончательно упразднится, и остальных врагов с Божьей помощью победим, и Жигулевский камень для ваших караванов благословенным местом станет, и свой город там поставим.
Купец Никита Лодкин, самый богатый из нижегородских купцов, стоял прямо за спиной богатыря-боярина. Он был из тех, кто не гомонил, а угрюмо молчал. Ездил он совсем недавно к Сергию, благословение брал, чтоб караван его баркасов, которых он собрал больше ста, благополучно миновал гнездище татарских разбойников у Жигулевского камня. Батюшка благословил и сказал: пройдешь. И прошли. Чувствовал и понимал купец Никита, что нет у отца Сергия никакой личной корысти и привязанности ни к какому городу, ни к какому князю и все, что он говорит, говорит не для своей выгоды, а Духом Святым и, действительно, понимает больше всех тут стоящих, где – благо, а где – беда.
– А прав батюшка Сергий, – громко сказал купец Никита Лодкин. – На мировую надо с Москвой...
– Ты еще!.. – резко обернулся богатырь-боярин. – Так, – он сделал шаг к отцу Сергию, – сам отдашь ключ?!
– Отдам. В обмен на повинную князя вашего брату своему.
Богатырь-боярин с ненавистью смотрел на спокойное лицо игумена. Казалось, еще чуть-чуть и схватит он его своими громадными ручищами. Взгляд же отца Сергия выражал одновременно твердость и жалость к боярину, как к ребенку заблудившемуся...
Не стал богатырь-боярин хватать отца Сергия, почуял, как непривычный холодок прошел по спине...
– Ладно, – рявкнул он. – И без ключа обойдемся. Я этот замок в три счета вырву... – и он быстро пошел к сторожке-избушке, стоявшей около собора.
А отец Сергий перекрестился на храм и сквозь раздвинувшуюся толпу молча двинулся к повозке.
Через минуту боярин стоял около соборной двери с большим ломом. Еще через мгновенье лом был просунут между замочным хомутом и запором и богатырь-боярин всей мощью своих могучих рук, издав воинственное «р-р-и-их!», рывком дернул лом.
От такого рывка и три замка должны были сломаться, а уж петлям точно положено бы вылететь. Но – звенькнуло, и в своих руках оторопевший горе-богатырь увидел половину лома. Вторая половина валялась на земле. Замок же как висел на петлях, так и остался висеть. Силен был боярин, но знал он, что никакой его силы не хватило бы, чтоб вот так лом сломать. Он озадаченно и со страхом оглядывал обломок лома в своих руках. Наконец все повернули головы к повозке отца Сергия. Он ничего этого не видел, он уже сидел на повозке рядом с ящиком, а лошади медленно везли его к Печерскому монастырю.
Перед боярином встал купец Никита Лодкин:
– Слышь, боярин, давай князя Бориса на Кремлевскую площадь.
Монахи Печерского монастыря вместе с игуменом вышли навстречу отцу Сергию и молча смотрели, как он вешает замки на монастырские храмы. И затем все, вереницей, пошли вслед за повозкой ко Кремлю.
Про то, как богатырь-боярин Сергиев замок ломал, скоро узнал весь город.
– Батюшка, – рядом с повозкой шла женщина, на руках у которой пищал ребенок. – А как же дети?.. Я вот дитё причастить хотела.
– Младенчиков причастим запасными Дарами.
Перед открытыми кремлевскими воротами стоял, надменно скрестив руки на груди, главный воевода дружины князя Бориса. Отец Сергий, перекрестившись, молча шел с замком прямо на него.
«Не отойду, – яростно сказал себе воевода. – Не пущу чернеца московского...»
Но, когда кроткие тихие Сергиевы глаза оказались совсем рядом с его глазами, яростными и бурлящими, он, для самого себя неожиданно, дерганным резким шагом отошел в сторону.
– Мир ти, воин Степан, с именинами тебя прошедшими, – сказал отец Сергий спокойным ровным голосом, проходя дальше.
– Да уж, устроил ты мне именины, – хрипло и с неприязнью произнес воевода.
«Чего ж это я послабу такую дал, чего дорогу уступил?» – промелькнуло в его голове. У него был приказ князя любой ценой противиться всем Сергиевым действиям. Самому воеводе вражда с Москвой не нравилась, всем надоела княжеская междоусобица. А в то же время как не исполнить приказ князя своего?
– Устроил ты мне причастие замками своими, – продолжал возмущенно воевода. – Княжьи разлады – одно, при чем здесь храмы Божии?!
Отец Сергий остановился и взгляд свой перевел на воеводу. И улыбнулся:
– Не досадуй на себя, Степан, что ты мне, худому игумену, дорогу уступил. Бог не в силе, а в правде. Это полководец наш сказал, Александр Ярославович Невский. А твой князь сам неправде поддался и вас за собой тянет. – Тут отец Сергий возвысил голос, обращаясь уже ко всей толпе, стоящей перед кремлевской стеной. – А Спаситель наш говорит: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в нихже несть спасения!» А нынче ваша надежда – это князь-смутьян, а не Бог...
И тут из-за башни вылетел на коне князь Борис. Он резко осадил коня, спрыгнул с него и подбежал к игумену. Остановившись почти вплотную к нему, он бешеным взглядом уставился на отца Сергия.
– Это ты смутьян, а не я, – зашипел князь. – Здесь моя вотчина...
Перебил его отец Сергий:
– Твое на тебе, князь, только штаны да кафтан, все остальное – это Божии дары. И то, что рожден ты князем, это тоже тебе дар свыше. Но как получил, так и отнимется. Что ж ты самочинием у брата вотчину его отнимаешь и говоришь – твоя? На верховную власть посягаешь! А думаешь ли о том, какой с тебя спрос будет и какой тебе ответ держать?! Вот тебе мое слово, князь: сюда из Москвы брат твой с войском идет... Да не за головой твоей идет. Живая ему твоя голова нужна. Садись-ка ты на коня, князь, скачи навстречу и обними брата с раскаянием.
Перевел князь взгляд на обступивших его нижегородцев. И ни в ком сочувствия себе не увидел.
– Дело тебе говорят, князь, ступай с повинной! – крикнул купец Никита Лодкин.
Воевода только голову опустил под вопрошающим взглядом князя. Ясно было, что на дружину надежды нет. Тут и князь Борис голову опустил с тоскливой усталостью.
– Не смущайся, князь, – ласково сказал отец Сергий. – В себе гордыню одолеть – главное сражение в жизни выиграть. Победишь ее – в Царство Небесное вступишь.
Князь поморщился, пожевал губами и тяжело вздохнул.
– Ну... ну, тогда благослови, что ли!
Отец Сергий широко перекрестил его и сказал громко:
– Бог да благословит тебя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Князь вскочил на коня и галопом помчался к Московской дороге.
Игумен повернулся к толпе:
– Антоний, именинник, ты где?
– Здесь я, батюшка, – послышался радостный отклик.
– Бери ключи, беги, храмы открывай, пора обедню начинать...
– Вот такая, деточки, история.
Теперь все смотрели на замок.
– А потрогать можно? – спросил Петя. – Не дергай меня, – он недовольно глянул на брата Павла, – что я плохого сказал?
– Конечно, можно, – Игнатий Пудович сам подал замок Петюне. – Даже нужно. Как же, быть рядом с такой святыней и в руках не подержать! И даже откроем, механизм посмотрим. Хитрый механизм, никакой отмычкой не открыть, только ломать. Да и то... это ж тот самый, которым Преподобный Сергий Спасо-Преображенский собор закрывал. Потом сторож Антон его у себя хранил, а потом он перекочевал в дом моих предков, это сто пятьдесят верст от Нижнего в сторону Москвы. Ну, а когда отец переехал ближе к Москве, спасаясь от коллективизации, все святыньки с собой и взял. Ну и моих добавилось.
– От кого спасаясь? – переспросил Петюня.
– От коллективизации, когда в колхозы загоняли, храмы закрывали да взрывали, справных крестьян-хозяев в тундру угоняли. Были такие времена на Руси и совсем недавно. О них, Бог даст, тоже расскажу когда-нибудь, о тех временах тоже многие святыньки напоминают.
– Уй ты, сколько наворочено, – восхищенно воскликнул Антон, когда открыли заднюю крышку замка. Действительно, всяких пружинок, колесиков, проволочек было великое множество.
– Надо же, – продолжал удивляться Антон, – неужели тогда так умели?
– А почему же им не уметь? – теперь удивился Игнатий Пудович.
– Ну, тогда же люди глупее были.
– Вот те раз! С чего же бы им быть глупее? Человек каким был со времен Адама, таким и остался. Да и... можно сказать, – Игнатий Пудович смешно почесал бороду и улыбнулся, – что сейчас человек глупее стал, чем тогда, когда замочек этот делал, и улыбаться тут нечему, прошу прощения. Знаний набрали, а себя потеряли. «Знания умножают скорбь», – так сказал пророк Екклезиаст в Библии. И это правда. Печальная и неоспоримая.
– А я не согласна, Игнатий Пудович, – мягко перебила Карла. – Знание – сила.
– Согласен. Есть такие знания, которые не скорбь, а радость-благодать умножают. Это знания о душе нашей, о том, как с грехами нашими бороться. Таких знаний надо набираться, а не реки и озера отравлять. Вот, к примеру, украли у тебя деньги. Ты, конечно, сразу переживать начнешь, вора того нехорошими словами обзывать. А надо сказать себе: Бог дал, Бог взял. И в своих душевных закоулках при том покопаться, и выйдет, что хоть раз в жизни руку свою к чужому протягивал. А этот свой грех и забыт давно, да и грехом не почитался. Вот давай-ка, вспоминай, да об этом думай. Не о чужом грехе думай, даже если человек тот последние деньги из твоего кармана вынул, не о соломинке малой в чужом глазу, а постарайся увидеть, как в твоем – бревнышко неподъемное торчит. Простишь ты чужую соломинку греховную, проститься и тебе бревнышко твое, а не простишь – про бревнышко твое Господь напомнит, ох, как напомнит! Вот вам, деточки, долька малая того знания, которое не умножает скорбь. Кто этим знанием владеет, тот и горы двигать может.
Ну, горы нам, многогрешным, сдвигать не дано, да и ни к чему их без надобности двигать... Хорошо и на своем месте все горы Господом поставлены... А вот чтоб обокравшего нас простить, на это силы у нас есть, а то об этом просить надо: «Вот же, Господи, не умею прощать и обиды забывать, научи!». И как раз об этом еще одна история припасена. Случилась она совсем недавно. Вот, гляньте-ка, деточки, на эту иконочку.
Дети почти вплотную приблизили свои глаза к бумажной, на картонку наклеенной иконе, на которую указывал Игнатий Пудович. Она стояла, прислонившись к правому нижнему углу большой Владимирской иконы Божией Матери. Только так, приблизив свои глаза, и можно было чего-то на ней разобрать. Она была выцветшая, блеклая, а небрежно нарисованные два лика на ней, изображенные рядом, вовсе не походили на лики святых. И надписи на тусклых нимбах вокруг голов тоже были полустерты.
– Да, деточки, – со вздохом сказал Игнатий Пудович, – иконочка эта без любви нерадивыми людьми по трафарету писана. И краски нестойкие. Но после того, как освятили ее, она все равно – икона! – Игнатий Пудович поднял указательный палец вверх. – А ведь икона эта, деточки, чудотворная. Четверых людей от гибели спасла. Один в этой истории вроде всего лишился, мог лишиться еще большего, остальные трое, думая, что приобрели, могли лишиться многого. А в итоге все четверо приобрели то, о чем и не думали, а посему назовем нашу историю:
Приобретение
Спиридон Николаевич возвращался домой после трудового дня. Итог его он обычно обозначал так: «Отбарабанил».
Нет, на работе он не бил в барабан. Он сидел за столом и писал никому не нужные бумаги, за которые ему платили зарплату. Зарплату скудную, но вполне сносную, чтобы кое-как перебиться месяц. Большего Спиридон Николаевич и не желал, ибо был неприхотлив, ел мало, одевался скромно. Правда, имел затаенную мысль разбогатеть, то есть купить большую квартиру, машину, а также дачу под Москвой и дачу на Черном море. И мысль эта имела под собой вполне осязаемое основание. Находившийся в его однокомнатной квартирке походный резной мебельный гарнитур Людовика XIV из особого красного дерева с золотыми ручками и замочками, стоил гораздо больше того, о чем Спиридон Николаевич имел затаенную мысль. Гарнитур состоял из шкафа, секретера-серванта, стола с четырьмя стульями и жесткого без обивки дивана. Гарнитур сей Спиридон Николаевич наследовал от своего отца Николая Спиридоновича, который в голодные бедственные тридцатые годы был директором Торгсина. «Торгсин» – это магазин такой хитрый – «торговля с иностранцами», то есть – на валюту. Но устроен он был не только для торговли с иностранцами и не только на валюту. Принимались вместо денег у своих граждан и семейные ценности – золото, драгоценности, которые еще оставались у граждан с дореволюционных времен. Деньги тогда мало что значили, и те, кто мог, припрятывал драгоценности на черный день. Остался и гарнитур этот у каких-то (теперь и не вспомнить – каких) больших дворян, ухитрившихся пережить расстрельные годы революции и гражданской войны. Дворяне получили мешок муки, а Николай Спиридонович – гарнитур, за который посольство Франции отдало бы столько золота, сколько он весил – если бы, конечно, знало о нем. С жуткими ухищрениями, по частям, тайно, перетаскивал он гарнитур в свою квартиру, ибо теперь получалось, что не дворянское имущество тащил к себе Николай Спиридонович, а государственную собственность. А с такими «таскунами» в то время наше государство расправлялось скоро и беспощадно.
А умирал Николай Спиридонович совсем другим человеком, чем был тогда, когда тащил на себе ночью по лестнице Людовиков гарнитур. И сыну своему, Спиридону Николаевичу, говорил угасающим шепотом:
– Больше всего жалею, что приволок его, разбил бы сейчас, да сил уже нету... Сказать тебе: на помойку снеси, или отдай кому просто так, или по дешевке – все равно не послушаешь... Получается, свой грех тебе передаю... Но, кроме греха, вот тебе другой подарок: икона. Не смотри, что бумажная, она уже помогала мне... Двое святых на ней, оба святителя, епископы, значит... Эх, ничему тебя не научил, кроме жадности своей... Николай Угодник и Спиридон Тримифунтский, наши с тобой небесные покровители. Ну, Никола – тот во всем помощник-заступник, а Спиридон – тот особо по денежным и имущественным делам... На почетное место их поставь. Будет случай – помогут. А как – сами они решат.
Спиридон Николаевич решил, что подоконник – самое почетное место в квартирке. Там и стояла, к раме прислонившись, блеклая выцветшая икона. В сырую погоду на окне было сыро, в солнечную – раскаленно-жарко. Она должна была давно уже окончательно поблекнуть и выцвести, но она оставалась такой, какой вручил ему ее умирающий отец. Этому немало удивлялся Спиридон Николаевич, когда вечером, отвлекшись наконец от созерцания гарнитура-сокровища, обращал внимание на сиротливо прислонившуюся икону.
А вот завета отцовского Спиридон Николаевич не выполнил. Затаенная мысль рвалась из глубин сознания, чтобы заполнить собой всю душу: как бы подороже продать гарнитур! Однако тут же подсказывала: главное – не делать лишних движений. Нужно было найти сбалансированный вариант продажи, чтобы выгодно, но при этом быстро и тихо. В то время, когда случилась сия история, государство по-прежнему очень враждебно относилось к тайным богатствам своих подданных. А явных (с точки зрения государства) и быть не могло, потому как на ту зарплату полагалось быть только средне-бедным или средне-обеспеченным, а если что сверх зарплаты – ответ надо было давать, откуда ты взял это самое «сверх». А ответ, что твой родитель в голодные времена «экспроприировал» у государства чудо-гарнитур Людовиков, а ты его теперь продал – очень бы не понравился государству. Спиридон Николаевич выжидал. Иногда потихоньку находил и приглашал оценщиков. Последний оценщик, когда вошел в квартирку, едва в обморок не упал, как только взгляд его упал на гарнитур. Опомнившись, назвал цену, с которой сразу согласился Спиридон Николаевич.
Итак, Спиридон Николаевич, «отбарабанив», возвращался после трудового дня в свою квартирку. У лифта стоял его сосед по площадке. Увидав Спиридона Николаевича, сосед удивленно вскинул глаза:
– О! Наше почтение. А я уж думал, что и не увижу тебя больше. Грузчики говорили, что ты переехал и больше не вернешься.
– Какие грузчики? – недоуменно спросил Спиридон Николаевич, и у него неприятно закололо под сердцем.
– Обыкновенные грузчики. В халатах, с бирочками. Которые мебель твою выносили. А хороша у тебя мебель!
– Как выносили? – Спиридона Николаевича шатнуло, и он схватился за сердце. – Что выносили?
– Мебель твою, – сосед слегка даже отпрянул от Спиридона Николаевича, так вдруг изменился его облик. – В грузовик грузили. И я помогал. И копию ордера твоего на новую квартиру показывали. И заявление твое, что разрешаешь вывоз, и ключи твои...
– Какой ордер?! Какие ключи?!
Что-то оборвалось внутри у Спиридона Николаевича. Он все понял и обо всем догадался. И перед его глазами встало задумчивое, изучающее лицо последнего оценщика. Да, высший класс воровской работы...
Он уже без всяких чувств глядел на пустую свою квартиру. Вынесли все. И даже то барахло, что в шкафу было. Да и правильно, оставлять ничего нельзя, подозрительно. На какой-нибудь помойке сейчас валяются его пиджаки, два плаща и зимнее пальто...
Только икона на подоконнике глядела на него блеклыми ликами. «Вот тебе и случай – помогли. Решили...», – так подумалось Спиридону Николаевичу и поначалу захотелось даже ударить по иконе. Не ударил, сдержался, взял в руки, вгляделся. И почувствовал, что истерика его от потери гарнитура-сокровища прошла. Остались спокойная злоба на воров и желание любой ценой вернуть сокровище. И оказалось, что желание это совсем не безнадежное.
Милиционер, бестолково вышагивавший по гулкой от пустоты комнате, остановился вдруг у телефонного аппарата, который стоял по полу. Раньше он стоял на людовиковском столе. – Интересно, – задумчиво сказал милиционер, – а почему аппарат не взяли? Старый плащ, латаные ботинки – забрали, а новейший заграничный аппарат оставили. И ведь они же разыгрывали переезд. Как же телефонный аппарат не взять на новую квартиру?
И сосед сказал:
– И то верно. О!.. Вспомнил... А ведь они хотели взять... Трое их было, двое носили, а третий командовал. Вот он, третий, и сказал им, тихо сказал, а я услышал. Тогда забыл сразу, а сейчас вспомнил. Он сказал: «Оставьте. Как-никак, мой подарок».
И снова увидел перед собой Спиридон Николаевич лицо последнего оценщика. Ну, конечно, организовал все он. Через день пришел тогда телефон новый ему поставить. И денег сразу не взял, потом, мол, сочтемся. Полдня телефон устанавливал, провод зачем-то менял. Ключи от квартиры на столе валялись, ясное дело, слепок успел сделать, все осмотреть, обнюхать, вычислить...
И только он собрался все это милиционеру рассказать, как вдруг почувствовал какой-то запах, совершенно необыкновенный, ранее никогда не слыханный, даже не думалось, что такой вообще возможен в природе. Приятный запах называют ароматом, но то, что осязал сейчас Спиридон Николаевич, хотелось назвать другим словом, которое означало что-то выше аромата. Но слово никак не подбиралось. Даже «благоухание» казалось мелким и слабым определением того, что чувствовалось.
И милиционер и сосед тоже почувствовали необыкновенный запах.
– Что это, Николаич? – спросил сосед, поводя носом. – Будто ведро духов у тебя разлилось.
И после этих дурацких слов все как по команде повернули головы к выцветшей иконе – необыкновенное благоухание источалось явно от нее. Оно целиком, вместо украденного Людовикова сокровища, заполняло сейчас пустую комнату, которая не казалась теперь пустой. Что-то необъяснимое, но реальное (и не только дивный запах) заполняло сейчас ее, и это ласкало душу Спиридона Николаевича гораздо сильнее, чем недавнее созерцание Людовиковой мебели. И сама душа его, заполненная до этого лишь пустотой и тоской, сейчас наполнялась каким-то необыкновенным жжением и не хотелось, чтобы оно проходило, хотелось, чтоб разгоралось сильней. Будто миллионы раскаленных капелек-иголочек впились в больные места души и исцеляли их.
Спиридон Николаевич подошел к подоконнику и взял икону в руки. До этого один раз только он прикасался к ней, когда на подоконник ставил.
– Слу-ушай, неужто от нее вдруг так запахло?! – сосед со страхом смотрел на икону и изумленно качал головой.
– Гражданин потерпевший, – раздался сзади голос милиционера. – Давайте заявление писать, протокол оформлять. Будем пытаться мебель искать. Мебель не иголка, так прямо ее не спрячешь, так быстро не продашь.
– Не будем заявления писать, не будем оформлять, не будем искать, – отвечал Спиридон Николаевич и сам не узнал своего голоса.
Милиционер и сосед оторопели.
– Как не будем?!
– «Бог дал, Бог взял», – как говорил мой папа перед тем, как заболеть и умереть. На этом самом месте говорил, хоть и по другому поводу. Часы я тогда на пляже оставил. Ну а когда прибежал за ними, их, понятное дело, не было. Подобрал кто-то... – Спиридон Николаевич будто сам с собой говорил, не замечая соседа и милиционера. – Вот до сих пор на этого «кого-то» злобу вот тут носил, – он положил руку на сердце. – А ведь сколько лет прошло... И вот исчезло будто... Ладно, ребята, идите, не будет протоколов, заявлений.
Сосед и милиционер переглянулись меж собой, вдохнули полной грудью дивное благоухание, покачали головами и вышли.
Спиридон Николаевич положил икону на свое место, не отрываясь от нее, поискал рукой стул, чтобы сесть напротив и рассмеялся в голос: нет ведь больше стульев, не на чем сидеть! Сел на пол. И тут почувствовал в себе новые потоки новой своей душевной жизни: нет больше памяти о тех, кто сделал зло ему, а встали вдруг перед глазами лица всех, кого он обидел когда-то в своей жизни. И когда стали проплывать перед его взглядом какие-то опухшие оборванцы, какие-то трясущиеся старухи, даже головой мотнул, отгоняя их видение – не знаю и не знал никогда.
– Верно, – ответил незнакомый голос внутри. – Это нищие, которые просили подаяние и мимо которых ты проходил, не замечая.
– Но их так много! Неужто мимо стольких я прошел?
– Их было больше.
– И никому не подал?
– Никому.
И тут Спиридон Николаевич услышал, как дверь сзади него тихо открылась и тихо закрылась. Он обернулся и увидел последнего оценщика. Ухмыльнулся и сказал ему:
– Зря ты тут ходишь, узнать могут.
– Не могут. Я в гриме был, когда мебель выносили. Это правда, что ты от заявления в милицию отказался?
– Правда. Как сказал бы мой папа, забрали вы наши грехи, сами с ними и разделывайтесь. Телефон заберешь?
– Подарки не забираю, – последний оценщик подошел к Спиридону Николаевичу, сел на пол с ним рядом и сказал:
– А я ведь убивать тебя пришел. Подумал, что «вычислишь» ты меня, а потом признаешь на следствии.
– Вычислил. Не признаю. Следствия не будет. Я уже забыл про тебя... А вот... А вот бабку Таню свою вдруг вспомнил!.. Как я у нее, мальчишкой, деньги на мороженое стащил!.. Много чего вспомнил!.. Как соседка коляску с малышом по лестнице еле тащила, а я не помог!..
И только тут последний оценщик повел носом и спросил ошарашено:
– Что это?
– Это от нее, – Спиридон Николаевич кивнул головой на икону. – Приобретение от нее вместо мебели.
– А как же это? Откуда?! – оценщик встал на ноги и заглянул за иконку.
– Оттуда! – Спиридон Николаевич поднял глаза к потолку.
Оценщик поднял их туда же.
– Это не с потолка, это с неба, – ответил на его взгляд Спиридон Николаевич.
Оценщик перевел глаза на Спиридона Николаевича и сказал:
– И получается, что и убивать мне тебя не надо, и ты нас в тюрьму не засадишь?
– Получается. И еще: не продавай гарнитур. Отдай его хоть в музей какой. Обожжешься ты деньгами теми. К своим грехам мои не присоединяй.








