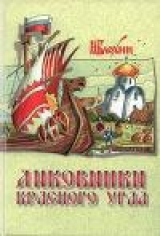
Текст книги "Диковинки Красного угла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Ёлка из Звенящего Бора
Когда на следующий день 6-й «А» под предводительством своей классной явился к сторожке, их уже ждал там Игнатий Пудович с улыбкой такой заразительной, что безотчетно заулыбались все.
– С Новым годом! – улыбнулась Евдокия Николаевна. – А где же Ваня?
– А Ваня в храме, на литургии. Сейчас и мы все туда пойдем. Важнее того, что сейчас происходит в нашем храме и во всех других православных храмах, нет ничего на земле. А вы ж, небось, и на Богослужении ни разу не были?
– Это точно, – громко прозвучал позади шеренги ребят женский голос.
И все узнали этот голос и разом обернулись на него. Перед ними стояла завуч Эмилия Васильевна. Первая реакция шестиклассников – испуг: сейчас всем нагорит – вместо уроков в церковь пошли! Но, видя, как улыбается их классная завучу, поняли, что не нагорит, завуч пришла не разгон устраивать, а с тем же, что и они.
Игнатий Пудович всё с той же улыбкой поклонился ей. И завуч сделала поклон в его сторону. Затем она подошла к улыбающейся ей классной и сказала тихо:
– Слушай, Кларка, а ведь я всю ночь не спала и сама не знаю почему.
Но всё это тихо сказанное слышали все. Дело в том, что завуч не умела говорить тихо. Как она сама про себя любила повторять: «Я вся слеплена из громкости!». И когда она это произносила, то казалось, что «громкость» – это нечто живое и очень хотелось узнать, из чего она слеплена. А слеплена она была в боях на фронте, где совсем юная тогда Эммочка служила санитаркой, а там «только орать приходилось». Так она сама определяла, откуда слепилась «громкость». И еще добавляла: «Это – фронтовой подарочек». Таковых «подарочков» ей там было дарено еще два: беспощадность к себе и другим за невыполнение приказа и одновременно – великодушие к тем, кто не выполнив приказа, – не оправдывался. Сама никогда не оправдывалась, за что начальство ее ценило всегда, и даже нынешняя директриса, весьма прохладно, если не сказать больше, относившаяся к завучу, говорила, что если бы не Эмка (так ее звали все за глаза), то школа давно бы превратилась из кузницы грамотности в гнездо разбойников. Давно перешагнув пенсионный возраст, Эмилия Васильевна говорила про себя так: «День моего ухода на пенсию будет последним днем моей жизни». И никто не возражал в ответ, что слишком громко сказано, ведь все знали, что слеплена она из громкости!
Итак, Эмилия Васильевна подошла к классной 6-го «А» и сказала:
– Слушай, Кларка, а ведь я всю ночь не спала и сама не знаю почему.
А в ответ услышала:
– Эмилия Васильевна, а я больше не Клара и не Карловна.
Глаза Эмилии Васильевны оторопело вскинулись:
– К-как? И... и кто ж ты теперь?
– Я – Евдокия Николаевна.
– Да! – встрял тут Игнатий Пудович. – Возвернулись рабе Божией Евдокии ее крещеное имя и ее крещеное отчество.
– Вот так раз... – завуч совсем растерялась. – Во мороки теперь тебе будет.
– Эмильвасильна, – подал голос отличник Павел Фивейский, – зато теперь у нашей классной клички не будет.
– Кличку вы кому хочешь придумаете. Спасибо, что меня хоть «эмкой» кличете, а не «студебеккером», – и, видя недоумение шестиклашек, пояснила, что «студебеккер» – это грузовой автомобиль времен войны, при этом удивляясь про себя, что можно не знать, что такое «студебеккер».
– Никакой мороки я теперь не боюсь, да и не так уж много ее будет, – ответила улыбаясь, Евдокия Николаевна. – В общем, ладно, всё решено. Я ведь сегодня тоже мало спала, я календарь церковный листала, вчера Игнатий Пудович подарил... и между прочим, у вас, Эмилия Васильевна, сегодня – именины, память вашего небесного покровителя, – последнюю фразу очень выделила голосом Евдокия Николаевна. – Правильно я говорю, Игнатий Пудович?
– Истинно так! – ответил тот; можно было бы добавить, что его рот расплылся еще шире, но, поскольку шире некуда, то и добавить нечего. – Воистину дивны дела Твои, Господи, – продолжал он распевным своим голосом. – Эмилия, да еще и Васильевна! Замечательное имя носите... да – именины сегодня, когда бы не родились, потому как Емилия у нас, по святцам, одна, с начальной буквой «Е» – буквы «Э» у нас в церковнославянском языке нету... она, Емилия – мать святителя Василия Великого, его же ныне память совершаем, а всего она родила десятерых детей...
– Ой!.. – воскликнули разом ученики 6-го «А».
– Да что ж вы ойкаете? – удивился Игнатий Пудович. – Семья, ежели она семья православная, и должна быть многодетной, сколько детишек Господь дал, столько и рождается, противиться рождению детишек – ни-ни! – Игнатий Пудович поднял вверх указательный палец, – Богу противиться. Десять или ни одного – это всё Его воля, противиться Ей нельзя, вот... А Емилия – сама святая – мать аж четырех!.. святых, прославленных Церковью Православной! А у нас нынче как? Если единственное дитя просто бандитом не вырастет, то уже хорошо.
– Это точно, – мрачно подтвердила завуч.
Улыбка на лице Игнатия Пудовича погасла и он сказал со скорбным вздохом:
– Да, болячка эта современная, а лечится она только здесь, в храме Божием. Ну, и я надеюсь, – Игнатий Пудович развел руки в стороны, оглядывая стоящих перед ним шестиклашек, – что здесь присутствующие – это есть будущая команда корабля Святой Руси, плывущего по Реке Времен. А сейчас, деточки, давайте-ка в храм пойдем, там как раз самая торжественная, самая важная часть литургии начнется, будут петь херувимскую.
Что такое «херувимская», никто из шестиклашек не знал, как не знали этого ни их классная, ни их завуч. Да и вообще, никто и не предполагал, что сначала придется идти в храм.
«Вот угораздило!» – такая мысль пронеслась в голове завуча, но вслед за этой мыслью последовала другая, для нее самой неожиданная: «А как тебя угораздило за всю жизнь ни разу в храм не зайти?!» Вообще, когда подходила она к этому месту, то почувствовала в себе всплеск некоего волнения: ведь где-то здесь, в каком-то полуразваленном здании, тогда под госпиталь приспособленном, и провела она первую свою операцию в качестве операционной сестры. Через неделю госпиталь перевели в другое место. Все ее дежурства были ночными, поэтому и смутно сейчас помнилось, где же оно стояло, это полуразваленное здание, но точно, что где-то здесь.
Та первая ее операция состоялась 25 октября 1941 года, в один из самых тревожных и страшных для Москвы дней, когда она уже неделю как была на осадном положении. В этот день случились и первый бой ее, и первая операция, а ведь не была она ни солдатом, ни медсестрой. В тот год исполнилось ей 15 лет. Сама тулячка, до сентября копала она вместе с другими тульскими женщинами и девчонками окопы и противотанковые рвы, которые и спасли Москву от танков Гудериана, а потом поступила в медучилище, где новоявленным студенткам устроили ускоренные курсы санитарок (танки Гудериана уже уперлись в девчоночьи рвы) – и на фронт. После курсов она умела делать только примитивные перевязки, но таскать на себе раненых сил хватало. И до сих пор не понимает, откуда брались они, силы эти. Первого своего спасенного, вытащенного из воронки, мальчишку чуть старше ее – на всю жизнь запомнила. Его и еще восемь раненых, в машину погруженных, и сопровождала она в Москву, когда затих на полчаса штурм девичьих рвов танковой армадой Гудериана. А разгрузив около того полуразрушенного здания прямо на снег раненых и затащив их потом в коридоры, она тут же стала операционной сестрой, потому как больше никого под рукой у сердитого, изможденного хирурга не оказалось. И первым ее пациентом оказался тот мальчишка, вытащенный из воронки. Сильно растерялась она тогда, ведь совершенно не знала названий железок-инструментов, лежащих в тазике, которые ей надо было подавать хирургу. И тут она увидела цветное, полусбитое изображение на стене. Разобрать можно было женское, очень красивое лицо, обрамленное головным убором, похожим на шлем, на котором укреплены были треугольные шипы-острия. Лицо ей виделось «воинственно-добрым» – именно так определила она его тогда. И в золото окрашенная широкая дута вокруг лица и шлема осталась не сбитой и светилась во всем своем золотом блеске. И еще очерчивалась рамка изображения, а под нижней полоской рамки была нарисована мускулистая рука по локоть, и казалось, будто изображение «воинственно-доброго» лица и всего остального полусбитого, что в рамке, опиралось на эту руку... И тут она услышала, сердитым басом произнесенное, название того предмета, который она должна была вынуть из груды наваленного в тазике инструментария и подать хирургу. Название она тут же забыла, да и вспоминать-то нечего было, но она этот предмет латинского названия – увидела: он был освещен лучиком, исходящим от необыкновенного лика в рамке. И она взяла и подала его хирургу. Всё, что затем требовал хирург, мгновенно освещалось тем же лучиком, и Эммочка тут же соображала, что именно надо подавать. Первоначальная ошарашенность от явления лучика прошла, а пытаться соображать, что бы это значило, было некогда, скорость подачи инструментов требовала только одного: не зевать и успевать за лучиком. А пинцет, которым из тела мальчишечки хирург извлек пулю, оказался в ее руках и вовсе невероятным образом: он был подан ей... рукой, на которую опиралось изображение лученосного лика. Рука, вдруг став выпуклой, отделилась от стены, взяла нужный пинцет (а их там было штук двадцать, и все разные), и через мгновение он был в руке у ошеломленной Эммочки, а одарившая рука со стены уже слилась с ней и снова стала рисованной опорой лика. Эммочка была в ужасе и с содроганием глядела на пинцет.
– Э! Чего застыла, давай быстро! – услышала она грозный голос хирурга.
Но она продолжала застыло созерцать пинцет. – Ну!..
Это «ну» хирург просто рявкнул и тут же получил пинцет, которым и вынул пулю. Дальнейшее для юной Эммочки проходило как в тумане. Когда в конце операции хирург буркнул ей: «Зашивай!», ее охватила паника. Ну, понятное дело, она никогда не зашивала раны, но главное – сейчас шила она, а водила ее пальцами вновь – рука со стены!
Когда она закончила, хирург буркнул:
– Ну, всё, пойдем за следующим, санитаров у нас с тобой в подмогу нету. Э!.. Да очнись ты! Ты чего так смотришь?
Хирург повернул голову к настенному изображению, куда был направлен взгляд юной Эммочки.
– Я первый раз в жизни... – прошептала Эммочка. – Это всё она... они... Я вообще не медсестра... я ничего не умею, только на себе таскать... даже перевязывать... это всё они...
– Это как же? – недоуменно спросил хирург. Эммочка в ответ молчала... «Да было ли? Да не причудилось ли? Да этого ж не может быть...»
Хирург хмыкнул, пожевал губами, пожал плечами и подвел итог:
– Ну, ладно, скажи им «спасибо» и давай работать. Получилось у тебя вполне профессионально. Я полегче буду, буду всё объяснять.
– Спасибо, – тихо произнесла Эммочка и перевела взгляд на открывшего глаза раненого. – Мальчишечка совсем. Сколько же лет ему?
– Да ты тоже не бабушка. И дай Бог тебе пережить всё это и бабушкой-таки стать. Давай работать!..
Пережила это время Эмилия Васильевна, но бабушкой не стала. Как и мамой. Так уж сложилась жизнь. Пулю с пинцетом она забрала себе и носила теперь с собой в запаянном целлофановом пакетике. Военные вихри и всё последующее давно уже притупили остроту того видения. Да и было ли оно? Давно уже она считает, что, скорей всего (а крупица сомнения всё же есть) это она сама, своей вдруг мобилизованной волей всё тогда сообразила и сделала. Хотя иногда приходила на ум мысль, что то ее состояние потерянности и растерянности вряд ли могло мобилизовать волю, скорее – наоборот. Когда же разглядывала пулю и пинцет, всегда вспоминала того мальчишечку и уверена была, что сразу узнает его, несмотря на то, что, коли жив он остался, то уже давно дедушка...
Когда она вошла в храм, тревожное щемление сердца отчего-то усилилось, но одновременно она почувствовала какое-то особое умиротворение. Она оглядывала шестиклашек, впервые вошедших в храм, и они уже не виделись ей бандитами, стадный инстинкт разрушения, царивший в школе, здесь явно пропадал, в этих стенах, под этой крышей ему явно не было места. Обыкновенных ребят видела она, робко и даже с трепетом вошедших и с любопытством крутящих головами, разглядывающих на стенах и сводах иконы и росписи, чем, собственно, была занята и она сама. И тут сердце тревожно защемило. Казалось, оно вот-вот взорвется. Вскрик, уже летевший к горлу из ее легких, застыл на губах. Слава Богу, не вырвался! Эмилия Васильевна столбняком замерла, заворожено уставясь на стену. Со стены на Эмилию Васильевну смотрели «воинственно-добрые» глаза лика в головном уборе, похожем на шлем с треугольными остриями, вокруг которого сиял золотой нимб.
Подновленное красочное изображение в рамке опиралось на мускулистую руку по локоть. Ничего не видя, кроме воинственно-добрых глаз, она подошла ближе. Вот... да, здесь... стоял стол, на котором лежал раненый мальчишечка, вытащенный ею из воронки. Ей показалось, что рука сейчас вновь оживет и подаст ей что-нибудь, из воздуха возникшее. Видимо, во взгляде ее было что-то такое, что притягивало внимание всех, кто видел ее глаза, устремленные на лик, ибо священник, выйдя из левых (южных) алтарных врат для чтения заключительной ектеньи (молитвы обо всем), даже остановился на мгновенье, увидев застывшую Эмилию Васильевну, а, закончив после службы проповедь про сегодняшний праздник – Обрезание Христово, – добавил, улыбнувшись именно ей, по-прежнему стоявшей на том же месте:
– А теперь я вам расскажу немного об образе, что выписан на стене, – и он указал на лик, «привороживший» Эмилию Васильевну.
И теперь на него смотрели все, и каждому казалось, что лик смотрит только на него.
– Это икона Божией Матери, именуемая Одигитрия Филермская. «Одигитрия», значит, путеводительница. А написана она была самим евангелистом Лукой. С этой иконы множество списков, и вот один из них – на стене нашего храма. А сам первообраз, Лукой написанный, после долгих скитаний, побывав в Египте, в Иерусалиме, Царьграде, на острове Мальта, оказался у нас в стране. Много к нам тогда со всего света святынь стекалось. Мало, дорогие мои, мы уберегли их... Не уберегли и эту. После революции она оказалась в Сербии, где и находится до сих пор. Вместе с рукой вывезли, которую вы видите лежащей как бы основанием иконы. Рука сия принадлежит Иоанну Крестителю. Вместе с этой рукой и достался нам образ Филермской Божией Матери, так вместе и пробыли они у нас в Зимнем дворце в Петербурге в Соборе Нерукотворного Спаса, пока не понеслись по России «вихри враждебные»... А рука сия, опять же, тесно связана с евангелистом Лукой. Проповедуя Христа и обходя многие страны, пришел он в город Севастию, где нетленными и целыми лежали мощи Крестителя Господня Иоанна, и упросил жителей подарить ему часть мощей, именно правую руку, которой он крестил Спасителя. Множество чудес она произвела, тоже долго «путешествовала», пока в 1499 году не оказалась на Мальте, рядом с Филермским образом Божией Матери, и вместе с ним же, в 1799 году была перенесена к нам...
Подходя впервые в жизни ко кресту, чтобы поцеловать его, как это всегда делается православными после окончания службы, Эмилия Васильевна была тиха и задумчива. Перед крестом, что держал в правой руке отец настоятель, она подняла глаза на священника и... обомлела. Он! – мальчишечка, ею из воронки вытащенный! И поняла, что всегда верила: узнает его и через пятьдесят лет, бородатым и старым, узнает всегда!
– Что с вами? – испуганно спросил отец настоятель.
Эмилия Васильевна, часто дыша, молча поцеловала крест и, шатаясь, пошла к Филермской иконе. Отец настоятель взглядом и кивком головы велел Игнатию Пудовичу подойти к ней. Благословив прихожан, подошел сам.
– Что с вами? – повторил свой вопрос отец настоятель.
– А это – Эмилия Васильевна, – улыбаясь всегдашней своей улыбкой, сказал Игнатий Пудович, – именинница наша, завуч этих вот ребяток.
– Замечательно, – отец настоятель тоже улыбнулся. – На трапезе «Многая лета» пропоем.
– Это еще зачем? – вскинулась Эмилия Васильевна.
– Положено так, – отец настоятель кротко посмотрел на нее и спросил опять. – Так что с вами, на вас лица нет, поделитесь...
– Вот тут стол стоял, – хрипло прошептала Эмилия Васильевна, – на котором тебя оперировали, а я инструмент подавала.
У отца настоятеля окаменело лицо и открылся рот. У Игнатия Пудовича тоже.
– А рука эта, – Эмилия Васильевна кивнула на стену, – мне пинцет подала, которым из тебя пулю извлекли. Вот она, – и она достала из сумочки целлофановый пакетик.
В русском языке нет слов, чтобы описать взгляд отца настоятеля, которым он смотрел на пакетик с пинцетом и пулей.
Затем дрожащей рукой перекрестился. Перекрестился и Игнатий Пудович.
– А такого тебя я б не вытащила из воронки, – наконец-то улыбнулась Эмилия Васильевна и тут же смущенно-виновато качнула головой. Она не хотела этого говорить, само как-то выскочило, она очень не любила к себе внимания и всегда стеснялась к себе благодарности.
– Так вы еще и тащили меня?!
– Ага. Но такую громадину даже бы приподнять не смогла.
– Так я ж вырос! – отец настоятель обнял Эмилию Васильевну и дрожащими губами поцеловал ее в щеку. – Мне ж тогда только-только шестнадцать стукнуло.
– Только ты это... как величать-то тебя?
– Варлам, по сану – отец Варлаам.
– Ты не рассказывай никому про меня, отец Варлаам. Обещаешь?
– Обещаю. А буду теперь перед этой иконой служить молебны.
– Ну, а это теперь – твоё, – Эмилия Васильевна протянула отцу настоятелю пакетик. – Столько лет дожидались. Как они вот, – она вновь перевела глаза на икону и руку, – столько лет дожидались меня, – и она впервые в жизни перекрестилась.
– Ну что, Пудович, вот тебе еще диковинки для твоего Красного угла, – и отец Варлаам передал тому пакетик. – Вот ты и будешь рассказывать об этом, раз мне не велено.
– А я думаю вот как, батюшка, – отвечал Игнатий Пудович, – пусть-ка эти святыньки, диковинки эти, будут первыми в Красном углу у Эмилии Васильевны, которого у нее еще нет, а теперь обязательно появится.
И пакетик с пулей и пинцетом вновь оказался в руках у Эмилии Васильевны.
– За мной Красный угол, – срывающимся голосом произнес отец Варлаам. – Да еще какой!.. – и тут вдруг слезы лавиной обрушились из его глаз и он обнял свою спасительницу по-настоящему.
...Слушая в свою честь «Многолетие», которое радостно пели все за чайным столом в сторожке Игнатия Пудовича, плакала, впервые за много лет, и Эмилия Васильевна. Больше всего старались петь, и громко старались, шестиклашки бывшей Карлы, ныне Евдокии Николаевны, и теперь она точно в них видела команду непобедимого и непотопляемого корабля Святой Руси, рассекающего собой тяжелые волны Реки Времен.
«Староновогодний» спектакль прошел на «ура». Появление Деда Мороза встретили тишиной: Игнатий Пудович в этом образе был великолепен. Появившись, он, по-царски опираясь правой рукой на посох, возгласил:
– Приветствую вас, мои юные друзья, на нашем празднике! Здравствуйте, ребятки! С Новым годом! Хотя... елка-то у нас не зажжена. А какой Новый год без сверкающей елки? Ну, да это не беда, сейчас зажжем, вот только соберутся все. Правда, елка эта особенная – из моего Звенящего Бора. Не каждый ее зажжет. Если рядом с ней находится хоть один обманщик, завистник, ленивый ли недобрый человек – не загорится она. Но нам-то, конечно, бояться нечего! К нам ведь пришли одни замечательные ребята, не правда ли? О, я вижу, что вы все дома маме с папой помогаете, не ленитесь. И не обманываете никого, да? Ну, конечно же, я в этом не сомневался. И если вашему другу уже купили велосипед, а вам еще нет, то вы ведь не завидуете ему? Я так и думал.
Но тут Дед Мороз отчего-то на несколько мгновений вдруг задумался, опершись на посох уже не по-царски, а обеими руками и... И его задумчивость как бы спрашивала: а правильно ли я думаю, ребятки?
Из задумчивости его вывел «Новый год» – наряженный в ладно сшитый кафтанчик пятиклашка Васенька, активист Воскресной школы.
– О! – встрепенулся Игнатий Пудович, Дед Мороз. – А вот и главный виновник торжества, наследник уходящего года. Отчего хмур? Отчего не радуешься принятию наследства от Старого года?
– А что радоваться?! – с вызовом произнес юный Новый год. – Елка-то не горит! А без этого и праздника нет. И никакое наследство без этого я принять не могу!
– Сейчас, сейчас загорится, – уже несколько нервно ответил Дед Мороз.
– Уж лучше бы ты, Дедушка, обычную елку принес, а не из Звенящего Бора! – в сердцах сказал Новый год, пятиклашка Васенька.
И всем зрителям вдруг передалась серьезность происходящего. Все ощутили, что это не просто представление, из тех, которые десятками смотрят дети в зимние каникулы. Нет, тут было настоящее испытание. И елочка эта, громадина-красавица, не шутит, и если она не зажжется, то, действительно – беда. Значит, действительно, среди присутствующих царят те пороки, о которых говорил Дед Мороз, Игнатий Пудович. И видно, как он сейчас нервничает... Появление хмурого «Старого года», в лице пятиклашки Сени, еще более напрягло зал.
– Да вы что, сговорились, что ли? – с досадой произнес Дед Мороз. – Что вы все такие мрачные?
– А мне-то что радоваться? Полномочия сдаю, – ответил Старый год. – Завидно даже...
– Что ты! – воскликнул Дед Мороз. – Разве можно у этой елки завидовать? – очень искренне воскликнул.
И тут возник «Дон Позоле – Покровитель Зависти, Обмана и Лени» – бывший актер-профессионал, ныне пенсионер, духовное чадо отца Варлаама.
– Однако слово произнесено! – торжественно прокричал он. – И вот я здесь.
Согласно сценарию, тут же был притушен свет, Дед Мороз был как бы уже вне действия, и Дон Позоле, облаченный в черный с красными звездами плащ, дурную широкополую шляпу и черные перчатки, обратился зловещим, проникновенным голосом к залу, оставшемуся с ним один на один.
– Я – сеньор Дон Позоле, покровитель зависти, обмана и лени. Честь имею приветствовать вас, мои дорогие мальчики и девочки! Я вижу, вы мне не очень-то рады? Это неважно, зато я рад встрече с вами, и кое-кому, уверяю вас, кое-что от нашей встречи перепадет! О-о! А я вижу, что во-он там моему появлению рады. Я тоже безумно рад, мой ненаглядный друг! Ты сегодня так блестяще надул своих родителей, когда попросил у них денег будто бы на дорогу, чтобы к товарищу заехать, а сам никуда не поехал, а мороженое купил! И это при твоем больном горле... Молодец! Делай так чаще, обманывай чаще, и тебе вольготно станет жить! И мое здоровье, ребятки, зависит от вас: чем больше вы врете, тем оно крепче. Так что будем взаимно услужливы, хе-хе...
Эге, я и тебя узнал, мой ненаглядный кормилец! И правильно, не мой посуду, когда тебя просят. Ведь лучше на диванчике полежать! А? А ты больным скажись! Поверят, не бойся, ведь столько раз верили. О, это так замечательно: и обманывать, и – ах! – лениться! Что может быть замечательнее ленивого ничегонеделания?!
О! И ты здесь, мой очаровательный мальчик! Конечно же, чем ты хуже своего друга Васи?! Какая несправедливость! Ему, видите ли, разрешают ездить одному в метро, а тебе – нет! Это неважно, что он тебя старше, ты все-таки похнычь, позавидуй. Вот так (гнусаво ноет): «Ну, ма-ам, ну, пусти меня одного, я уже большо-ой!». Могут, конечно, наказать, а ты опять поной. И так всё время. Хе-хе...
Так что, я вижу, не перевелись у меня друзья, будет мне с кем дружить в Новом году. Но – нет! Что это я?! Нового года вообще не должно быть! А то мне с каждым годом все меньше и меньше работы. Так, глядишь, и вообще зачахну. В прошлом году не вышло, так в этом выйдет! Остановлю время, не загорится елка! Ах, жаль, что Старый год Новому не по-злому, а по-доброму позавидовал, так сказать, белой завистью, а то б я не так развернулся! Но – слово произнесено! И зависть все же остается завистью!
А где же моя свита! Вы, наверное, с ней не знакомы? Сейчас, сейчас, мы исправим это положение! Ну, где же вы там, эй?..
И тут на сцену под мрачную музыку ввалилась тройка закадычных приятелей. Их появление зал встретил улыбками и смехом, зрители были рады окончанию гнетущей речи Дона Позоле. Трое ввалившихся были Зависть, Лень и Обман – на груди у каждого красовалась соответствующая надпись. Их играли тоже профессионалы, только молодые, из того же театра, где когда-то работал пенсионер. Дон Позоле млел, всплескивал руками и жестами призывал зрителей радоваться появлению его свиты. Зависть, громко кряхтя и изнывая, тащила на спине Лень, у которой было абсолютно безжизненное лицо, а рядом, приплясывал, похохатывая, толстенький Обман.
– О, великий Позоле, доколе мне таскать на своем горбу этого ленивца? – взвыла Зависть.
– Так ведь сегодня очередь Обмана, – ответил Дон Позоле.
– Так ведь опять обманул! – вскричала Зависть. – Ни слова правды не скажет! Подержи, говорит, немного, а то-де мне от таскания жарко стало, остыть захотел. Ну, мне завидно стало, у меня-то зуб на зуб не попадал. Так мне еще хуже стало: не то, что не согрелась – того и гляди, околею. А он, шельмец, скачет, греется. Хитрит Обман со своими, жалуюсь тебе.
– Это точно, – расплылся в улыбке Дон Позоле. – Ни слова не может сказать, чтобы не соврать, молодец! – Дон Позоле призвал жестом зрителей поддержать его похвалу. – А кому из вас Лень таскать, сами разбирайтесь.
– А может и не таскать ее? – спросила совсем выдохшаяся Зависть.
– Да она ж ходить не умеет!
– Да где ж не умеет, ленится! – вскричала Зависть.
– Ну, а ты уж и этому завидуешь?! Ух ты, Зависть ты моя завидущая! Ты у меня тоже молодец!
– Еще бы не завидовать, – захныкала Зависть. – Цельный день на загривке сидит, понимаешь. Кормят ее, рот разевают, а то и искусственное дыхание делают, потому как дышать ей тоже лень. Ой, опять не дышит! Обман, снимай скорей.
– А ну-ка, быстро, шевелись! – испуганно закричал на свиту Дон Позоле.
Зависть и Обман положили Лень на пол сцены и начали делать ей искусственное дыхание.
Наконец, Дон Позоле нагнулся к Лени, приложил ухо к ее груди и заблеял радостно:
– Ух ты, золотце мое! Дышит!
– А может, бросим ее? – спросила Зависть. – Надоела.
– Что-о?! – взвился Дон Позоле. – Да из вас троих она самая главная! Всё, чем мы с вами кормимся, от нее, от Лени. Где она ни появляется, все ею заражаются, а уж потом ваш черед. Вот, проверим, – и Дон Позоле вновь обратился к зрителям. – Не чувствуете ли вы, ребятки, как по вам сладкая лень разливается, а?
Лень при этом замычала и сделала вялый призывный жест к зрителям. Зависть и Обман тоже «насели» на ребят;
– А завидки не берут ни на что, а?
– А обмануть никого не охота? – и Обман расплылся в радостной доверительной ухмылке.
– Нет! Пошли вон! – вдруг выкрикнул Петюня, сидевший рядом с Евдокией Николаевной.
Та взяла его за плечи и сказала:
– Т-сс.
Все злодеи растерянно уставились на Петюню.
– Что происходит, о великий Позоле? – спросила Зависть. – От этих людей я не чувствую прибавления сил. Этак и помереть недолго.
– М-да, крепкие ребята. Ну, да ничего, займемся свитой Деда Мороза. Там мальчишка и три девчонки, что эту елку наряжали. За мной! Догоняйте меня! – и Дон Позоле удалился со сцены.
За ним было рванулся Обман, но был остановлен Завистью:
– Куда? Твоя очередь!
– С удовольствием! – ответил Обман. – Да теперь и не уступлю, даже если попросишь!
– Ох, опять ведь врешь!
– А вот теперь и нет! Великий Позоле сказал, что кто будет носить Лень в тот день, когда мы Новый год сорвем, того самого потом носить будет какой-нибудь мальчишка, который нас очень любит. Так что отойди.
– Э, нет, тогда уж опять я. Садись, Лень-матушка. Зависть кряхтя взгромождает на себя Лень и видит пляшущего Обмана. Плюнула с досады, но делать нечего, попалась. И все втроем покинули сцену вслед за Позоле.
Четырех юных друзей Деда Мороза, мальчика Никиту и трех девочек: Веру, Надю и Любу, играли тоже пятиклашки.
Как отметила Евдокия Николаевна, играли очень естественно, то есть, они и не играли, а просто были сами собой – текст Игнатия Пудовича давал им такую возможность.
Когда перед детьми появился Дон Позоле со свитой, они упаковывали подарки для пришедших на праздник детей и вели беседу о том, что делать, если на всех не хватит.
– Кому не хватит – свое отдадим, – сказал Никита к неописуемому удивлению Дона Позоле.
– Им я сам займусь, – проскрежетал он, обращаясь к своей свите. – А вы... надо любой ценой заставить их, или их!.. – Дон Позоле прыжком (вот тебе и пенсионер!) обернулся к зрителям с вытянутой в их сторону рукой (зрители невольно отшатнулись – так эффектно он это сделал). – Любой ценой заставить хотя бы одну неправду сделать так, чтоб кто-нибудь кому-нибудь хоть раз позавидовал (при этом Зависть проблеяла злорадно: «О, всё сделаю, великий Позоле...»), чтоб кто-нибудь хоть самую малость поленился (при этом сидящая на загривке у Зависти Лень с дурной улыбкой что-то промычала)!
Но ничего у них не вышло с друзьями Деда Мороза, хотя поначалу они всё-таки и совратили их на одну зависть, одну ложь и одно проявление лени. При каждом совращении била барабанная дробь, и в зал летел жуткий хохот Дона Позоле, и все зрители теперь понимали, что за ужас из себя представляют всего одна зависть, одна ложь и одно проявление лени! Но еще они поняли (молодец Игнатий Пудович!), что настоящее покаяние убивает любой грех. А каялись пятиклашки, игравшие друзей Деда Мороза, очень искренне. И, когда мальчик на сцене плакал о сорвавшейся с его губ лжи, Евдокия Николаевна так и не поняла, играет он, или на самом деле плачет. И стало ясно зрителям, что не бывает маленького обмана, что и маленький обман может таким великаном оказаться, такой большой бедой обернуться!..
В общем, Дон Позоле был посрамлен, Лень издохла, и вся нечисть была с позором изгнана со сцены. Уходящий Дон Позоле грозил зрителям: «Еще встретимся! Куда вы от меня денетесь! Ужо я вам!». Угроза выглядела очень впечатляюще и вполне реально. Кто-то из зрителей первого ряда даже запустил ему вдогонку деревянным бруском, нечаянно оказавшимся под его стулом. (Потом, после представления, когда уселись трапезничать, пенсионер больше всего боялся быть узнанным, и всё время вертелся и отворачивался от пристальных взглядов некоторых мальчиков и девочек.)
Однако... Дон Позоле со свитой изгнан, а елочка – не зажглась! Евдокия Николаевна была очень озадачена, электрик за сценой – тоже. По тексту она ведь должна была зажечься. Озадачен был и Игнатий Пудович – Дед Мороз, а Новый год еще раз прохныкал, что, мол, зря ты, Дедушка, эту особую елку принес, как просто было бы с обыкновенной...
– Ребятки, – растерянно обратился Дед Мороз к залу. – А, может, кто из вас?..








