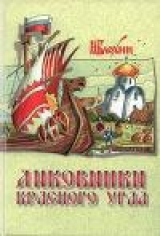
Текст книги "Диковинки Красного угла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Вообще-то, Сашенька, – задумчиво перебил приятель, – если бы я был всесилен, то я заповеди дал бы именно такие, только при таких заповедях возможен тот баланс в мире, который во зле лежит, как ты говоришь...
– Это не я, это Он говорит.
– Ну да... тот баланс, при котором мы еще не сожрали друг друга окончательно... Ну ладно, Сашенька, хватит воду в ступе толочь, остальное сама допьешь. Я ж к тебе по делу, картину я тебе пришел официально заказывать. Пользуйся, пока меня не турнули. Твоя тема, и резвиться можешь, как хочешь, никакой цензуры. Из жизни безработных в Греции и вообще, как там тошно жить. Сами греки и заказали, после сегодняшнего действа.
– Сами?
– Ну да. Социалисты ихние. Им ведь надо на свою страну побольше грязи, чтобы вылезти в князи. Во власти, то бишь, а уж потом... Только сделать надо быстренько. И чтоб, глядя на твою картину, выть хотелось, как тошно живется в Греции, как сегодня все выли от созерцания твоего плаката. И деньги огромные, Сашенька, и поездка в Грецию, во как. Воочию убедишься, как им плохо живется, гы...
– Слушай, – перебила его Зоина мама и как-то очень серьезно на него посмотрела, – а ты... а вот у тебя есть хоть что-нибудь, за что ты, ну не на смерть, а хотя бы...
– Да что ты, Сашенька, – в свою очередь перебил ее гость, – конечно же нет. Ничего такого не осело в мою душу. Как говорится, ничего такого за душой. И я очень доволен. Избави, как говорится, Бог, от такой реакции, как у тебя... Да хоть на что!.. – прикрикнул он на Зоину маму, заметив, что она порывается что-то сказать. – Мне интересен и важен только текущий момент и мои жизненные удобства в нем или неудобства. И за свои удобства я никому глотку перегрызть не собираюсь. И, потеряв их, не очень огорчусь, восприму, как должное. Я профессионально служу устойчивости Пирамиды, она мне предоставляет в ответ те самые удобства, но класть за нее свой живот, как говорится, избави Бог... Я профессионал администратор, Сашенька, слуга текущему моменту. И когда я ору на тебя за твои гениальные картины, это значит, что именно ты мешаешь, по глупости своей, устойчивости Пирамиды, которой я служу. Да-да, глупости. Все бабы – дуры, Сашенька. Тихо, тихо! Это не я сказал! Но целиком присоединяюсь, а гениальные художницы глупы вдесятерне и очень опасны для устойчивости Пирамиды. А если окажется, что на вершине Пирамиды должен быть не генсек, не президент, а Государь-император с Господом Богом во главе, то я буду служить им и заставлять писать тебя картины на евангельские темы в нужном русле.
– Не дождешься.
– Не сомневаюсь. Глупость спорол. Я тебе назначу пенсию и паек из водки и икры, чтоб ты вообще кисть в руки не брала.
– Не дождешься.
– Тогда просто посажу... впрочем, нет. Я тебя на север отправлю, север Франции, на роскошную виллу и охрану приставлю. Рисуй там, чего хочешь. Эх, ну наливай тогда, что ли...
–...А жалко с шефом расставаться было! Знаешь, будто кусок чего-то живого от меня отвалился. Что-то есть в этих мастодонтах, Сашенька, о чем потом пожалеем...
А лежавшей на животе Зое было страшно, когда слышала она насмешливый рассказ маминого приятеля. Очень живописно рассказывал. Зоя воочию видела этого старика. Очень страшненьким виделся он ей, этот худой трясущийся дед с остановившимися глазами. И вовсе непонятно было, о чем тут можно жалеть, когда уходит такой вот, наоборот, хочется, чтобы сгинул поскорее с глаз долой и больше никогда его не видеть...
...Он въехал в те же ворота, что и всегда, и всегда улыбчивый охранник, как всегда, улыбчиво отдал ему честь, и он, весь погруженный в пустое уже нутро своего сознания, кивнул автоматически в ответ. Да, всегда в этом месте отдавали ему честь и он в ответ милостиво кивал. ...Да, да, поддержать надо, вот так, за локти, да, да, и в зад притолкнуть слегка, и по ступенькам, теперь только с приталкиванием. Молодцы, охранники, знают дело... Да, да, вот тут, помнится, южный друг все донимал, чтоб его у себя там в президенты посадили, чтоб по всей Африке новую жизнь строить по образцу нашей. Черный, помнится, друг, чернее угля, пил вот только много и все целоваться лез. Ну пить его здесь научили, недаром эту... Лумумбу тут закончил. Между питьем и целованьем все про какого-то Гегеля болтал. Безо всякого Гегеля на нашем чудо-танке Т-65 ввезли его в ихнюю столицу и сделали ихним президентом. Название столицы, да и самой страны вот забылось. И то! Сколько их было-то, разве всех упомнишь... И имя этого тоже, вот... то ли Нгбдобо-Нгубе, то ли наоборот. Ну в общем, будто там-там бдубает. Помнится, на празднике в честь переворота Интернационал заиграли, так всем Госсоветом во главе с президентом в пляс пустились. Это-то ладно, пусть бы себе плясали, так императором себя объявил, отчубучил! Долго по телефону отговаривал черного друга: да ты хоть разымператорствуй там, полная твоя власть с нашей помощью, ты только слово это с вывески сними! Уперся друг и ни в какую. А в довесок людоедом оказался. Тоже по телефону увещевал: да ты хоть всех своих подданных переешь, мы тебе новых подгоним, но чтоб о твоих пирушках мировая общественность не звонила!.. Убили другана. Свои же присные. Очень тогда осерчал, помнится, на всех и на вся... Вот, вот, здесь кабинетик заветный, кнопочка там была красненькая... и сейчас, небось, есть кнопочка. Трое только имели вхождение в кабинетик. Он имел. А сейчас, вот, не пускают, вежливенько так вперед, мимо пропихивают. Нажмешь если ту кнопочку, а из бетонной шахты на Чукотке, на пламень изрыгающий опираясь, сначала выползет, а потом летит, не остановишь, красавица стратегическая, ракета убойная и 32 разделяющиеся боеголовки при ней. Куда летит? А не все ли равно куда, коли друга черного целовального, симпатягу-людоедика, будто курицу прирезали... Очень осерчал тогда, едва-едва кнопочку не нажал... А вот и его кабинетик. Кабинетище – в футбол играть можно. Прямо над креслом место пустое, а прежде, помнится, все время туда оборачивался, вдохновенья набирался... Да тут же портрет коня его висел! Эскиза, друга родного, брата верного. Домой портрет забрал... Да, да, домой пора... А шашка где? Ах, я без шашки... А жаль, порубать чего-то захотелось...
Прощался мамин приятель, посмеиваясь, уходить собирался, и из сознания Зои уходил страшный старик с остановившимися глазами, а она снова пребывала в том вчерашнем вечере при свечах, когда сидели они с бабушкой друг напротив друга.
– ...А самое, мой дружок, любимое место у меня из жития святых, это про патриарха Александра... Жил такой в древности... да и сейчас живет, вместе с нашими покровителями Севастьяном и Зоей в Царствии Небесном. Это про то, Заинька, чего мы можем, ежели захотим, ежели помолимся, как положено. Короче, о самом главном в жизни...
– Мама говорит, что самое главное – получить образование и профессию.
– Во-во!.. Они много чего говорят... А ты-то тоже... Вы-у-чи-лись вон они, да и профессию заимели. Глядеть на них тошно. Зачуханные, задерганные, злые, для чего живут – не знают, завистью переполнены, соседа своего ненавидят, злословят, тоска все время щемит... На мать-то, вон, свою, глянь... Крутится, крутится, покоя нету, маята одна. Вот те и образование. А коли в Господе человек живет, так ему и образование ихнее без надобности... Вот я про патриарха Александра тебе начала, тогда еще Христово слово токо-токо летать стало, крылышками крепло, хотя нет, не так сказала. Крылья те всегда сильно-могучие. Люди вот не всегда вмещают слово Его, от крыльев шарахаются. Во-от, собрались в одном городе ученые мудрецы языческие христиан наших своею мудростию уязвить. А уж та-акие ученые-разученые, такие цицероны, мудряны-гегельяны собрались, что – у-у! А батюшка-то наш, Патриарх христианский, вообще неграмотный. Во как, и христиан-то вокруг него всего ничего. Ну, понятное дело, закручинились они, а патриарх Александр им и говорит:
– Чего это вы закручинились-то? Аль забыли, что Имя Божие поругаемо не бывает?
Ну а те в ответ: да так-то, мол, так, а кто ж попрет из наших против ихнего мудрования? Вон один из этих цицеронов устроил уже тут говорильню, сколько народу смутил, над Господом насмехался и никто ему возразить не мог. Особенно над Воскресеньем Его изголялся, мол, не было его, воскресенья, потому что быть не может, а значит и вся вера ваша ерунда есть, все слова Христовы – сказочка красивая и не больше. А патриарх Александр и отвечает пастве своей:
– Так значит, приуныло, малое стадо. Забыли, что хуже уныния нет греха? Забыли, что "если двое или трое собрались во имя Мое, то Я посреди их"? Так ведь нам сказано. А нас-то и поболе будет. А цицероны эти... что ж, они правильно действуют, умно... Ежели бой-драка не на жизнь, а на смерть, куда бьешь? В самое туда, где жизни исток, в сердце бьешь, чтоб наповал... А сердце веры нашей есть Воскресенье Господа нашего. Если не было его, значит и в самом деле все ерунда... А сами-то вы верите в Воскресение Христово?.. – и оглядывает всю паству свою, эх... как вот нас тогда, на том собрании батюшка наш... эх, прости, Господи! Ну, а те-то вроде нас, тогдашних, глазки в землю...
– Ну так вот, – возвысил голос патриарх Александр. – Было Воскресение Христово, а значит не страшно нам никакое ристалище словесное, пойдем!.. А и нужно-то от нас – молитва к Нему истовая, вот это и делайте, кто как может. Ну и я, многогрешный, помолюсь...
А святые, Зоинька, они себя грешнее всех считали, хотя были лучше всех, кто вокруг них жил. А все потому, что видели, чувствовали перед собой высоту Христовой святости. А по сравнению с ней на свою маленькую святость глядели с печалью, сравнивали с Христовой, недосягаемой, вот и плакали о себе, сколько, мол, еще до высоты небесной, недосягаемой, как ничтожна мера того, что достиг, сколько ж грехов еще истребить в себе надобно! Во-от, как они думали, святые-то... Не то, что мы. Чуть что сделаем, да не доброго даже, а так... оплеуху дать сдержимся, а уж распирает нас, грудь колесом, ай, какие мы хорошие! Действительно, тьфу на нас... Ну так это ладно... А батюшка патриарх Александр имел ведь образование. Всю жизнь образовывался молитвой "Господи, помилуй мя, грешного". И профессию имел, да какую! Самую редкую профессию, Зоинька, самую нужную – молитвенник, вот как называется профессия. Великим молитвенником был, как и Севастьян наш, мученик. Во-от, ну и предстает, значит, патриарх наш, Александр, перед этими цицеронами, а они уже загодя смеются, на него глядючи, явился, мол, вахлак необразованный, осрамим сейчас на всю вселенную... Ну а "вахлак" этот, прости, Господи, и говорит: "А ну давайте сюда самого ретивого, самого мудрованного, потому как нельзя ж со всеми сразу толковать". Ну вот и вышел такой-разэдакий, рот уж было открыл, чтоб обличать-насмешничать, а Александр и говорит:
– Именем Господа моего, Иисуса Христа, распятого и воскресшего, да отнимется у тебя язык, да и у всех твоих подручных тоже.
И этот мудрователь тут же онемел. И остальные тоже. Даже мычать не могут. Открывает главный мудрователь рот, точно рыба на песке Руками машет, глазищи того и гляди сами из себя вылезут. Таращится на Александра, ничего понять не может. А чего ж тут не понять, коли именем Господа нашего, Иисуса Христа! Чего невозможно от этого имени, коли молитвенником к Нему избрал ты свою профессию. Понял мудрователь, глазами и руками замолил Александра – верни, мол, мне речь мою, плохо ведь быть как бессловесные, не буду больше против Христа мудровать. Ну, перекрестил его батюшка патриарх Александр, обрел мудрователь дар речи, но уж, ни слова не говоря, прямичком в купель, креститься. Ну и сотоварищи его за ним, ну и тьма народу, что поглазеть пришли, как над христианами насмешничать будут. Прямо тут, в море, и окрестил всех патриарх Александр, потому как никаких купелей не хватит на столько народу, во-от...
Дрогнули кисточки пламени на свечах, когда бабушка сказала "во-от" и почему-то пальцы рук сцепила крепко между собой. Хотя по столу кулаком не ударила, да вроде бы и не с чего, но что-то, видно, другое под рассказ вспомнилось.
– Ты чего, бабушка? – слегка даже испуганно спросила Зоя.
– Да это я так, – бабушка разжала пальцы. – Все-то мы чужие грехи вспоминаем, вместо своих... Сказала вот я тебе, что воин без молитвы – это бандит, и сразу папку своего, прадеда твоего, вспомнила... Эх... "За отличную рубку" – знак такой был нагрудный от Троцкого, вроде ордена... Наша ему теперь нужна молитва за упокой души его... – слезы вдруг полились из бабушкиных глаз и она их не вытирала...
– Бабушка, а Бог слышит наши молитвы?
– Конечно, слышит, даже то он слышит, о чем мы только подумать собрались. Только слышать от нас нечего, бормотанье одно дурное, воздуха сотрясенье... Только и вспоминаем о молитве, когда петух жареный клюнет, и то, только и прет из нас: дай, дай, дай!.. – и тут бабушка все-таки хлопнула кулаком по столу.
– Бабушка, – робко сказала Зоя, – но ведь молитва – это просьба, значит, "дай" можно говорить?
– Да можно-то можно, да ведь просим все невесть о чем, себе на погибель.
– Но ты же говорила, что Он Сам сказал, что о чем бы мы ни попросили, все даст.
– Нет, Зоинька, не все, а только то, что нам на спасение, а не на погибель. И слова Его "о чем бы ни попросили" относятся к разумным людям. А мы? Об чем бы ты попросила, когда давеча Севастьяна маленького мордовала? "Дай еще в кулачки силенок, чтоб побольней ударить!" И о том, что ты – девочка, забыла. И все мы в своих просьбах такие.
Утром, когда Зоя проснулась, мамы уже не было. Обычно она всегда уходила, проводив ее в школу, ей в общем-то некуда было спешить в такую рань. Сидеть на мягкой кровати оказалось вполне терпимо, а вот на стуле все-таки больно. Еще болело в спине и бедрах, а при ходьбе как-то неуютно отдавалось во всем теле. Но раны в том месте, которое полосовалось, затянулись все. Зоя поцеловала свой крестик и перекрестилась. И вдруг ее начал разбирать все возрастающий страх. И тут же подумалось, что еще одной полосующей атаки гренландского моржа она не выдержит. Ей даже сам живой морж привиделся со всей своей могучей многотонностью и сокрушающими бивнями. Прет он на нее торпедой, сейчас удар – и на дно камнем то, что остается от удара. Нет защиты... Как нет? Легким укольчиком напомнил о себе крестик. И ведь не умела она так молить-просить Защищающую силу, как бабушка учила, выкликнула только истерично в последний момент, а Сила – защитила!
Тут Зоя увидала пришпиленную к двери записку:
"Пока крест не будет лежать на моей тумбочке, ты мне не дочь. Кров твой, живи, ибо по закону ты здесь прописана, но кормить тебя я не собираюсь. Питайся, где хочешь, деньги бери, где сможешь. Или – я, или – крест. Все".
"А ведь я же еще ма-а-аленькая!" – готово было опять заныть в ее голове.
Колоссальная грандиозность понятия "мама" глыбой встала в ее сознании, целиком заполнило его. Не было даже близко приближающегося к тому, что с самого рождения в сердце живет и именуется "мама". Тот человек, который дал тебе жизнь, который ощущается сердцем твоим как самый родной, телом и душой с тобой сращенный, не может ни при каких обстоятельствах, ни при каких жизненных вывертах от тебя, своей кровиночки, от ношенного в себе и в муках в мир явленного, отказаться. И если такой отказ происходит, то причина отказа более грандиозна, чем кровно-душевная связь, идущая в твое сердце от человека, по имени "мама". Во вчерашнем полосовании моржовым хлыстом не слышалось и не виделось – "ты мне не дочь!" Так лупцуют только дочь, и мера переживания за дочь под стать той грандиозности, из-за которой лупцуют. Никогда до этого Зоя даже легкого шлепка не удостоилась от мамы, хотя та грозила неоднократно. А сейчас, войди она в дверь, даже не заметит ее, как мимо столба пройдет. Вычеркнула она ее из жизни своей, отторгла от себя, и, умирай она сейчас с голоду, куска хлеба не подаст. В этом Зоя была абсолютно уверена. Решения, которые мама принимала, она всегда доводила до конца. В данном случае это – нательный Зоин крестик на ее тумбочке. И тогда решение будет обратное и такой же силы: как вышвырнула она ее без остатка из своего сердца, так же вместит ее обратно, и Зоя снова станет ее дочерью, а в памяти даже и следа не останется от прошедшего эпизода.
"Ма-ама!" – пропищало в ней то, что до этого заныло: "Я еще маленькая!" И тут почувствовала она, как от пришпиленого листка дохнуло на нее той жутью, какую она ощущала тогда, когда мама глядела на нее, требуя крест. Написанные ее рукой чернильные буквы излучали то же самое. И сейчас она уверена была, стоя перед пришпиленным листком, что только эта излучаемая жуть, реальная, живая, давала маме такую силу, чтоб вот так принимать такое страшное решение. И цель этой силы – сокрушить то единственное во вселенной, чего эта жуткая сила боялась – Крест, чтобы перестал быть он хранителем этой вселенной, чтобы не было его на теле и в душе, и чтоб полностью беззащитными остались душа и тело против ее жуткой мощи. И вдруг само собой, в голос, выскочило из ее рта:
– Ну и ты мне тогда не мать!..
И сама тут же испугалась таких слов своих. Но через мгновение успокоилась. Будто снова мученик Севастьян встал рядом. Да разве он уходил?..
Да, только так, нет у меня больше мамы... Как недоумевала она тогда, как протестовала, когда рядом сопоставлялись два эти разные места из Писания, которое при свечах читала бабушка: "почитай отца и мать" и "оставь ради Меня отца и мать своих"! На прямой сердитый вопрос ее бабушка мямлила, вздыхала и толком ничего не могла ответить. Зоина линия жизни не пересекалась с этой темой из Писания, хотя теперь, стоя перед пришпиленной бумажкой, она не понимала, как это могло быть, неужто бабушкин отец, ее прадедушка, этот вопрос о Боге, о кресте не поднимал перед своей дочерью, ее бабушкой. В Зою же сейчас вошло окончательое понимание того, что, казалось, понять невозможно: совмещение двух вроде бы несовместимых противоречий. Да, почитай отца и мать, ибо они, рождая тебя, дают тебе тело. Но тело твое без души есть всего лишь ходячая кукла. И если Вселяющий в твое тело душу говорит: "Оставь ради Меня все, в том числе и родителей своих..." – то приказ этот надо выполнять беспрекословно и всецело довериться Ему. Если Он сотворил небо и землю, если Он каждому рожденному дарит душу, то слова Его есть истина, не подлежащая обсуждению. И родителям твоим будет благо, если послушаешь Его. Как и когда Он это устроит – не твоего ума дело. Не об этом думай, а о том, как выполнить Его приказ.
– Да! Нет у меня больше матери! Моя мать связана с той силой, что жутью дует с этого страшного пришпиленного места. А я – с другой Силой...
Зоя сорвала листок с двери, скомкала его, сунула в карман юбки и вышла из квартиры. О портфеле она забыла, школа никак не вмещалась в предстоящий день. Впервые в жизни она не представляла, как сложится ее день. Да и вообще, а дальше-то что делать? Было темно и вьюжно. Она долго шла, ни о чем не думая, и когда почувствовала нудную боль в ногах, увидела справа резной черный железный забор, а за ним – небольшой храм, обшарпанный, но, похоже, действующий: из него выходили. На заборе висела огромная доска с золотой надписью "Церковь Владимирской иконы на Прудах. Памятник XVII в. Охраняется государством". Значит, в Москве есть церкви – не только декоративные придатки к мавзолею.
– Охраняют они, живоглоты... – зло проворчала какая-то бабушка, выходя из ворот. Она говорила это идущей рядом с ней другой бабушке.
– Да уж, – отвечала та. – Па-мят-ник!.. Гвоздя без ихнего разрешения не вобьешь. Сколько порогов батюшка обил, чтоб только осмотреть сваи-то, а то ведь совсем плохи, до беды недалеко. Ар-хи-текро-ры... раз-так их... – похоже было, что они каждый раз вот так переговариваются, когда мимо доски идут.
– Бабушки, а почему – "на Прудах"? – спросила их Зоя, когда они оказались рядом. – Где пруды?
– А? – бабуськи остановились. – Пруды-то? Да их уже до войны не было. Здесь еще и сады были, теперь вот коробки дурные.
– Да в коробках-то люди живут.
– Дак что ж, коробки ставить – сады изводить? Больше нет места на Руси? А... ты это... чего-то я не припомню тебя. Ты со службы? С мамой? А мама где?
– Нет, я не со службы, я еще ни разу на службе не была. А мамы у меня больше нет.
– Умерла?.. – тихо спросили обе бабуськи разом.
– Нет, она от меня отказалась
– Это как же?!
– Я отказалась снять нательный крест, бабушкин подарок. И она сказала, что я ей не дочь, пока не сниму.
Бабуськи (так же, обе разом) переменились лицом, застыли и (одновременно же) ойкнули.
– Ой, бедненькая, – сказала та, которая живоглотами кого-то назвала. – И как же ты теперь? – и она перекрестилась.
Перекрестилась и вторая. Видно было, что в их жизни и жизни тех, кого они знали, такого не было, хотя могло бы быть, так как выглядели они не намного моложе ее бабушки.
– Что же она, мама-то твоя, так вот прямо и уперлась? – спросила первая.
– Это я уперлась.
– А может, это... может как-нибудь того? Может, этот крестик маме отдашь, а другой зашьешь в воротничок потихоньку, а? А то как же без мамки-то?
– Нет, лучше без мамы, чем без этого креста.
Что-то такое, видно, сквозануло в Зоином взгляде, что обе бабуськи даже приотшатнулись слегка.
– Ну, ты это... – растеряно и сердито произнесла вторая. – Ты уж тоже! Уж больно горяча!.. Мать-то почитать надо. У меня внучок носит зашитый крестик и – ничего. Зачем так мать нервировать, до такой злобы доводить?! И батюшка наш тебе то же самое скажет.
"Батюшка не может так сказать", – буркнула про себя Зоя, а вслух спросила :
– А "служба" это – литургия?
– Да, – ответили обе старушки разом.
– А... а я уже опоздала?
– Да нет, идет еще, "Отче наш..." только пропели, свеча стоит, скоро причащать будут.
– А вы уходите?
Старушки замялись, а одна сказала:
– Да дела срочные.
– А разве можно уходить с литургии?
– Да ты еще!.. – рассердилась вторая. – Сама чего по улице шастаешь, чего не в школе?
– Мы уже не учимся – каникулы.
– Ну так ты, это... Иди с матерью помирись.
– Я с ней не ссорилась.
Первая старушка дернула вторую за рукав:
– Пойдем, пойдем. Опоздаем ведь. Ну ее. А ты глянь, как смотрит! Может, ненормальная?
– А куда опаздываете?
Можно было вполне не отвечать. Что это, собственно, за допрос со стороны малолетки! Но вторая почему-то ответила и даже как бы извиняющимся голосом:
– Да, понимаешь, тут в собесе старикам выдают кое-что к Новому году. Очередь надо занять, а то уж закроют скоро.
– Так ведь же нет еще никакого Нового года, – очень теперь удивилась Зоя. Ну ладно: мама, Юлия Петровна – они ж не знают ничего, но кто в храм ходит – должны знать.
– Это как это нету Нового года? – в свою очередь удивились старушки. – А чего же есть?
– Для нас – строгий пост, для остальных – всемирная языческая пьянка. Так мне бабушка говорила и батюшка Севастьян.
– Ну уж! – воскликнула вторая, не зная, что говорить дальше.
– Да пойдем же, говорю, – окончательно рассердилась первая. – Ну ее.
И они пошли, часто оборачиваясь. А Зоя, не оборачиваясь, пошла в храм.
"Да, да, причаститься надо обязательно, – говорил при расставании отец Севастьян. – У меня-то нет при себе Святых Даров... А от Чаши, Заинька, отходят тоже святыми, как при крещении. Какой дар нам дан великий на литургии, дар о-чи-ще-ния, – батюшка при этом поднял вверх указательный палец, – но... мы очень быстро пачкаемся опять". Зоя в который уже раз отметила про себя замечательность и таинственность звучания новых для нее слов – "дар очищения"! Все бы время слушать эти слова.
Она вошла в храм и перед ней предстал Иконостас. Даже не представляла она, что подобное вообще существует. Как же можно жить без этого, если однажды это просто увидел?! А если кто не видел? А если кто не хочет видеть?.. Поползла по правой щеке капелька-слезинка, легким чудным звоном отозвалось в ушах ее падение со щеки, сами собой зашептали губы: "Пресвятая Богородица, мученики Севастьян и Зоя, царица мученица Александра, помогите мамочке и Юлии Петровне" И тут она увидела священника в блистающих одеждах и Чашу в его руках и услышала из его уст зов-призыв, который сразу захотелось назвать вечным:
– Со страхом Божиим и верою приступите...
Руки Зои сами собой скрестились на груди и она медленно двинулась к Чаше. И опять вспомнилась мама. Вот бы и ее сейчас сюда! "Царица Александра, и ты помогай!.." У бабушки она впервые увидала ее портрет, услышала про ее жизнь и про то, как ее убивали с ее мужем-Царем, дочерьми и наследником. "А мама твоя родилась в один день с их расстрелом, 17 июля. Давно уж молюсь я Царице-мученице о маме твоей, заблудшей Александре".
– Так почему же, бабушка, – воскликнула тогда Зоя, – все вы молитесь, святые вон... а все никак?!
– Ишь! – возвысила голос бабушка. – Смотри-ка! Полчаса как крест одела, а уже роптать?! Вопросы задавать! Я те дам, "почему"! На все воля Божья и свое время. Может, тебя дожидались, вот почему!
"Тебя дожидались", – очень отчетливо сейчас слышались эти слова.
"Ой, да я же еще маленькая..."
Зоя была уже у Чаши. И тут она увидела белую голубицу. Ту самую, что слетала с губ Юлии мученицы. Глаза Зоины расширились, рот открылся...
– Девочка, девочка, – услышала Зоя голос священника.
Зоя перевела на него глаза:
– А?
– Тебе семь лет есть?
Зоя кивнула.
– А ты исповедовалась?
– Я вчера крестилась. Я – Зоя.
Священник внимательно всмотрелся в Зою.
– Ты что, видишь что-нибудь?
Зоя кивнула:
– Голубку. На Чаше сидит, – шепотом сказала Зоя.
Лицо священника сделалось испуганным, он даже сказал "ой", правда, про себя и протянул ко рту Зои ложечку с Кровью и Телом Христовым. Голубица накрыла собой Зоину голову и она увидела тот свет, на котором плавала недавно...
Она громко чмокнула Чашу и пошла запивать...
Потом она стояла перед иконой Владимирской Божией Матери, главной иконой храма и слушала благодарственные молитвы. И себе на удивление, понимала все. И вдруг почувствовала в себе неуемное желание поцеловать икону, но когда начала приближать к ней губы, была остановлена чьей-то рукой. Обернулась. Перед ней стояла высокая худая... нет, не поворачивается язык назвать ее ни старушкой, ни бабуськой, ни бабулькой (бабушку ее все называли бабулей). Тут что-то другое. "Пожилая женщина" – тоже, почему-то, не подходило. И не в том дело, что несмотря на возраст, спина ее была прямая, без сутулости, а лицо почти без морщин. Главное в человеке – глаза. Да, нет ничего страшнее человеческих глаз, но нет ничего и прекраснее их. Они, конечно, "зеркало души", но только для хозяина глаз, потому как в зеркале видишь только себя. И если смотришь в себя, целиком в себя погружен, то не можешь видеть ничего вокруг. Что можно увидеть в себе? "Да ничего там нет, кроме грехов!" – говорил батюшка Севастьян. И это замечательная и редкая способность – видеть в себе свои грехи. Но как показалось сейчас Зое, та, кто ее остановил, будучи целиком погружена в себя, видит и все вокруг. Она видит и грехи свои и тот Лик на иконе, к которому обращена ее молитва. Это уже "диплом с отличием". Зоя глядела в безстрастные, спокойные глаза и видела перед собой – молитвенницу.
– Не надо целовать иконы после причастия, – услышала она тихий выразительный голос.
Захотелось, чтобы она еще что-нибудь сказала. И она сказала:
– Первый раз причащалась?
Зоя кивнула. Молитвенница погладила Зою по голове и вновь отстранилась от всего. Зоя подняла голову к безстрастным глазам:
– Заблудших Александру и Юлию помяните. А меня зовут Зоя.
Не отрываясь от иконы и оставаясь погруженной в себя, та полунаклонилась к Зое, кивнула головой и вновь выпрямилась.
При выходе Зоя увидала молодого мужчину и молодую женщину. Почему-то остановилась. Шуба на женщине была расстегнута, а платье распирал большой живот. Зоя знала уже, как дети рождаются. Недавно мамина подруга умерла от родов и мама целый месяц только об этом и говорила, и по телефону, и с приходящими знакомыми, и Зоя слышала все.
Молодая женщина протягивала руку со свечой, чтобы поставить ее на большой подсвечник, и тут Зоя спросила ее:
– Тетя, а вы крещеная?
– Нет, а что?
– Тогда можете не ставить свечку, не поможет.
– А ты кто такая? – недовольно спросил тетин муж.
Зоя не отвечала и молча смотрела на тетю.
– А я вообще, я просто так ставлю, мало ли? – и после паузы добавила:
– Успею еще, подумать надо.
– Думать не надо, креститься надо.
– А иди-ка ты, проповедница! – уже с угрозой сказал тетин муж, беря ее за рукав. – Говорил тебе, нечего! Пойдем отсюда.
И уже в спину уходящим Зоя крикнула:
– А если вы от родов умрете?
Уходящие остановились. Обернулись.
– Ты чего мелешь?! – проскрежетал тетин муж. – Я тебе щас...
– У моей мамы подруга от родов умерла, – Зоя не видела дядю и обращалась только к тете. – Все умершие взрослые, которые некрещенные, все в ад идут. Вовремя думать надо. Для того взрослому и разум дан. За умершего некрещенного нельзя молиться в церкви.
Пока Зоя говорила это, она чувствовала крылья голубицы на своей голове. Она молча прошла мимо растерянных супругов и вышла из храма. Шел тихий мягкий снег. Подтаивало.
"Как же узнать к бабушке дорогу?" – думала Зоя. И почти столкнулась с учительницей соседнего класса.
– Ой, ты откуда это, Зоя?
– Я из храма. Я причащалась первый раз, а вчера крестилась и именины у меня были вчера.
– Поздравляю, – широко улыбнулась учительница. – А я тоже тут была, свечку ставила.
– А вы верующая? – радостно удивилась Зоя.
– Ну, как сказать? – еще шире улыбнулась учительница. – Вообще, конечно, есть некая сила.
– Какая сила? – теперь Зоя удивилась без радости. – Бог есть.
– Ну, Зоенька, ты уж слишком категорична. Ну прямо Юлия Петровна, только наоборот.
Вообще-то Юлия Петровна и мама были Зое понятны. Мамино "убью" звучало очень убедительно. Но тут Зоя не понимала... Зачем тогда в храм Божий ходить и свечку ставить? Кому? "Некоей силе"?
– Да! – спохватилась учительница. – А ты разве в казино не идешь?
– Куда?!
– Да ведь там сегодня викторина предновогодняя для всех первоклашек. И ваши все будут, только без Юлии Петровны. Она отказалась. Я там буду со всеми вами, ну и из родительских комитетов. О, поторапливаться надо! Кстати, вчерашний опрос для тебя прошел без последствий? Твоя мама – очень решительный человек. А ты почему без нее?
– Мама в храм не ходит.
– Да я знаю.
– Не хочу я в казино.
– Ну что ты, Зоенька, – учительница решительно взяла Зою за руку. – Там же приз будет для победителя: статуэтка-сюрприз, а в сюрпризе – целая тысяча долларов! Жаль, что нет взрослой викторины. Все это дирекция казино устраивает. Подарочек вам. Доллары, конечно, родителям вручат.








