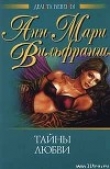Текст книги "Сестра милосердия"
Автор книги: Николай Шадрин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА 22
– Эй, солдатик, – постучала ноготком в обитую жестью дверь, – подойди-ка… что-то скажу.
Егерь оглянулся, двинулся вразвалку – гуляет человек по коридору. Наклонился, заглянул в волчок. Барышня. Как картинка хорошенькая! Улыбается. И у солдата потеплело на душе, и сам расплылся дурацкой улыбкой.
– Как тебя зовут?
– Васи-илий! А тебя?
– Анна Васильевна. Ты бы булочку не мог мне достать? – коробочка плавно, беззвучно выползла – и на ней солнечным зайчиком, царский золотой.
– Нет! Што вы! Не положено! – толкнул обратно, но нежно упрямая пружинка выдвинула коробку опять.
– А кто видит? Бери, дурачок. Чаю мне принесешь.
И родным, ранящим душу веяло от ее голоса. Солдат, задохнувшись смятенным чувством, слизнул с коробки пальцами монету, но все не решался положить в карман.
– Вам и так скоро принесут.
– Бери, бери! – И он подчинился. Пять рублей – деньги мизерные. За время правления чехов золото совсем обесценилось. Но солдату приятно иметь монетку от барышни-красавицы. В качестве «сувенира-с». «Княгиня, наверно».
«Княгиня», не желая предаваться унынию, поставила ноги шире плеч и сгибалась в ту и другую сторону, занималась по системе Далькроуза. Прошлась по камере, высоко поднимая колени. Сделала гимнастику для дыхания – уже по системе Виардо. Пустила длинную, вибрирующую трель, и, чтобы ни у кого не осталось ни малейшего сомнения относительно ее политических воззрений, звонко, точно попадая в каждую ноту, пропела:
– Славься, славься, наш русский царь!
Ей захотелось поменять местами кровать и табуретку – но и то и другое оказалось привинченным к бетонному полу. Только отодвинула подальше поганое ведро. Крепко поскрипывая ладонями по телу, умылась холодной водой, еще прошлась по своему новому жилищу, и села на кровать, ожидая ужин.
Тюрьма жила своей жизнью: где-то топало, где-то гремело железо, кто-то стучал в стенку. Кто-то закричал…но не от боли под пыткой, а так, по причине раздражения более высокого чина к чину поменьше. Но в этом ничего нового. Так всегда было. И будет, и никакая революция этот заусенец на теле жизни не сгладит. Даже добрейший Александр Васильевич этим грешил. Анна обернулась, будто могла увидеть сквозь стену любимое свое существо, дающее ей возможность дышать – длинноносую свою химеру! Конечно, тоскливо без него. Но – где-то здесь! И на душе спокойно. «Если вынесут „расстрел“ – попрошу, чтоб и меня!» – будто предупредила кого.
А кашу не несут. И помещение холодное. Сырое. Жизнь хороша переменами! У дедушки в Кисловодске была собственная гостиница, на сорок номеров. Какие чистые, ухоженные! И как бережно относились там к жильцам. Маленьким «сафонятам» запрещалось туда бегать – чтоб не беспокоили гостей. А какое подавали молоко! К концу лета, когда вырастает полынь – оно начинает горчить. И тогда коров кормили специальной, «сладкой» травой и спелыми яблоками. И какое это было молоко! А какая сметана!
Да что же это каши-то не несут! Раздраженно встала, прошлась. Прав бородатый отец всех большевиков и беспорядков в мире: бытие определяет сознание! Вздохнула, выглянула в окно – стена. Голые деревья. Заваленные снегом дома. Деревня какая-то, а не город. А Бог-то, оказывается, есть. ОН привел на место, где когда-то венчался Александр с Соней, клялся ей в верности на всю жизнь! На что-то повенчает теперь с Анной. Не на царство – это уж точно. И, едва ли, на долгую жизнь с веселыми чадами. А скорей всего, на «печаль и воздыхание да вечную память». Чтоб не повадно было красть чужих мужей. И шагала по камере, пока голова не закружилась, и не поплыла табуретка с ведром в разные стороны. Тоже развлечение!
Загремели засовы. Уголовные пришли за парашей. Обязанности обслуги здесь выполняли они. Вполне добровольно. И даже с удовольствием. Это давало возможность широкого общения и лишние прогулки по свежему воздуху. Вели себя корректно.
И почему это у людей особенно хороший аппетит бывает, когда нечего кушать? Но как бы ни было тоскливо, холодно и голодно в начале мировой революции в неприветливом городе Иркутске – ни разу не пожалела о выборе! Там, вдали от адмирала, было бы хуже! Зачахла б от тоски! А так – можно и терпеть. Здесь он где-то, милый, совсем недалеко. Тоже тоскует. «Люблю тебя!» – прошептала в пространство.
Может, у нее среди прабабок водились ведьмы – но в такие минуты у Колчака начинало учащенно биться сердце, и что-то заставляло посмотреть вверх, в правый угол потолка, где находилась ее камера. Хоть и не был уверен: здесь ли? В этой ли тюрьме? Да и в тюрьме ли? Вчера, на вопрос: где содержится Тимирева? Комиссары дружно заявили: не здесь!
Принесли кашу…гречка. На воде. Вместо чая – кипяток. Она поблагодарила.
– Это вам, – выудил из рукава шоколадку часовой. – От Ольги Алмазовой.
У Анны дыхание перехватило и ноги подогнулись. Вроде как не было у нее в жизни подруги ближе Гришиной-Алмазовой!
– Она что? – не поверила, – начальница тюрьмы?
– Ага. Самая главная! Вон в том кабинете заседает, – ткнул куда-то в пол. И, заслышав шаги в коридоре, крикнул, – посуду не задерживай!
Анна пожалела, что не догадалась передать шоколадку Колчаку – можно ведь, наверно? Но каша была съедена, кипяток выпит, и пришло новое соображение: под оберткой записка! Развернула хрустящую бумагу – никакой записки – но зато дохнуло таким одуряющим ароматом сливок, какао, горькой ванили – голова закружилась! А пальцы уже отламывали от задеревеневшей на холоде плитки кусок, и не было сил не положить его в рот. И по языку до гортани разлился вкус «мокко».
– Завтрак съем сама. Обед разделю с надзирателем. А ужин отдам Колчаку! – шутка показалась забавной, и опять пожалела, что нет его рядом – сумел бы оценить! Хотела откусить еще кусочек, но решительно завернула и положила на срез подоконника – Александру Васильевичу. Конечно, лучше было передать целую. А то надзирателю тоже захочется откусить – много ли достанется милой Химере.
Прошлась по камере. Нечем заняться! Почитала бы – да нечего! И руки сами потянулись к шоколадке, чтобы прочитать хоть адрес фирмы – все какая-то связь с миром. Но сдержала порыв и даже отошла в противоположный угол, чтоб не тревожить душу ароматом.
А минуты тянутся одна за другой – когда-то наберется час. Потом другой. Какая странная субстанция – время. В счастье, веселье – несется вскачь! Раз, два – и кончился день! А как попал в узы – вот тогда-то и поймешь, что такое секунда. Так-то она тяжеловесно ползет. Как клоп по стене. Изойдешь вся, изнеможешь, ожидаючи хоть какого-то слова, хоть какого-то лица человеческого. Покрутится по камере, да и опять к волчку прильнет: не случится ли чего в коридоре? Да и часовому одному скучно. Подойдет к двери – и потекла беседа. Он из крестьян. Тоже стосковался по смирной жизни. По покосу да пахоте.
– Гляди, и девушка ждет? – интимно приглушила голос Аннушка. Солдат только вздохнул всей грудью да головой потряс – такая тоска разобрала по оставленной в деревне зазнобе.
И опять Анна садилась на кровать, а в голову лезли воспоминания раннего детства. И гимназистка Ефремова! Жарко дыша, говорила о любви! «Знаешь, каждый мужчина хочет, чтобы женщина принадлежала только ему! И он хочет ее… убить! И обладание, – шептала, трепеща белыми ноздрями, – это убийство! Как пронзание кинжалом. Насквозь! – Бедная Аннушка уж готова брякнуться в обморок, а начитанная Ефремова не умолкала. – Чтобы текла кровь! Они хотят нас получить и убить! Так много в них первобытного!
Но они, – хитро щурилась маленькая садистка, – хотят убить нас – а вместо этого получают… ребенка! Нового человечка. – И уже хватала за руку, и шептала в другое ухо философский постулат. – То, чего ты хочешь, – будет обязательно наоборот! Хочешь быть богатой – будешь бедной! Захочешь убить – родишь! Понимаешь?!»
И Аня Сафонова, гимназистка третьего класса, кивала тогда, соглашаясь. Да и теперь-то особо спорить не стала б с сумасшедшей Ефремовой. Что-то в этом было. Любовь и ненависть, смерть и рождение – все это близко. Давно ли адмирала носила толпа на руках? А теперь, появись на площади без охраны – в клочья разорвут. И вот Господь для какого-то равновесия выдумал ему Анну Сафонову. И она одна должна любить его так, как ненавидит теперь вся страна.
Черный крест от рамы сполз по стене на пол и, казалось, уснул, но вот постепенно, ломаясь на углах, влез на противоположную стену и там померк, растворился. И так будут тянуться сутки за сутками целые месяцы, а может, и годы. И Анна была на это готова: это несправедливо – и, значит, надо терпеть. За несправедливое наказание – самая большая награда.
И шорох! Легкий стук, и заскрипели засовы, отворилась дверь.
– Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Анна Васильевна! – сдерживая вопль радости, пропела Ольга. Уж она-то чем перепугала новую власть. – Мать моя! – раскинула руки. – Да как же тебя перевернуло!
– Мерсите вам, пожалуйста, – сделала Анна книксен, и они хохотали от счастья и касались друг дружки ладонями.
– У тебя свободный променад?
– Совершенно свободный! – и опять захлебнулись безудержным хохотом. Отстранились, посмотрели друг на дружку, как бы глазам своим не веря. Коротко вздохнули и головы склонили набок одинаково.
– Это большевики такие? – повела Анна взглядом в сторону коридора.
– Н-нет, какая-то дружина. Но говорят, большевики вот-вот возьмут верх.
Это не особо печалило узниц! Молодость, жажда жизни побеждала унынье и печаль.
– И как же ты здесь?
– Да вот, – повела плечом.
И замолчали, и смотрели уж без прежнего света радости, а подмечая досадные изменения.
– Хорошо, хоть не бьют.
– Бывает, – выговорила низким приглушенным голосом, но не стала расписывать ужасов, свидетелем которых все-таки была.
– Спасибо за шоколад.
– Это с воли, – поспешила объяснить. – Я тут ни при чем.
Как-то быстро выговорились. Стояли, улыбались, вздыхали. Оно и в самом деле, особенных причин радоваться немного. Да и кто ответит на самый больной, самый важный вопрос?
Добрый надзиратель позволил погулять по коридору. Хорошо, что есть и такие. Дай Бог им здоровья.
– Александр Васильевич здесь?
– А где же еще? Молчат эти! – рассердилась на охрану. – Тайны мадридского двора.
Но не хотелось думать о горьком – слишком они были молоды, обе замечательные красавицы, как-то не цеплялась к ним печаль. Слетала! Очень уж много радости обещано было им судьбой. И не верилось, что вот-вот все обрушится раз и навсегда. Шли по длинному пустому коридору, делились новостями. По большей части горькими.
Солдат смотрел со слишком откровенным любопытством, как на редких заморских зверей. Вот они, вдова и любовница самых знаменитых людей империи, – а обыкновенные. Даже и одеты, можно сказать, неважно. Только что говорят по-французски. Скажут два-три слова по-нашему и опять замурлыкали.
Вспомнили вылазку в ресторан «Зеленый попугай».
– Александр Васильевич все «Гори, гори, моя звезда» заказывал.
– Да, – вздохнула Анна.
– И ругался, что неправильно поют.
– Ругался, – и вдруг повернулась к егерю. – Где сидит Колчак?
– В пятой! – брякнул тот.
– Можешь пропустить к нему?
– Нет! Все! И так разгулялись! – вдруг рассердился и даже затвор передернул. – Марш, в камеру! А то!
Пришлось подчиниться.
А на сердце опять праздник: здесь! И поет душа: рядом он, милый, несчастный, больной Александр Васильевич. О, только бы увидеться, словом перемолвиться, поцеловать-то его, может, в последний уж раз! А там – будь, что будет.
Но Анна обманывала себя, боялась сглазить самую потаенную, самую заветную мечту: бежать! Кто такой Политцентр?! Какая у него может быть сила? А с обеих сторон – наши! Пока доберется сюда красная армия – десять раз сумеют отбить! О, хоть бы! И не особенно набожная Анна становилась на бетонный пол коленями, молила Богородицу помочь «болярину Колчаку избежать узилища и казни». Уйти из заключения. Зачем же обрывать жизнь только начавшуюся?
ГЛАВА 23
Встретились только через несколько дней. На прогулке во внутреннем дворе.
Анна знала, что что-то произойдет. Приснился Кисловодск, речка Ольховка. И они всей семьей отправляются на гору, смотреть восход. Зачем они это делали? Ведь так хочется спать! И почему нужно смотреть на восход с горы, а не из окошка дедовского дома?
Но, когда обомрет душа религиозным ужасом перед бесконечностью мира, затрепещет счастьем видеть красоту проснувшейся Земли. Со сверкающими, дышащими стужей ледниками, поднимающимися из тумана скалами! Нежнее нежного, бархатисто-зелеными лугами! И вопрос: зачем было вставать в такую рань – испарялся бесследно.
И вот теперь проснулась с тем же ощущением близкого счастья. Она даже подумала: отпустят! И особенно прилежно делала гимнастику, умывалась дольше и более тщательно. То есть, конечно, посещали и сомнения: не лукавый ли смущает. Не искушает ли? Но уж и не боялась ничего! Хуже их положения, действительно, придумать было трудно. Хоть в ту, хоть в другую сторону – все равно хорошо.
С удовольствием скушала кашу. И опять бесконечно шагала по камере, чутко прислушиваясь: не позовут ли? Не передадут ли записку. Уж после обеда загремели засовы, застучали подковы – вошел надзиратель.
– На прогулку!
Анне кровь ударила в голову, застучало в висках. Теперь очень хорошо понимала сынка Володю, ту радость, с какой убегал он «на улку». Прошли по коридору, спустились по чугунным ступеням, вышли во внутренний двор. Все то же: несокрушимо крепкие кирпичные стены; забранные решетками окна, затянутое белесой пеленой студеное зимнее небо.
На прогулку вышла первой – и приходилось торить заметенную мучнистым снегом тропу. Как много здесь снегу. От незамерзающей Ангары подносило леденящий душу туман. Иногда казалось, что зима здесь бесконечна – а лета и вовсе не бывает! Разве может вырасти в таком гибельном краю трава? Подобрала, поджала руки в рукава. Да и не шла уж, а скакала то на той, то на другой ножке.
– Замечательно, Аня, замечательно!
И небо раскололось, и лопнула Земля! Ноги у Анны обессилено подкосились, и она упала бы, если б Александр Васильевич не кинулся, не успел подхватить! Они прикипели друг к дружке и замерли. Один часовой отвернулся. Другой смотрел во все глаза, разинув рот. Анну странно, коротко непрерывно толкало – и она понимала – плачет. Господи, Колчак плакал, ткнувшись носом ей в щеку. Отстранилась, взяла его лицо, быстро-быстро целовала.
– Прости, – кривились губы Колчака, – прости, я погубил тебя.
– Нет! – кричала шепотом она. – Я самая счастливая! – и видя, что часовой идет большими быстрыми шагами, чтоб разорвать их – крепко, будто в последний раз поцеловала долгим поцелуем.
– Милая…милая! – повторял Колчак, не слушая того, что кричал часовой. – Милая моя! – и, как на благословение, выкинул два перста.
Их растащили.
– Ну, что вы! – страшным шепотом кричал конвойный. – Поглядели – и ладно! Комедию устроили.
Анна давилась слезами счастья. Сердце ее разрывалось. И не было у нее минуты в жизни радостнее этой! И более тяжелой. Только увиделись – и опять по одиночкам. Анна не помнила, как поднялась на этаж, как прошла по коридору.
За спиной будто выстрелило – с грохотом вошел в гнездо засов.
ГЛАВА 24
На допросе хорошо. Тепло. Даже щеки с непривычки горят – так выходит въевшийся в тело мороз. И пальцы пухнут.
Председателем – Попов, заместитель – человек с фамилией Денике. Все тянуло назвать его Деникиным. Однако власть в городе скоро перешла к большевикам – и председателем назначили, конечно же, Чудновского. Колчак слушал, как гудит труба буржуйки, потрескивают дрова, наносит в щель дымком, и хотел только одного: чтобы допрос тянулся вечно. О чем бы ни спрашивали, все-таки умудрялся отвечать развернуто, в полном соответствии со своим представлением правды.
Денике приложил лучинку к бордовой от жара печи – и она, истаивая на раскаленной поверхности, беззвучно скользила, подчиняясь легкому нажиму. Вкусно запахло паленым деревом.
– Александр Васильевич, а кем же все-таки доводится вам Тимирева Анна Васильевна? Это подчеркнуто вежливое «Анна Васильевна» предполагало ответ: «жена». И он готов был назвать ее так! И хотел назвать женой – но, если вдову безобидного Гришина-Алмазова определили на место жительства в застенок, то, что сделают с женой верховного врага? Ах, бедная, бедная Аннушка! Сколько вытерпела, сколько потеряла в своей жизни…
Мужчинам нравятся женщины веселые, похожие на озорных мальчишек – с ними легко, приятно, беззаботно! Или, наоборот, строгие красавицы. На которых и смотреть-то робеешь. Так и тянет пойти на подвиг за такую, всю жизнь сделать подвигом, посвященным ей одной! Анна сочетала в себе неугасимый огонь шаловливого подростка с неприступной красотой роковой женщины.
– Просто знакомая, – уронил небрежно и трескуче, до синей жилы на лбу, закашлялся лающим кашлем. В комнате переглянулись. Колчак достал платок. Тот самый. С трудом поборол искушение здесь же, на глазах у всех отчалить в страну, где течет река Лета и цветут бледные асфодели. Но это грех. Непростительный. Недостойно легкий уход. Господь хотел от него чего-то другого, и нужно суметь пройти весь путь, не виляя, не уклоняясь от химер судьбы.
– Так – не жена?
– Бог с вами. Моя жена давно в Париже.
Следователи замолчали, и опять стал слышен треск дров и гудение трубы.
– А, говорят, адмирал, вы танцевать мастер?
– Да! – отозвался радостно, – чем, собственно, и известен! – И повернулся на стуле, подвигая промерзшие до костей ноги ближе к огню. – Петь люблю, брякаю на фортепиано. Свел и развел носки, пошевелил ступнями по-утиному. – Гидрограф, говорят, был неплохой. А еще, господа, – взглянул задорно, – едва ли вы найдете сегодня более толкового минера! – думал, что спросят о минных полях, о количестве потопленных боевых кораблей неприятеля – но их это не интересовало. Спрашивали о злодеяниях Красильникова, Волкова. Колчак, какую-либо ответственность за это категорически отрицал.
– Вообще, гражданская война – дело кровавое и грязное. Да, жгли деревни. Бывало. Как с той, так и с другой стороны, впрочем. Говорил Колчак сиплым, бесцветным голосом.
– Один из ваших робеспьеров, например, отрубил пленному солдату ногу, привязал ее веревочкой – и отпустил служить. Ко мне…
Или, как-то вышел из лесу обнаженный человек с офицерскими погонами. Не падают! Оказалось, прибиты гвоздями к плечам.
– Ну, хватит фантазий, потрудитесь отвечать на поставленные вопросы!
Интересовались сподвижниками: кто есть кто? Колчак отвечал и украдкой дарил, может, последнее тепло своему бренному, истрепанному телу. Все-таки жаль и его. Сколько служило беспокойному, не всегда, разумному духу. Вон как успел износить к сорока шести годам. Да оно, может, и правильно: со свежим, еще готовым на долгую жизнь организмом расставаться, тяжелей.
– Что? Ах, вы про это. Виноват ли Государь в несчастном исходе войны с Японией. Повернул ноги, чтоб погрело и с тыльной стороны. – Царь здесь абсолютно ни при чем. Дрались мы из рук вон плохо, вот что. Сами виноваты.
– То есть, вы были и остаетесь монархистом?
Колчак отдернул ногу – очень прижгло!
– Я был монархистом.
– И никаких сомнений?
– Какие сомнения? Офицер должен выполнять долг.
Попов наклонился к Денике, что-то шепнул, тот кивнул и вышел.
– Вот вы были в Америке – как она вам?
– Я был приглашен…
– Нет, как они к нам относятся? К русским?
– Да, не любят.
– Никто нас не любит, – приятно улыбнулся Чудновский.
Дверь отворилась, Денике внес чай. Колчак невольно подался навстречу, по легкому цветочному аромату ясно, что чай китайский, и, главное, горячий! Он промерзал в своей камере до печенок – и все никак не мог согреться. Здесь, в жарко натопленной комнате, стужа выходила ознобом, до того, что начинало трясти. На первых допросах Попов смотрел с недоумением: уж не боится ли воин, увенчанный лаврами побед и поражений?
Колчаку в этот раз чаю не досталось. Не хватило стакана. Чудновский звучно схлёбывал янтарную влагу, «впрогоряч», хитро косился на заключенного.
– А скажите, адмирал, – вальяжно заложил ногу на ногу. – Анна Тимирева – только знакомая? Не больше ли?!
– Больше, – согласился Колчак. – Хорошая знакомая. Она работала переводчицей при Совете министров… Нет, стоп! Шила белье для увечных.
Один из следователей, подержав в руках свой стакан, протянул заключенному. Колчак благодарно кивнул. Допрос продолжался. Зашел разговор о погибшей «Императрице Марии» – не было ли диверсии? Колчак отнес это к неизбежной на войне случайности. Чудновский улыбнулся саркастически, оглянулся на друзей, давая понять, что не верит ни одному слову. Колчак не обиделся. Он ясно видел на лице начальника «чеки» печать туберкулёза.
– Вам бы – парное молоко да высокогорный климат…
Это оскорбило Чудновского! Да и все замолчали тем молчанием враждебности, которое заставило бы адмирала вспомнить свое положение. Его вызвали не на вечер приятных воспоминаний чаи гонять, а держать ответ за совершенные злодеяния!
И тут двери отворились, и, как на сцену кафе-шантана, вбежал человек, скрипящий кожаной курткой и ослепительно красными штанами галифе. На штанах тоже длинная, широкая лента кожи – от колен и дальше, по всей широкой заднице. Есть люди, занятые только собой, кажется, таким был Бурсак.
Махнул приятелям белой, нерабочей рукой, потоптался, вроде как станцевал. Покобенился в лучах восхищенных взглядов. Все наперебой поздравляли его с небывалым повышением: из начальников тюрьмы – в коменданты города! Захватившим власть большевикам он понадобился в этом качестве. Бурсак приятно, чуть высокомерно улыбался, торопя к концу неумеренный восторг поздравлений. Пригласил на небольшой банкет, где соберутся «только свои». На Колчака тоже взглянул. Но как-то мимолетно, с оттенком брезгливости: это что за таракан у вас сидит? Не узнал он Колчака с высоты нового своего положения.
Вся коллегия, как казалось, мгновенно перекрасилась в красный цвет и вступила в партию большевиков. Едва-едва вырвавшийся из застенков Чудновский зла на бывшего начальника тюрьмы не держал. Бурсаку, как рысаку, не стоялось на месте, нужно было вертеться, показывать себя и с этой, и с той стороны и лететь, красоваться в других местах. Даже попытался взглянуть на себя в оконном отражении – но стекла сплошь обложило слоем инея.
– Глядите-ка! Откуда сибирский мороз знает, как выглядит африканский папоротник?! – И все выразили на лице глубокое восхищение неподражаемым изяществом мысли коменданта.
Колчак будто окаменел. И это – новое правительство? Он готов был согласиться с собственной некомпетентностью, но был крайне удивлен теми, кто пришел на смену. В это ужасное для империи время. Кажется, объявили конкурс на замещение вакантных мест – а претендентов набирали из заплечных дел мастеров. Все сидели по тюрьмам! Да не по разу. Как же не поставить после этого над собой надзирателя? Спокойно и, главное, привычно! Когда надо – покормит, когда надо – накажет. И нечистоты за собой прикажет вынести. Еще додумаются империю назвать каким-нибудь лагерем. «Лагерь труда», например. Или, «Лагерь энтузиазма». Веселенькие деньки ожидают страну впереди!
– Ну, что, Сашок, пригорюнился? – резко повернулся, – к Тимиревой тянет? – ржал, заглядывая в глаза. И остальная братия тоже захохотала, демонстрируя хорошие, не испорченные полярными зимовками жевательные аппараты, – «алямбурсэ хоцца?»
Перед глазами Колчака все поплыло, его подкинуло – и заревел степным казачьим голосом:
– Молчать, харя!
Все так и покатились с хохота – не страшен им больше грозный адмирал.
– Молодец! – похлопал по плечу Бурсак. Повернулся к приятелям и пригласил уже другим, серьезным, даже важным голосом, – Бывайте! Жду! – и вышел. В комнате еще целую минуту стояла благоговейная тишина. Как-то все разомлели в восхищении начальством.
Первым заговорил Колчак.
– Это фиксируется? – кивнул в сторону секретаря.
– Успокойтесь, – зевнул ему в лицо Попов, – на допросах никогда ничего не фиксируется.
Почему-то он так сказал, и никто не возразил.
«Что же они в таком случае там пишут?» – в первый раз встревожился Колчак.
* * *
И уж потом, оставшись один в своей камере, задавал себе вопрос: не слишком ли яркими красками расписывает свое научное и военное прошлое? Не попахивает ли это бахвальством? Да вроде бы нет… наоборот, о многом скромно умолчал. Например, о спасении Петрограда. Если бы не он с Эссеном – столицу взяли бы в первые дни войны. «Потомки разберутся во всем и воздадут по заслугам, – наивно думал адмирал, – докопаются до каждого эпизода, отмеченного храбростью и самоотвержением».
И в голову не могло прийти, что на него, человека, посвятившего жизнь делу служения Родине – благополучно наплюют и постараются забыть все заслуги. Даже остров переименуют. В истории, правда, оставят, но как пример человеческой глупости, коварства и трусости.
Адмирал знал, что любого человека можно возвеличить и унизить до последней степени. Но и в кошмаре не снилось, какой грязью обольют его самого. У нас умеют обойтись с самыми достойными вполне талантливо. Близкий друг, боцман Бегичев, вытащивший Колчака из полыньи, бывший шафером на свадьбе – полжизни положил на то, чтоб всеми силами обгадить покойного. Впрочем, понятно: жить очень хотел! А то, известно, как проступили бы с ним большевики, не открестись он от дружка. «За каким лядом приезжал к нему в Омск?! О чем беседовали всю ночь напролет?!». Много могло бы возникнуть вопросов к бывшему сослуживцу лейтенанта Колчака.
В дверь легонько постучали – синичка клювом. Александра Васильевича с кровати, будто ветром сдуло. Подскочил к волчку – Ольга. И чуть дальше она! Стало трудно дышать. А сердце стучит, колотится – вот-вот выскочит.
– Нельзя! Отошли! – ругается охрана. Отогнали женщин вглубь коридора. И тут, будто сама собой, невесомо скользнула по полу, влетела в камеру бумажка. Одним взглядом охватил и вобрал в себя печальный смысл записки: Владимир Оскарович Каппель погиб. Еще один удар, еще одна утрата. На его место встал Войцеховский. Преданный, светлой души человек. Идет на Иркутск с целью освободить адмирала.
И опять весенней пташкой встрепенулось сердце. Хоть разумом и понимал: не взять ему город! Слишком силы не равны. Белых пять тысяч бойцов. Да и то, больше половины в тифу. Обморожены. Да переутомлены-то пуще загнанной лошади. А у красных– одних партизан до шестнадцати тысяч. В теплых полушубках, в катанках, в собачьих рукавицах. Злые, как цепные кобели. И регулярная армия летит на всех парах из Большевизии. Вооружены до зубов пушками и пулеметами. Самому бы Войцеховскому успеть пробиться за Байкал и то, слава Богу. Еще и блефует бедный: потребовал Колчака и «золотой запас»! Тогда, мол, не трону Иркутск. Может, и в правду думает, что испугаются красные.
Сел на табурет, сложил руки ладонь к ладони, сунул меж колен. Задумался. Точно так же когда-то любил сидеть на «Заре» против устья топящейся печки. Радостно видеть сквозь щели заслонки живое золото огня. И потом, на Дальнем Востоке, сколько часов провел перед камином, смотрел на бордово-муаровый, переливающийся цвет пламенных углей. И едва слышный стеклянный их писк, легкое шуршание. И отблески на широкой, бездонной полосе японского клинка.
Как хорошо бы было, если б в камере топилась печь! Счастье – это свободное жилище и жаркая печь.
Он, наверное, задремал – и ясно привиделась жена. София. С Ростиком. Они стояли на снегу босиком, а напротив, шеренгой – пьяные матросы. И, откуда-то взявшийся Бурсак:
– Где золотой запас?!
Жена с сыном молчат – и тогда Бурсак, с побелевшей, дергающейся верхней губой отдал приказ:
– Пли!
Матросы выстрелили. Но взяли выше головы. Сын с женой вздрогнули – и продолжают стоять. И Колчаку жутко было видеть это издевательство. Неужели Бурсак с матросней добрался до Парижа? Неужели и там революция!
И увидел себя.
Никогда он не видел себя так, со стороны. В длинной шинели и тоже босиком. И Бурсак кричал:
– Где твое золото? Отвечай!
С трудом двигая в снегу ногами, старался отойти дальше от сына и жены, чтоб принять весь урожай пуль своей грудью.
– Где твое золото?! – вяз в ушах визг. И тот, босой Колчак, медленно поднял руку и указал: «Вот мое золото». И увидел так же по колено бредущую по снегу Анну.
Адмирал дрогнул и открыл глаза. Ноги одеревенели от стужи. Поднялся, принялся ходить. Какой странный сон.
Сапоги громко стучали по бетонному полу, скрипела, пощелкивала под подошвой каменная крошка. «Скоро уж, – нахмурился Колчак, – сон в руку». Да еще Войцеховский, забубенная головушка, со своим ультиматумом. Тоска могильной плитой давила, не давала дышать. Подошел к двери, принялся колотить кулаком. Когда подошел егерь и ударил в дверь прикладом, Колчак взмолился:
– Во имя всего святого на земле, во имя ваших детей и родителей – три минуты свидания с Анной Тимиревой!
Солдат грубо выругался и сделал неприличное, позорное движение. Колчак отошел в противоположный угол. Опустился на колени и принялся молиться единственному своему заступнику – Отцу небесному.