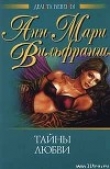Текст книги "Сестра милосердия"
Автор книги: Николай Шадрин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Николай Шадрин
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
(Повенчанные на печаль)
(Последний парад Колчака)
Я девчонка еще молодая,
а душе моей тысяча лет.
ГЛАВА 1
Стрекот и пыль столбом! Шили рубашки, кальсоны, постельное белье…
Это случилось неприметно, исподволь. Всю жизнь, с детства, была бойкой шалуньей, «звездой»! Одно только и занимало мысли и сердце – успех! Восхищение публики. Но вот бедовая душа налетела на неожиданную встречу, как коса на камень, – и переломилась.
…Они стояли с мужем на вокзале, мимо, отдав честь, прошел капитан. И будто что ударило, взорвалось и переполнило жаром.
Я только вздрогнула: этот может меня приручить.
А он и не взглянул. Даже хуже, взглянул, как на никому не нужную этажерку. И прошел мимо. И унес навек ее сердце. Это был он. «Моторный двигатель прогресса», возрождающий погубленный флот. Анна слишком привыкла к восхищенным взглядам мужчин и давно уж принимала их как должное. А этот не заметил. Внимания не обратил. То есть началось все элементарно, с уязвленного самолюбия. «Ну, погоди, дорогой!» – наверное, прищурилась она тогда вслед широкоплечему капитану…
– Анна Васильевна! – сдерживая раздражение, крикнула хозяйка артели. Это значило, что госпожа Тимирева могла бы чем-то заняться, не стоять столбом среди цеха.
Поспешила к электрическому «Вильсону», строчить бесконечные мили швов по опушке белых полей простыни.
Палец дергало так, что пронзало насквозь.
– Больно, Анна Васильевна? – наклонилась Алиса Кызласова.
– Ничего-ничего! Пройдет. Рожать больнее!
Княжна сощурила свои красивые татарские глаза, покачала головой. Анна нашла силы, улыбнуться:
– Барин приходит в Славянский Базар, заказал огненный суп. Лакей несет ему тарелку – а пальцем в суп заехал. Вот так, – показала – Барин, конечно, возмутился! – Ты что же это вытворяешь, скотина?! – А тот ему: «Палец, ваше сиятельство, болит, спасу нет!» «Так засунь его себе в задницу!» «Совал, ваше сиятельство, не помогает!».
В лицо бил южный, с брызгами дождя, холодный ветер. Шумели тополя, ветер трепал ярко позеленевшие листья. А под ногами золотыми рублями – желтый лист. По лужам пробегает рябь – и как-то зябко от этой осенней картины. А ноги норовят свернуть в сторону, только бы не к старикам-чалдонам.
То есть Анна понимала, что не может же Верховный, будучи официально женат, жить у всех на виду с неразведенной женой боевого товарища. А в душе закипала обида и негодование пуще, чем у Анны Карениной. Как так получилось, что залезла в этот мучительный, постыдный капкан?!
Палец ныл, так и тянуло сунуть, подержать в холодной луже. Как-то все не так складывалось в жизни! Наклонилась, стараясь рассмотреть себя в отражении неспокойной воды: не состарилась ли? Кому теперь нужна такая? С опухшим пальцем.
Мимо, с лошадиным храпом и смачным топотом копыт, проскакали казаки. С красными лампасами. Донцы. С родного юга! За порядком следят. И отлегло от сердца, и походка вернулась прежняя легкая. А милый… что ж! Еще бабуся говорила: «У них одно на уме, как бы нашу сестру до беды довести – да скорей на коня». И вздрогнула! На чахлом топольке мокрая с распущенными крыльями ворона. Открыла клюв, будто подавилась: кар-р, кар-р! Автомобилистка. «Car» ей подавай.
Казаки на перекрестке. Смотрят. Вообще-то они не только следили за порядком – а и сами творили черт знает что. Пытливый, неподвижный их взгляд смущал, и уж хотелось свернуть в подворотню. Но шагала все так же твердо, решительно. И когда поняла неизбежность насилия, вдруг проорала степным зычным голосом:
– Здорово, станичники! – Казаки дрогнули и подтянулись. – Благодарю за службу! Вольно!
Казаки распустили бороды улыбкой.
– Рады стараться, – отозвался старший снисходительно и коротким движением пустил лошадь на рысь. Скоро стук копыт истончался и смолк. Все-таки опасно ходить этим узким разбойничьим переулком. Особенно вечером. ОМСК – «отдаленное место ссыльных каторжников». Только и осталось надежды – на авось, небось да как-нибудь.
ГЛАВА 2
Старик бухал под крышкой своим колуном.
– Скоро он?!
Анна потрясла головой. Старушка приготовила грибы, достала горбушку хлеба, отрезала три больших куска. Над третьим, правда, слегка задумалась. И отрезала потоньше. Кот Шамиль беззвучной белой тенью вился у ног. Голоса не подавал, терпел.
– И что бухает? Дня не будет, что ли?
Золотистое пламя лампы чуть слышно шипело. Или это стекло так шумит? Осторожно Анна сняла жакет, села на сундук. В печке едва слышно звенели, пищали прогоревшие угли. Хозяин все гремел колуном. Странно все-таки: бросила сынка, оставила мужа, опозорилась на весь белый свет, работает белошвейкой – и вот сидит со своим больным пальцем, как старуха у разбитого корыта.
Наконец колун смолк. Баба Нюра достала рогачом из мрачных глубин русской печи чугунок упревших, протомившихся щей. Каленые щи не парят, таят огненную свою температуру, караулят, кто не остережется, схватит – ошпарит нёбо и язык. Дед дует в деревянную ложку, жует хлеб. Анна Васильевна тоже дует и тоже жует сухомяткой. Дед с шумом, ребристо морща лоб, втягивал в себя огненную жижу. Бабушка ела степенно. Сидит чопорно. Тоже из староверов. Как и Анина бабуся. Та была даже строже в вопросах религии. Это ж надо: выставила за порог солнышко русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина!
И опять неловко ткнулась пальцем – и он взорвался искрящейся болью.
– А это чё тако?
– Да вот…
– Ага! – обрадовалась хозяйка, – это надо греть! – И легко поднялась, поставила кувшин на печь.
И скоро Анна уже сидела с пальцем, опущенным в нестерпимо горячую воду. Поминутно выдергивала, обдувала – но постепенно палец стал неметь, жар вкрадчиво, щекотно вгрызался до косточки. Боль отступала, приобретала приятный, щекочущий оттенок. Старики сидели за столом с той и другой стороны и плотоядно улыбались, будто ожидали чего от нее.
Огонек в лампе перетекал с края на край фитиля, вытягивался, чадил и опять опадал, тихо освещая избу.
– А че-то абмирала не видать? – поинтересовался старик.
– Все тебе знать надо! – прикрикнула жена, но при этом повернулась и притихла, ожидая ответа.
– Некогда ему, – извинилась за Александра Васильевича. – В Тобольске дела, – и прикусила язычок: можно ли выдавать такую тайну, не просочится ли, куда не следует.
– Не страшно ли, в Тобольске-то? – и на недоуменный взгляд баба Нюра пояснила. – Тама же царя с царицей застрелили.
Дед в досаде чмокнул, не имея сил выносить глупость жены.
– А че я такое сказала?!
– Да их в Екатеринбурге, – мягко напомнила Анна – баба так и закудахтала от хохота. – Ну, хоть и в Бурге! А мне пало на ум, что в Тобольским! – Видно было, что гибель августейшей семьи не больно печалила старушку. Дед набирал в рот чай и громко полоскал. Гигиеничный такой попался хозяин.
– А как же ты с ём познакомилась-то, вот что скажи!
– На поезде ехали. В одном купе.
– В одной купе с абмиралом?
– Билеты так дали.
– Да-а… – удивительно было, что можно так запросто поехать по железной дороге с кем угодно, на соседних полках. Они удивились бы еще больше, если б знали, что военный, несколько раз навещавший их, и есть тот самый Колчак, которого давно уж крепко недолюбливало население города. Думали: ходит какой-то, да мало ли их теперь развелось! Нищих генералов да князей.
– А ты ему глянешься, – скромно потупилась старушка.
– О! А че бы и не поглянуться! – заступился за квартирантку дед. – Не ряба, поди, – и озорно сверкнул глазом. Анна вздохнула и неприметно потянулась всем упругим, гибким телом в тоске по крепким объятьям адмирала.
Боль окончательно отошла, будто окуталась пушистой немотой.
– Подливай, подливай! – подвинула кувшин старушка.
– Шибко-то тоже нельзя. А то будет… Похлебка из пальца! – На это громко, раздольно рассмеялись. Дед даже и до слезы – приятно сознавать себя острым на язык человеком. Просмеялись, затихли. За окном непроглядная ночь. С ветерком. Будто кто шарит по избе то с того и другого угла. На подловке зашуршит, зашуршит – брякнет. И тишина такая, что пошевелиться боязно.
И тут резко, оглушительно застучало в ставень!
– Хозяева! Открой! – окрик грубый, требовательный, властный. За столом так и обмерли, боясь вздохнуть, – откр-рывай!
– Дак че же это? А? – суетливо оглянулась на заробевшего деда старушка, – велят открыть.
Дед одними губами выговорил слово, поднялся, шагнул в черные сенцы. Женщины замерли, не дыша. Шамиль беззвучно взлетел на печь и неподвижно светил оттуда. Стукнула наружная дверь. Забубнили голоса. Кто же мог быть? Слишком много в последнее время свалилось на обывателя Омска. Оно и так-то каторжан не переводилось – а теперь даже жуть брала. Зайдут в избу, заберут, что понравится, да еще велят Бога молить, что добрые попались – в живых оставляют. Редкую ночь не озарит пожар, два, а то и больше того.
Опять забубнили голоса, хлопнули воротца. Идут по двору. Женщины вздохнули и замерли. В сенцах загремели, дверь отворилась – мерцая золотом погон и кокардой, шагнул через порог офицер.
– Извините великодушно, – переполнил избу рокочущим голосом, – испугал, наверное? – как конь топотал по половице подкованными каблуками Удинцов. – Уж третий дом бужу! – гремел он жизнерадостно. – Вы решительно прячетесь, Анна Васильевна! – Ротмистр никогда не пил, сейчас же едва не выплясывал в химической радости. – Собир-райтесь – зовет! – Неопределенно улыбаясь, осмотрел прихожую, служившую старичкам и столовой. Старушка пришла в себя и нашла нужным попенять незваному гостю:
– Уж больно громогласно, – поджала увядшие губы, – можно бы маленько и потише, говорю.
Удинцов взглянул удивленно и ничего не сказал. Анна Васильевна ушла в коморку, чтоб переодеться, привести себя в порядок. Ее трясла лихорадка радости: позвал! Значит, нужна! Значит, возможно сближение! Скользнула в холодное, любимое его, парчовое платье. Не расчесалась, а только похватала горстью пышный свой волос – готово! Облагородилась ароматом духов «коти».
На холодной темной улице ждал автомобиль. Ротмистр открыл дверцу, и Анна села на пружинное сиденье. Машина чихнула, заурчала железным нутром, дернулась, пошла. Волновала одна мысль: о счастье предстоящей встречи. Кажется, все в ней менялось при виде его, дышала-то по-другому. И сердце стучало иначе. И жизнь рядом с ним лучилась счастьем.
– Что там? Что за общество? – прокричала, сидящему впереди Удинцову.
– Не волнуйтесь! Ничего.
От Надеждинской до Батюшкинского особняка рукой подать – если на моторе. Вышли. Бесконечно широкий, черный Иртыш терялся, растворялся в невысоких берегах. Горят звезды. Мерцают. Так же мерцали они и пятьсот лет назад, когда в этой реке тонул Ермак.
– Прошу покорно, – хотел взять под руку – в темноте ошибся, пальцы толкнулись ей в грудь – испуганно отдернул. Только крякнул, не смея извиниться. – Прошу, – отступил, пропуская к особняку. Со столба больно-белым светом ударил по глазам фонарь.
А сердце мрет, и по каждой жилке кровь, как пенное шампанское. Вот сейчас увижу! И прямой стрелочкой подалась к красному крыльцу с портиком. На ступеньке чуть споткнулась. Правой! К счастью! Ротмистр осторожно, вполне жантильно, поддержал под локоток. Не промахнулся.
– Омск дал миру двух святых: вас и Достоевского!
– Что – Достоевский? – встретил Верховный. Странно взъерошен, с лица еще больше почернел. Глаза с недосыпу красные. Спал «меньше Наполеона», три, а то и два часа.
И сердце Анны сжалось от состраданья и любви. И уж тянуло уцепиться за него, держать и не выпускать. Он стоял на месте, но видно, как встрепенулся и готов кинуться навстречу. Соскучился. Героев называют орлами – Колчак, со своими яркими глазами, горбатым носом напоминал эту гордую птицу. Но только раненую. С перебитым крылом. И во взгляде читалось одно определенное чувство: страдание. Он обещал Анне счастье – а дать не смог. Даже не поселил в своем особняке. И, в сущност и, все это время они оставались совершенно чужими.
Прошли в длинный, узкий, с одним окном кабинет. И здесь холодный английский кафель. При его-то хроническом воспалении легких! Изголодавшись друг по другу, так и переплелись пальцами, прилипли ладонью к ладони.
Где-то в глубине особняка, на половине охраны, слышалась балалайка:
Как привольно мы живем,
Что в гробах покойники!
Мы с женой в комоде спим,
Теща в рукомойнике.
– Аня, вам надо бежать, – пропищал Колчак. – Скоро здесь будут они.
Но Анне не было страшно! Она выросла в артистической и казачьей среде – на смерть смотрела без ужаса. Да. Время от времени это бывает. Более того, со всеми. Так стоит ли сокрушаться по этому поводу, с таким трагическим надрывом.
– Я с вами, Александр Васильевич, – успокоила она. И уже обнимала его, как индийское божество Шива: и левой рукой, и правой, и даже коленкой чуть-чуть. Столкнулись носами, будто боясь обжечься, поколдовали друг перед другом и сошлись в поцелуе, и язык Аннушки уже спорил за место. Он не спал больше тридцати часов, но Анна, наверное, смогла бы и из гроба поднять Колчака.
– Как редко мы видимся, – горячо выдохнул ей в ухо.
– Мы не принадлежим себе, – ответила умная Анна.
Борбоська при виде пьющих что-то друг из друга людей насторожился: кусаются? Суетно переступил, щелкая когтями по голубому кафелю, сел на хвост.
В коридоре послышались шаги – и песик имел такт предупредить хозяина голосом.
Вошел адъютант, сказал, что все готово.
– Ордена взяли?
– Да.
И вдруг больно-больно сдавило в груди, качнулась, чтоб схватить, прикипеть, не пускать Колчака! И добрейший, давно привыкший к ней пес, зарычал, дернулся вперед, чтоб защитить любимого хозяина.
– Цыть! – топнул адмирал. Песик виновато, с опущенной головой и хвостом, виляющей походкой вернулся к двери, покрутился и лег. – Блохастый! – мягко упрекнул хозяин, – вот только вы у меня и есть.
ГЛАВА 3
Привычно поворачивала ткань, толкала под лапку. Машина стрекотала, иголка сверкала-торопилась, оставляя ровную стежку. Механически обкусывала нить, меняла шпульку, а мысли порхали вольной пташкой то в благословенном краю юга, то по скверам и паркам Ревеля, Москвы. Вставали лица знакомых, родных… Володя! И тут замирало материнское сердце.
– Больно, Анна Васильевна? – свела сочувственно брови Алиса.
– Ой, нет, как на собаке зажило! – повертела в воздухе пальцами.
Прозвенел звонок на обед. Многие работали не столько из-за зарплаты – а ради обеда! Мастер наладил какую-то связь с рыбной артелью, и на обед подавали роскошную, с толстым слоем жира, стерляжью уху! Такой ухи Анна, кажется, и в самые благополучные годы не пробовала. С картошкой, заправлена крупно нарезанным репчатым луком. Самой рыбы, правда, почти не попадалось. Да ведь в стерляжьей ухе главное – юшка! А еще, нет-нет да и перепадет хрящ! Голова с мозгом. Но всякий раз, как выпадал такой роскошный обед, к животной радости примешивалась горечь: как же там Володя? Большенький уж. Ему питаться надо. Ну да Бог даст, выкрутятся. Это в голодном Петербурге выдавали по карточкам пятьдесят грамм хлеба.
– Что-то случилось? – подала стакан мучного киселя княжна.
Анна такой слизистый кисель и видеть не могла.
На улице что-то переменилось. В первую минуту, ничего не понимая, смотрела на длинные здания лабазов, на купеческие особняки – снег! Редкий. Тихий. Снежинки, порхая, крутились, как живые, замирали, парили на месте, медленно поднимались и вдруг, обгоняя друг дружку, косо летели к земле, беззвучно пропадали в черном зеркале луж.
И тут, будто из воздуха, явился человек. По виду обыватель.
– Анна Васильевна? – выговорил негромко. – Тимирева?
Анна не любила, когда называли этой фамилией.
– Что вам? – умела быть холодной до высокомерия.
– Депеша, – оглянулся по сторонам, протянул почтовую карточку. Шуточная. С отрывным купоном «достоинством в 100 поцелуев». И узнала почерк Сергея. Сердце екнуло и застучало. – Что это со мной? – оскорбилась она. Как и каждый бы на ее месте, в крушении семьи винила мужа! Он оказался «не то», оказался «ошибкой».
«Аннушка, я в Шанхае. Только и мечтаю о встрече с тобой и Вовиком. Боюсь, в России жить будет невозможно еще лет пять, а то и с хвостиком. Жду вас, ненаглядные мои! Жду и люблю».
Анне показалось неуместно легкомысленным и содержание, и сама открытка с фальшивым купоном «на сто поцелуев». Впрочем, на него это похоже! На всю жизнь так и остался пятнадцатилетним мальчишкой. Анна не принимала в расчет, что этот «мальчишка» имел чин контр-адмирала и золотое оружие «за храбрость».
– Ответ будет? – напомнил о себе курьер. «Надо ему заплатить», – и, стараясь не потревожить палец, поползла в карман.
– Из Шанхая?
– Из Владивостока. Сергей Николаевич прибыл по делам фирмы.
– Так вы из Владивостока?
Мужчина усмехнулся и покачал головой.
– Мне передали. Из надежных рук.
«Шпик!» мелькнуло в голове. Осмотрела его потрепанную тужурку.
– Конспирация, – выговорил незнакомец с прононсом. Да, это был офицер. Строевую выправку партикулярным платьем не прикроешь. Резким военным полупоклоном дернулся и растворился в завесе густо повалившего снега. Что за человек? Опять попытка добраться до Колчака? Через любовницу!
Снег сыпал на бугристый камень мостовой, на головы прохожих, и уже выбелил пологие крыши лабазов. Зазвенели часики – пора в цех!
Бесконечно мелькала иголка, шелестело, хрустело полотно, гудели моторы. Говорят, в Америке изобрели машину, что пришивает пуговицы! Самое гениальное изобретение! Мелькнет иголка на долю секунды, успеет зацепить нитку, сделать какую-то петельку! Полотно наплывает, морщится. Собирается белыми волнами. Отгребешь в сторону, а тут шов – лапка подскочит – палец так и норовит скользнуть под иголку – и даже по спине мороз, и передернет всю.
– Знакомый приходил? – подкараулила минутку тишины Алиса. Анна покосилась: уж не из военного ли контроля ты, голубушка?
– Сапожник. Сказал, что подметки готовы. Спиртовые.
Княжна, понимая, что не доверяют, слабо улыбнулась. А Анна извинилась внезапным экспромтом:
– Стучит машина «Зингер»,
Пробила Ане «фингер» (палец).
Стонет, как корова,
«Геноссе» (товарищ) Тимирева.
Алиса дернулась и закатилась таким веселым хохотом, что и другие работницы оставили шитье, смотрели, чуть ли ни с завистью: чему так развеселилась княжна? Но недолго царило веселье. У гладильного стола вдруг засуетились, сбились в кучу.
Графиня Олсуфьева упала в голодный обморок. Да еще и банку разбила. Обеденную похлебку она сливала в банку, и относила маленькой дочке, в землянку Копай-города.
У всех свое горе, у всех своя печаль.
* * *
Иногда ходили в электротеатр.
Снежок таял, и над дорогой маячил чуть заметный туман. А на крышах снег – белый предвестник зимы. И руки зябли. И ветер какой-то непостоянный: то оттуда дунет, то с другой стороны, то забежит, в спину толкнет.
По Атаманской, с винтовками, при примкнутых штыках, рубили каблуками брусчатку, уходили на фронт гренадеры. Женщины махали вслед. Одна и та же картина шесть лет. И не видно конца-краю. Иногда нападало полное безразличие. Отчаяние. Хоть бы как-то кончилось это безумие. Хоть бы какой-то выход, хоть какой-то порядок. Суворовский марш истончался, растаял в сыром холодном воздухе – ушел еще один полк на ратный подвиг. Спаси, сохрани его, Господи.
В цехе выдали жалование – подмывало закутить!
Здесь, в фойе, совершалось небывалое чудо: продавали мороженое! Стоило оно целое состояние – но все-таки взяли с княжной! Одно на двоих.
А, совсем рядом, за стеной, волнующее пространство просмотрового зала. Оттуда волшебный резкий запах клея. И, как рокот моря, – вздохи, смех толпы. Анне не раз говорили, что по ней плачет кинематограф, что, пожелай, – и стала бы знаменитой, как Вера Холодная!
Донесся скрип стульев, шаркающий топот – зрители покидали иллюзион. Княжна Алиса осторожно, как кошечка, кушала мороженое. Отличное! Взбитое, на сливках. Шагнули в зал. Там запах бедности и потуги на дешевенький шик.
Расселись по скрипучим «венским» стульям. Электричество погасло. Княжна на секунду схватила и пожала руку Анны – так не терпелось увидеть ей фильму! Затрещал аппарат, темный зал прорезали грани луча, высветило облачко дыма – по белому квадрату экрана побежала жизнь прежняя: роскошная, красивая! И обмирает душа при виде Государя. Идет, пожимает руки бойцам. Уж давно мертвый, расстрелянный. Алексей в матросской форме – живой и невредимый. Хлыстиком машет, и собачка вьется, скачет, лает от радости. Как же на Володю похож! Господи! И другие дамы в зале задышали глубоко, потаенно, полезли за платочком. Прощай, счастливое время! Прощай, Родина! И сморкался в темноте просмотрового зала сброшенный с корабля истории, недобитый класс. Княжна Алиса сидела неподвижно. Она прощалась со своей юностью ожесточенно, без слез.
Поначалу Анна внимания не обратила: сидит синеблузник – да и пусть. Но что-то его, нет-нет, да и качнет: клонится-клонится и прижмется плечом. Отодвинулась раз, другой.
– Что это с тобой, гражданин? – вдруг закипело и выплеснулось.
– Не нравлюсь, барышня?
Анна передернулась и замерла, продолжая смотреть на экран.
– А то, может, познакомимся? – наклонился к самому уху.
– Обсоси гвоздок! – на весь зал прозвенела любимая женщина Верховного правителя России – и все! Фабричный стушевался. Только прошипел себе под нос: «в перчатках!» Княжна Кызласова беззвучно хохотала и не могла остановиться.
На другой день в пошивочном цеху, кто бы что кому ни сказал – в ответ легко и романтично летело: «Обсоси гвоздок!»
…Вера Холодная, расставаясь с женихом, закатывала под лоб свои томные глаза, прижимала руки к груди. Все это было бы трогательно, если бы хохлушка на переднем ряду не пропела в приступе обожания: «Вера Голодная!» И стон ее восторга зал охотно подхватил, и несколько раз в самых душещипательных местах хрипело то сбоку, то сзади: «Вера голодная!»