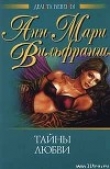Текст книги "Сестра милосердия"
Автор книги: Николай Шадрин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА 4
Грабеж в городе стоял жуткий. То свои злодеи, то чехи – то и гляди, что останешься без кошелька. Но все-таки не боялась делать променад. Смелости добавлял небольшой подарок Колчака – браунинг. В человека стрелять, конечно, не решилась бы, но в воздух для острастки – почему бы и нет! Странно и любопытно было бродить у крепости по Бутырскому форштадту. Когда-то здесь трудился автор «Идиота». Мял глину, делал кирпичи. Двести штук в день. И вглядывалась в кирпичные фундаменты почерневших от времени домов, будто можно было отыскать дактилоскопический отпечаток Достоевского.
Впереди церковушка. Без звона. Молчит. Скобрящей Божьей Матери. Не двуглавых орлов надо на герб, а ее, заступницу и печальницу несчастнейшего из народов.
И будто в подтверждение черной мысли, во дворе, за тесовым забором вдруг грубо, душераздирающе закричали, ударил выстрел – воротца распахнулись, и человек, весь в крови, бросился на Анну! Раз за разом прогремело – и, распахнув руки, как на объятия, пьяно повалился на колени, задергался-задергался и стих. Солдат, выкрикивая ругательства, засовывал наган в кобуру и дикими, налитыми кровью глазами, смотрел на Анну, будто решая, не пустить ли в расход и ее.
Минута оцепенения миновала, Анна твердо, прямо прошла мимо вылупившегося на нее солдата полковника «Урода». Что он сделал? Зачем? Что произошло? Через какое-то время испуг уже выходил крупной, лихорадочной дрожью, ноги подсекались так, что невозможно идти. Опустилась на лавочку. Колотило – зуб на зуб не попадал. И как грубо кричал ругательство солдат: «Fuck you!» Зачем они здесь? Сидела на ледяной скамейке посереди Омска, не зная, куда бежать, где скрыться от обступившей беды. Когда закрывала глаза – с фотографической точностью вставало бледное, залитое кровью лицо. «Мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час»!
Опять посыпал снег. Сгущались сумерки.
И потом всю ночь вздрагивала на железной своей кровати. Хозяйка даже обеспокоилась: не в тифу ли квартирантка? Но человек привыкает ко всему. На следующий день ужасная картина убийства отошла на задний план, стушевалась.
* * *
– Хто тама? – прокричала бабка из сеней.
– Адмиральша стучит, открывайте!
Брякнул засов, и Анна ступила в непроглядную тьму. Вкусно пахнуло солеными огурцами, грибами, укропом. Пригибаясь под притолоку, нырнули в тускло освещенную избу.
– Старика нету, – обтерла ладонью уголки рта. – Че-то видно задержало. – На мгновение замерла, прислушиваясь к звукам на улице.
Анна прошла к себе в комнату. Переоделась, отстегнула и скатала с ног чулки, осмотрела на растопыренных пальцах: нет ли дырок? Вернулась в столовую. Умылась. Все теперь другое, даже мыло жидкое. Поначалу было странно – но привыкли и к этому.
Кадка, полная воды. Набрала кувшин, поставила на злобно зашипевшую плиту, чтоб попозже устроить постирушку. Из русской печки сочился, сводил с ума густой запах наваристых щей.
Сели у стола, украдкой сглатывали слюнки, ждали старика.
– Плуги кует?
– Гайки режет. – И опять тишина: ни ветер не прошелестит, ни матица не треснет. Только слышно: вздыхает семилинейная лампа. Моргнет, затрепещет, вытянется огонек золотым наконечником, зачадит и опять успокоится.
– Че же?
Анна встрепенулась, думала, баба Нюра предлагает сесть есть, не дожидаясь хозяина – но нет, взяла пухлую колоду, обстучала мягкие края, раскидала по шесть листиков на подкидного дурака, подрезала колоду. Вяло, чтоб только время убить, бросали невесомые карты. К концу игры захватил азарт, даже поспорили немножко. Анна Васильевна уж трижды осталась в дураках – а деда все не слышно.
– Да что же это такое? Вот ударник-то выискался! – И старушка припадала щекой к черному окну, слушала. Мало ли что может случиться. Долго ждали. Выходили во двор и на улицу – нет деда! Не видать и не слыхать. И опять вернулись в избу, бабка трижды протянула колоду под колено и через дверную ручку, чтобы снять с них суетную греховность, и можно было бы гадать. Беззвучно шевеля губами, расстилала: «Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится?» Выпадали «пустые хлопоты», «удар» и «казенный дом». Может, милиция забрала старика?
– Ну, куда он мог деваться? – И уже искры зла из глаз. И в пропаже деда виноват, конечно, Колчак! Того, убитого, тоже поставят в вину ему. Зачем вернулись из Японии? Прав Сергей Николаевич, в России жить невозможно.
Но вот хлопнули ворота! Забубнили голоса…
– Старик! – Счастливо просияла старушка, и, как Наташа Ростова на грудь Болконского, метнулась в провонявшие капустой сенцы, навстречу с ненаглядным дедом. Там грохот и пьяные голоса: «О!» «Бляха!» «О-о!» Ввалились в избу. Дед и с ним рабочий. Молодой. Трезвый. Только глаза блестят. Перед собой, как букет цветов, держал бутылку «мутненькой».
– Это че тако?! – даже притопнула сердитая старушка. – Это че же?
– Старуха! Жарь глазунню!
Анна хорошо знала Ханжина, Дитерихса, других генералов – но ни один из них не умел нагнать на себя столько величия и важности после самой блестящей победы. Дед стоял посреди прихожей, как окончательный и полный завоеватель. Чингисхан!
– Не ругайся, старуха!
– Ой, да не ругаюсь я! – мученически стонала та. – Ты погляди-ка, сколь грязищи натащили!
– Старуха! – ревел вполне счастливым голосом. – Я купца привел! – Старушка так и поперхнулась. – А у нас товар!
– А ба! – обомлела баба Нюра, – да ты не спятил ли? – а уже и самой-то весело до озорства.
И даже «товар» с задорным любопытством смотрел на «купца».
Как-то, по осени еще, привез он на телеге кули с картошкой, свеклу, редьку. И перебросились тогда несколькими словами, она пошутила что-то насчет крестьянской жизни – и поди-ка ты! Победила сердце молодца. Краснеет, глаза боится поднять. Конфузится. Так бы и расцеловала этого свежего, как курское яблочко, суженого.
То, что дед собрался делать, называлось «запой». Предварительная выпивка перед помолвкой и свадьбой. Комедия! Анна выросла в богеме, любила атмосферу безалаберности и веселья. И на свалившееся сватовство смотрела как на шутку, на игру.
Она редко бывала в дурном настроении. Все ее радовало! Проснется, увидит солнышко в щелку – так и просияет на встречу языческому божеству! Спаситель заповедал нам любить этот мир! Никакого греха в этом нет. И каждый с удивлением видел в ней эту потаенную радость. Наверное, в этом и крылось ее редкое очарование. И фабричный жених, поначалу смущавшийся, пришел в состояние восторга при виде ответного интереса со стороны «гражданки Тимиревой». То есть так же краснел и смущался, но уже смелее озирался вокруг и даже, кажется, готовился что-то сказать.
Старушка в самое короткое время «сгоношила на стол». Соленье, глазунья и каленые щи. Чем горячей, тем лучше: выпьешь на копейку, а опьянеешь на целковый! Расселись. Налили в мальцевские стаканы «мутненькой». Вот бы удивился Верховный правитель империи, если бы увидел, как его любимая жена хлещет самогон в сомнительной компании! Старый плут хозяин тоже играл взглядом – и выражение лица скабрезное. Но не оскорбляло это Анну! Только подливало масла в огонь! И парень млел, сгорал, как мотылек, в живом пламени ее огненных глаз. И грудь распирало отвагой!
– Ну дак че же? – блестела глазами баба Нюра. – Будем знакомые? – и за каждым словом какой-то потаенный, не вполне приличный смысл. Но прямо никто ничего не говорил – всё еще только лукаво подразумевалось. И разговор зашел о каком-то полене, которое одно в поле не горит, а два – уже костер на всю ночь. Нодья!
– Хоть худой мужичок – а притульишко, за мужика завалюсь и ничего не боюсь! – расписывала прелести супружеской жизни старушка. И Анне Васильевне уже почти верилось, что вот идет за этого молодого, свежего «обрезчика» с омского завода. Не то, чтобы позабыла всю свою прежнюю жизнь, а так… стих игривости напал.
– Ты не гляди! – гудел дед, – что, может, не гренадерского росту – он одной рукой три пуда выжимат.
Силач при этом так разволновался, что только всхлипывал да рывками тянул в себя воздух, и уже озирался в поиске: что бы такое поднять?
– За таким, как за каменной стеной! – лебезила остроносая старушка. – Со спины любая полюбит!
Анну Васильевну хвалить еще не решались. Робели. Благородная…Кто их знает, как там у них.
Хлопнули самогонки – ударило в голову, и еще больше развязались языки. Старушка вскочила, убежала на кухню, а как вернулась, села на другое место – и Анна оказалась рядом с женихом. Его как-то назвали еще в начале застолья: не то Иван Акимыч, не то наоборот.
– А вот вы – сколько пудов? – подступал нареченный вплотную, и глаза горят, как плошки – вот схватит, вскинет под потолок. Анна оглянулась в поисках путей спасения. Старики так и покатились с хохота. А Аким все ближе, и уже руки от азарта потирал. Анна поднялась, встала так, чтоб между нею и Акимом что-нибудь было: стол, старик или табурет.
– Да вы чё засуетились-то? – призвал к порядку дед, – давайте закусывайте! Грибки-то так в рот и просятся!
Разлили по второй.
– Маленькая бутылка попалась – кончилась! – поцеловал ее в донышко старик.
– Ничего! Скоро власть сменится – заживем на всю ивановскую! – пообещал обрезчик плужного завода.
Бабушка делала себе «красненькое» – размешивала в самогонке варенье. У Анны Васильевны почему-то упало настроение – свой стаканчик отодвинула. Это повергло всех в недоумение.
– Дерни, Аня! – прогудел Аким. А хозяин даже пропел что-то вроде: «Выпьем тут, выпьем тут – на том свете не дадут!»
– Ну, а если и дадут, дак выпьем там и выпьем тут! – подхватила старушка, и опять все перечокались, и каждый выцедил свою долю. Мужики крякнули и закусили.
– А вапше-то, может быть! – молвил дед глубокомысленно. Покосился на Акима. – Гляди, ишо губернатором станет!
Аким расплылся в ухмылке.
– Комиссар! – продолжал представление дед, – Послушали бы, как он…
Аким имел силы нахмуриться, толкнул старика коленом.
– Как он говорит иногда! – покрутил дед в воздухе корявыми пальцами. – Заслушаешься!
– Сибирский соловей, – подъелдыкнула старушка. Анна знала, что это за соловей, – ворона! И вспомнилось, что когда-то, в детстве, умела свистать соловьем. От выпитой ли сивухи, от воспоминания ли счастливого детства, подобралась, вытянулась шеей, «щелкнула» раз, другой и засвистала!
– Ой! И так денег ни лешего нету! – замахала на нее старуха руками – все засмеялись и притихли на минутку, будто тоже отлетели душой в счастливые весенние дни. Душа не может долго томиться буднями – праздник ей подавай! С песней и плясом. И много ли выпили? Поллитровку на четверых – а «и руки, и ноги опустились». И крик! И хохот – как в курятнике! И баба Нюра лезет с поцелуем и кричит: «Совет да любовь!»
– Какой «совет», Анна Кузьмовна? У меня ребенку шесть лет!
– Знаю! – раздольно, от пупка, прокричал обрезчик, – усыновлю! И выкормлю! Да ишо и новых настрогаем! – Лицом побледнел, а глаза, как у волка! И видно, вправду, не шуточно ранен нежностью к Анне. А что как судьба? Мало ли бывало. И тот-то, Александр-то Васильевич – тоже слесарному делу учился. На роду написано: за слесаря пойти! – мелькали шальные, забубенные мысли.
Анна думала, что поразила сердце Акима своим не здешним видом, но она ошибалась. Больше всего запал в душу ее веселый, легкий нрав. С такой-то женой – вся жизнь обернется праздником! Да и в работе резва! Тогда палец у нее еще не болел, жалея старичков, таскала кули с телеги к погребице. А внешний вид – это на любителя. «Красу не лизать!» – говорит народная пословица, то есть главное, чтоб была работящей.
Дед со старушкой припомнили свои молодые года – в радость им неожиданное это застолье! Кот тоже вился под ногами, постанывал, выпрашивал, горел сатанински глазами. За столом не до него! Отбрыкнулся ногой один, другой – и поплелся кот на печку, греть старые бока.
– Не-е, погоди, – до поту раскраснелся лицом молодой. – Лемешок, он тоже нужен! Это если ты в одно дышло пашешь – то да! А если у тебя жеребец копытом землю роет, да не один, а пара гнедых! И десятин у тебя – с сотню!
– Да где, у черта в воде, сотня?
– Не скажи! – и видно было, что жених стоит на стороне крупного землевладения. Как и Александр Васильевич, кстати.
– Тут блок нужен! – хозяйски хлопнул в стол.
– А вот Блок! – надоела Тимиревой тема земледелия. – Я его хорошо знаю!
За столом немо воззрились: откуда она знает плужное производство? На слесаря мало похожа.
– Блок, Александр Александрович! Поэт.
– А-а, – отмахнулась бабка. – Пушкин!
Мужики, ничего не понимая, смотрели пытливо, даже пожалуй, враждебно: что за блок «Пушкин»?
Анна Васильевна уж и поняла, что не туда заехала с разговором – но нахлынули воспоминанья! Увидела себя, как в зеркале: в бальном платье, в перчатках до локтей, и на голове – райская птичка с двумя перышками. И Блок! Голубоглазый, в сиянии ореола волос! И уже читала, что знали тогда обе столицы наизусть:
Каждый вечер в час назначенный,
Или это только снится мне!
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
Застолье смотрело на нее, как на шамана, ничего не понимая, со страхом. «Зря так много наливали, – пожалела квартирантку бабуля, – повело как бедную». А Анна летела на волнах ностальгии, заражаясь восторгом поэзии – и голос звонкий, колокольный:
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна,
– и здесь голос дрогнул – она поняла, на что намекал ей Александр Александрович! Тогда, на балу! Ну, конечно же, «Прекрасная незнакомка» – это не Менделеева – а она! Анна! И дальше прямо про бабушку из Кисловодска:
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука!
– В горле вдруг что-то перекрыло – и оцепенела, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть.
– Это стихи, – выговорил начитанный дед.
И молчали целую минуту, переваривая и не зная, как относиться к этой странной выходке квартирантки. Анна пришла в себя, и уж неудобно становилось за свою декламацию.
– Старуха, давай! – вдруг решился хозяин. – Давай! – мятежное сердце его разгорелось, требовало продолжения праздника. Он знал, у бабки припрятано лекарство «ото всех болезней» – на спирту.
– Кого «давай»? – приобрела самое простоватое выражение лица.
– Нюр-ра! – раскатил грозно голос старик. – Давай!
Старушка в детском недоумении пожала плечами, светло взглянула на Анну и Акима: чего это втемяшилось деду?
– Нюр-ра! – пристукнул черным, от общения с металлом, кулаком. – А то…
Баба Нюра только капризно передернулась. Молодой молчал, недвижно уставившись взглядом в вазочку с вареньем. Чуть-чуть улыбался.
Анне становилось неловко. Может, теперь, после пережитого воспоминанья прежних дней, особенно дико было сознавать себя в окружении этих персонажей? Это что же с нами вытворяет судьба, как умеет переломить через колено.
– Я прежде не пила самогонки, – выговорила звучным, благородного тембра голосом. И царственно повернула чуть опушенный персиковым пушком подбородок. Да, сегодня она была совсем другой, не похожей на ту расторопную деваху, что таскала через двор на загорбке кули. Все-таки барыня… но как хороша! Никогда в жизни не встречал Аким такой красивой. Вон, оказывается, какими бывают они!
– У тебя ребенок?
– Да, – отозвалась с тем же оттенком высокомерия, – сын.
Аким одеревенел, всего его начинало тихонько трясти. Будто закипал всей кровью – и уж должно было что-то случиться. Он смотрел и не шевелился. Старички робко притихли, чего-то ждали. Посередине стола лампа – чуть шевельнешься – так и метнется громадная, как бурый медведь, тень по стене. И кот светит взглядом. И вздыхают, поскрипывают ставни – ветер поднялся.
– Я видела, как человека убили, – сказала, когда молчать стало невмочь. Бабушка на вздохе прошептала краткую молитву. У молодого на скулах взбугрились желваки. И Анна, будто по газетке прочитала его мысль: возьмем власть – настанет полный порядок! Точно так же думал Александр Васильевич, когда брал власть в свои руки. А ветер крепчает – нет-нет, да и хлопнет ставнем. Каково-то в чистом поле егерям?
Деду свело губы гримасой сожаления – безразлично смотрел в пустой стакан. Оказывается, был любителем, охотником до зелья – а ведь не заметно, что б… Бабушка, желая вывести супруга из тоски, поделилась горьким наблюденьем. Она подторговывала ковыльными кистями, и, если в прежние месяцы брали нарасхват – шел ремонт в конторах – то теперь не нужны стали кисти!
– Сдадут город.
Аким, не видать, чтобы обрадовался. Кто знает, что за завоеватель придет, какие порядки установит? Как отнесется к обывателю. Шибко уж долго терпели они здесь Колчака.
– Давай, старуха! – сказал дед так серьезно и решительно, что та только вздохнула и отправилась в комнату. Там, «в гардеропе», хранилось драгоценное питье. Вернулась, держа в руках, и уже не ругалась, а только продолжила невеселое течение мысли:
– Так выйдешь на базар – и застрелют. И поминай, как Филькой звали.
Мужиков такая перспектива не пугала – залоснились в свете лампы, глаза сузились в черную ниточку с алмазной искрой. Дерябнуть лекарства «ото всех болезней» – и живи себе, да в ус не дуй. Никакой англичанин не страшен!
Вторую бутылку разливали осторожно: не известно, что там намешано. Оно же наружного применения. От радикулита. Женщины пить отказались. Мужики, будто совершая героический поступок, «опрокинули на лоб». Какую-то минуту прислушивались. Но напряженно застывшие лица одновременно порозовели и расплылись в блаженной улыбке: хор-ро-шо!
– Маленько обожгло! – потыкал себе в живот молодой.
– Шибат, язва! – кивнул дед.
Анна понимала, что никакой язвы у них нет – это любимое слово всех сибиряков. Бабушка, на принесенный Аней паек, ударила себя ладонью по ляжке и воскликнула в восторге: «О, будь ты проклята!» Анна очень удивилась. И только потом поняла, что это была особенная ей похвала и благодарность.
Мужики закусили и опять заговорили о лемехе, отвалах и дышле; и показывали пальцами и ладонью этот самый лемех и зубец. И Анна, не то чтобы любовалась Акимом, но невольно засматривалась. На неторопливые точные движения рук, на миловидное лицо, на волнисто кудрявую голову. Все-таки Александр Васильевич на двадцать лет старше. Да и изувечен, простужен до косточек во льдах студеного Таймыра. Давно уж беззубый. И к тому же в последние полгода как-то очень охладел к «возлюбленной сердца своего». И не Анна – а природа в ней так интересовалась этим милым, свежим, как яблочко, сибирским пареньком. И шаловливо крутилась, порхала ложечка в ее музыкальных пальцах, и уж хотелось сыграть на рояле или хоть спеть, если нет инструмента.
Баба Нюра поставила чай кипятить. Самовар у старичков томпаковый, и кипятили на сосновых шишечках – аромат на всю избу! Будто в лесу, у костерка. Старички, незаметно, будто по делам, удалились в другую комнатку и притихли. Молодые тоже присмирели. Аким наливался свекольным румянцем, рука на столе, забывшись, сминала скатерку в горсти. «Э-э, да тут страсть, – окончательно отрезвела „невеста“. – Митя Карамазов притаился».
– Ты здешний?
Аким чуть дрогнул, очнувшись, длинно посмотрел ей в лицо, наконец, смысл вопроса дошел – замотал головой, и даже взмыкнул, совсем, как бычок. Анна засмеялась. Между ними устанавливалось какое-то тяжелое, вязкое, магнетическое поле. Оба были несвободны в движениях. Сковывало. Они еще не осознавали того, что их тянет друг к другу, что и говорить-то ничего не надо. Старички это поняли и потому устранились.
– Ты учительница? – просипел он, – Или, может, графиня?
Анна смотрела игриво и свысока. Она прекрасно понимала, что ровным счетом ничего из этого не получится. Но он был такой славный. И пахло-то от него зимней свежестью и мазутом. То есть, конечно, в общественном отношении в сравнении с Колчаком – абсолютный нуль. Таракан и моль. Но и моль, оказывается, бывает очень даже славной бабочкой. Особенно когда истомишься бесконечной сибирской зимой по красному лету.
– Так что? Учительница?
– Н-нет, я не учительница.
– Графиня, – упал голосом Аким, – или даже, может, княжна?
– Не любишь княжон?
– Не люблю! – а взгляд пристальный, сосущий. – Княгинь в Екатеринбурге в подвале шпокнули, – и усмехнулся плотоядно, мол, будь моя воля, я бы их всех на одной веревочке удавил. И ноздри трепещут, а глаза, как у кота в темную ночь. – Да вы не бойтеся.
Анна должна бы была оскорбиться, закатить пощечину хаму – но нет.
– А я и не думала бояться! – пошевелилась свободно и гордо. – Было бы кого! – кровь деда – казачьего генерала – частенько давала себя знать.
Аким замолчал, сопел, смотрел, не отрываясь. А Анне не страшно и не весело уж, а как-то вполне безразлично. Повернула кран, налила в стакан чаю, душистого, вишневого – в свете керосиновой лампы. Аким, как бывает мужики во сне, протяжно, деревянным звуком заскрипел зубами. Анна взглянула удивленно: что это с тобой, любезный? Любезный испепелил ее черным огнем плотоядного взгляда.
Да, с таким ухажером наедине оставаться никак нельзя. Корсиканская страсть. То и гляди, что зарежет. Инфернальный попался жених. Разговор не клеился. И атмосфера напряжена. Разного поля ягоды. Или, наоборот, очень похожи? Ведь не графиня же, в конце концов, Анна Тимирева.
Аким, может, и хотел как-то заинтересовать барышню, поговорить по душам – она то не ответит, то ответит невпопад. Кот урчал, чем-то хищно хрустел на зубах. Анна шагнула к нему – быстренько похватал рассыпавшиеся крошки, боясь, как бы квартирантка не отобрала.
– Кот – это символ сладострастия, – искоса взглянула она, – это я тебе как учительница говорю.
И вдруг лампа замигала, замигала, пламя потускнело, вытянулось длинным бордовым языком, затрепетало – и все провалилось в черную ночь! Да что же это? Чертовщина какая-то! Оглушено замерли, ожидая, не загорится ли опять. Старики, как воды в рот набрали. И кот растворился во тьме. Щелкнула половица. Что-то тяжело пошевелилось. Двинулось и опять треснуло. И тут, как дуновение ветра, невесомо приласкалось к ноге – Анна онемела в ужасе, и уж замахнулась на самый решительный удар, и – поняла. Кот! Скользнул своим пушистым боком от шеи до кончика хвоста.
И опять щелчок половицы!
– Баба Нюра, у нас свет погас, – обыденным голосом сказала она. В ответ тишина… Почему-то становилось страшно. Но тут же и мелькнуло: «une vie sans passions ressemble a la mort» (жизнь без страстей подобна смерти). И уж вот оно, дыхание, и где-то рядом невидимо шарит рука.
– Что-то потерял, Аким? Тебе посветить? – в народе принято говорить друг другу «ты», но «ты» Анны Васильевны имело какой-то тоненький оттенок, ставящий железного обрезчика на положение лакея. И это не могло не коробить его. Засопел, как самогонный аппарат. И тут пронзительно, на режущей ноте, заверещало и загремело в темноте – наступил неловко коту на хвост.
Анна хохотала в полный голос.
– А че это у вас темно? – лицемерно удивилась невидимая бабка, и уж гремела спичками в коробке. – Надо зажечь, че же блукать-то?
– Может, не надо? – расхрабрилась «графиня», – посумерничаем. – непроглядная тьма ответила могильной тишиной. – Так-то уютней будет. Не правда ли, Аким?
Тот, может, и хотел что-то ответить, но только закашлялся. И, вторя ему, разразился трескучим, рвущим грудь кашлем, дед.
– Как мило, – все не переставала шутить квартирантка, – чисто в аду. И серой пахнет. Не чувствуете? – от погасшей лампы действительно подносило чадом. Бабка все гремела коробкой, засветить лампу не спешила. Будто выжидала чего.
– Вот только котишке хвост отдавили, – тонко взгрустнула невеста.
Дед откашлялся – и опять тишина. И вдруг диким, животным, кудахтающим хохотом взорвалась старушка.
– Што такое?
– Котишка, – ответила баба Нюра степенно, – шчекочет. – и опять не удержалась от клекотного хохота.
– Зажигайте уж свет! – прогудел хозяин недовольно.
– Счас, счас, – заторопилась старушка, однако спичку зажечь не решалась.
– Да скоро ли вы там?! – уже шарил дед руками по печке, подвигаясь в столовую.
– Зажигаю я!
Треснуло, спичка зашипела и взорвалась пучком света. Про эти спички говорили: три минуты вонь, а потом огонь. Аня ловко сняла стекло, баба Нюра подкрутила, засветила и убавила фитиль. Насадили стекло – и лампа воссияла. И все посветлели лицом на этот свет. Даже дед раздвинул улыбкой рыжий веник бороды. В пузатой бутылке еще плескалось пальца на три «жизни». Дед и потер, было, ладонь о ладонь, но старушка сцапала сулейку и быстренько унесла в заднюю комнату.
– Чай! Чай! Чай пейте! – Зачастила, как швейная машинка, – зима придет – опять засдыхаешь – чем тогда лечить?
Дед, скривив свой волосатый рот, смотрел на Акима. Тот чуть поморщился, мол, хватит, не спорь! Дед вздохнул на всю комнату. Самовар сиял боками, чуть слышно щелкал, остывая. Анна Васильевна принялась разливать. Когда-то она любила это милое занятие. Еще в семье. И, пожалуй, могла бы работать официанткой. В ресторане «Зеленый попугай».
Чай горячий. Пили шумно. Аким хитро посматривал на Аню. Баба Нюра с таким же интересом следила за обоими. Дед загрустил. Кот вылизывался: и здесь, и там, и везде. По печке стремительно пробегали осмелевшие к ночи таракашки. Бабуля воевала с ними: запаривала ботву и ставила на русскую печь – тараканы, обрадовавшись, набивались туда битком – и старушка вероломно выносила таз на мороз.
Такую же тактику, кажется, собирались применить большевики. В теплый Омск под завязку набилось прекрасно воспитанных, образованных «бывших», и скоро уж невидимая бабка должна была выбросить их в чисто поле на клящий мороз.
После выпитого ото всех болезней лекарства в жарко натопленной избе да с горячего чая – ударило в обливной пот. Дед утирался рушником. Аким ладонью, Анна Васильевна, конечно, платком.
И опять согрешила, подумала, насколько все-таки жизнь простого фабричного приятней во всех отношениях беспокойной жизни адмирала. Не рвется, как картонка, под тобой стальная палуба, не лопаются барабанные перепонки от орудийного грохота, не встает на попа изба, не уходит торчком в землю. Тишь и гладь и божья благодать. Да и стол-то не беднее будет… И почему это самые умные, смелые мужчины выбирают себе такую профессию? Во имя чего гибнуть во цвете лет. Из-за орденов? Да ведь не стоят теперь ордена ничего! А они, стиснув зубы, встают против свинцовой метелицы – и ложатся. Снежными холмиками. Во имя чего?
Очнулась от тишины. Все, припухнув, смотрели на нее, как на привидение. Что это с Анькой? – было написано морщинами на старом лице бабы Ани. Анна Васильевна вздохнула и поморгала глазами, прося не судить за рассеянность. Время такое. Поневоле задумаешься.
– Бывает, – улыбка ее никого не оставляла равнодушным! Все невольно просияли, будто солнечный зайчик согрел грудь каждого из них. Сидели, мило смотрели друг на дружку и прихлебывали чай-кипрей. Весело шумел, потрескивал металлическим нутром самовар – весь в медалях, как атаман Платов.
– Царя пережили, белых пережили, Бог даст, и большевиков переживем, – мечтательно вздохнула старушка. Анну Васильевну с ее «абмиралом» давно уж не опасались.
– Еще заживем! – пообещал Аким. – У них Троцкий, Яков Свердлов – все евреи!
– А че же, они шибко хорошие, ли што ли?
– Да уж получше Колчака! – так и залоснился весь в предчувствии новой, умной власти.
– Поглядим, – выговорил дед безразлично. Сыновей прежние власти выбрали всех, самого, гляди, с завода еще пяток лет не выгонят – Бог не выдаст, свинья не съест.
Кот сверкал с пола яркими звездами зеленых глаз. Самовар щелкал все реже и уж больше не шумел.
И вдруг – будто молотком по затылку, и бросило в жар. Сердце подскочило, стучит, отдается во всем теле – и слова из себя не выдавишь, и руку выдернуть нет сил! А он, хоть бы дрогнул. Рассказывает старикам, как ходил в прошлом году на козлов. А какие тут в степи козлы? Они в скалах, на Кавказе. Выдернула руку из-под его крепкой, потной ладони, и вздохнула полной грудью. А сердце уж где-то в ушах: тук-тук-тук! И опять вздохнула, будто, бог знает, сколько пробежала, будто гнались за ней. И отодвинулась. А он, ничего, точно и не замечает. И старики кивают головой, соглашаются. Вроде все в стачке, поклялись погубить ее доброе имя.
– Поздно уж, – взглянула в черное окно, выходящее во двор, этим хотела сказать, что пора бы и прекратить застолье, расходиться по домам – но голос не послушался, и ее «поздно» прозвучало странно мелодично, как предложение продолжить игру! И все, даже кот Шамиль, повернули к ней голову. Анна Васильевна смутилась под их пытливыми взглядами и уже твердо, как распорядительница работ швейной фабрики, сказала, что пора «закругляться», самое красивое место для хозяина в госте – его удаляющаяся спина. И за столом пошевелились послушно, суетно: а ведь и правда! Сколько ни сиди, благополучия не высидишь, да и вставать завтра чуть свет. И будто сговорившись, принялись широко зевать и потягиваться.
Аким накинул железнодорожную тужурку в напашку, фуражку на затылок – и предстал бравым, похожим на офицера-корниловца молодцом. Действительно, со спины любая полюбит.
– А ты пойди, запри за ним, – науськивающим шепотом просвистела старуха.
– Ага, ага, ага, – загоготал старик.
Это было что-то новое, никогда Аннушка не ходила провожать парней. Однако же накинула жакет и, не покрываясь платком – на минутку только – шагнула в черные сенцы вслед за женихом. Вытянув руки, чтоб не треснуться лбом о косяк, нащупала дверь, вышли на крыльцо. После освещенной избы тьма предстала дегтярно непроглядной. И опять, точно кот, дуновение майского ветра – и Анна оказалась в кольце его рук, и щеку ободрало мелким наждаком щетины – и внутри ее все закипело, потянулось навстречу, на секунду в темноте показалось, что это Александр Васильевич! А кто же еще?! Но тут же и вспыхнуло в мозгу: не он! И вырвалась, и толкнула – и черный, невидимый Аким загрохотал башмаками с крыльца.
– Осторожно, пожалуйста, здесь у нас ступеньки.
Аким приглушенно ругнулся. Анна не удержалась, прыснула, закатилась хохотком. И если бы Аким оказался более настойчив, Анна, вполне возможно, подарила бы ему материнский поцелуй. Женщины ведь непредсказуемы. Они гуляют сами по себе.