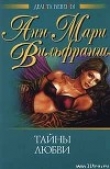Текст книги "Сестра милосердия"
Автор книги: Николай Шадрин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА 8
Как страшна потеря Омска, как боялись бегства! А случилось – вроде, так и надо. И ничего ужасного. Хоть что-то определилось. Многие с радостью покидали, ставший ненавистным, холодный, голодный город. «Хуже не будет!» Но они обманывали себя.
Много выпало испытаний – а тут еще и «испанка». Сыпняк. Кажется, полстраны свалилось в тифу. В горячечном бреду отдавались приказы, обезумевшие больные выполняли свой воинский долг, из последних сил сдерживали напор красных. Но те лезли, с примороженными к винтовкам руками, шатались от усталости, валились с ног, и их насмерть загрызала та же тифозная вошь.
Анна Васильевна все-таки надеялась на Колчака: не бросит! Устроит место в вагоне. А он забыл. Не дал никакого распоряжения. Или уж робел обратиться с «личной» просьбой? Кое-как выхлопотала место в санитарном эшелоне. Не пассажиркой – ухаживать за ранеными. И опять железно застучали колеса, и опять мелькала, плыла за окном заснеженная Русь. И отчаянное неудобство быта – стирали, чуть ли ни в кофейной чашечке. Недостаток воды и особенно тепла.
Но, что больше всего удивило: вместе с этими составами ехал Аким! Зачем?! Ведь не Вронский же, чтоб следовать всюду за Анной: «Я должен быть там, где и вы!» Глупость какая! И все же она покраснела. И сердце дрогнуло, когда встретила на станции у водокачки. Он тоже смутился. Предложил поднести чайник – неловко поскользнулся, разлил, и пришлось становиться в хвост еще раз.
Оказывается, его мобилизовали обслуживать технику: исправлять по мере надобности неполадки. И так странно получилось, что с собой оказались сухари и печеная картошка. Поделился. Обещал на остановках заглядывать.
Анна боялась отстать, думала, паровоз вот-вот тронется – а его будто на прикол поставили. Отнесла чайник, сделала свои дела – опять выскочила. Акима нет. Да не его и искала! Все высматривала: не покажется ли Колчак? Составы от Омска отошли один за другим, почему бы не собраться где на станции? Для какой-нибудь переклички. Обмирая со страха, уходила все дальше, меж пыхтящих паром паровозов. Где он, состав Верховного? И не спросишь. «А что это вас так интересует, хорошая дамочка? А уж не красные ли носите панталончики?» Отведут в сугроб, да и…на это им патронов не жалко. И, едва не прихохатывая от ужаса, уходила от своего поезда, и все повторяла в такт шагов: «Кому татор, а кому лятор! Сёма Фор! Мотя Цикл!»
Мимо, туда и обратно, бежали солдаты, сестры милосердия. Закутанные в тяжелые шали сибирячки кричали:
– А вот, картовочка! Горяченькая! С малосольным огурчиком.
Откуда они малосольный огурец взяли? – а непослушный рот уже переполнялся сладкой слюнкой, и ноги сами поднесли к толстой, краснощекой бабе. Ее мороз не брал. Только веселил.
– Сколько просите за порцию?
– Пятачок, милая барышня. Царский, полуимпериальчик.
Империалов у милой барышни не случилось, и, вздохнув, побежала дальше вдоль состава. У «тормозов» кучковались другие бабы и тоже не хотели брать бумажных денег.
Офицер в романовском полушубке прыгал на визжащем снегу, старался согреться.
– Господин поручик, во имя всего святого: литер «В» на станции?
Поручик выпрямился, свел губы в ниточку.
– Я сестра Александра Васильевича.
Пробежался взглядом по Анне, отмечая рыжую лисицу, не по сезону холодные сапожки. Анна отвернулась, поспешила дальше к станции. Впереди зазвенел колокол. Отправление! Остановилась, не зная, идти ли дальше, или во все лопатки обратно, к «санитарному».
А впереди – вагоны, вагоны, и испуганно, звонко в морозном воздухе вскрикивает паровоз. Закусила губу и припустила без оглядки, к головному эшелону. Будто решила: либо остаться здесь, в заснеженной тайге на погибель, или найти, наконец, его. Без которого и сердце не стучало!
– Минуточку, мадам! – окликнули – не остановилась, а только прибавила шаг. – Стоять! – рявкнули сзади – и она кинулась к подвернувшемуся вагону. Кондуктор вырос горой. Набежали еще вооруженные люди.
– Что с вами, господа? – пыталась вырваться, – справились? Как вам не стыдно?!
– А позвольте взглянуть на ваши документы, мадам. – А ноздри побелели, трепещут, как у собак. То-то радости: партизанку сцапали! Режим по всем швам трещит – они из кожи лезут, звездочку себе на погон зарабатывают.
– Друзья мои! – призвала вести себя светски и протянула черный, еще дореволюционный паспорт. – Вы, собственно, по какому ведомству? Дело в том, что я близкая знакомая Александра Васильевича. Сделайте одолжение, проведите к Гинсу.
– И проводим, – нагло улыбнулся поручик. – Гинс неделю, как в Иркутске!
Анна Васильевна хотела держаться строго, независимо, но ее сотрясало со страха. Она прекрасно знала, что ожидает ее в застенках контрразведки. И понимала, что к Колчаку никто не допустит, и докладывать о какой-то красной террористке не станут.
– Друзья, – заговорила с новой интонацией. – Я около года служила при верховном правительстве. Переводчицей. Меня очень хорошо знают Иностранцев, Вологодский. – Она не знала, что все они еще раньше отбыли в Иркутск.
Контрразведчики в этом видели хитрость и обман.
– Dites, moi, est-ce quil y aura veritablement quelque chose cetle nuit? (скажите, правда, нынче ночью что-то будет?) – перешел штатский на французский язык.
Анна сказала, что ищет своего брата и для этого ей нужно видеть начальника конвоя.
– Конвой оставлен в Омске, – сказал поручик по-немецки.
Анна так же по-немецки назвала фамилию начальника конвоя и адъютанта.
– Bitte helfen Sie mir. Ich bin sehr abgespannt (Помогите мне. Я очень устала).
– Это ничего не значит! – пролаял человек в штатском и толкнул в плечо. Анна понимала, что если говорить о связи с Колчаком – никто не поверит! Примут за последнюю дуру-террористку и… «пожертвуют». Разбираться некогда!
Уже шагали куда-то обратно, в хвост состава, Анна озиралась, надеясь увидеть хоть кого-нибудь, кто мог бы подтвердить ее слова, смог развеять чудовищное недоразумение.
Никто не попался, никто не защитил.
Вошли в вагон, свернули в прокуренное, грязное купе. Контролеры сели на лавки. Аня осталась стоять. И вдруг снизошло успокоение. А и действительно, стоит ли так-то уж дрожать? Документы чистые, все начальство знакомо, не могут же расстрелять совсем без следствия. Штатский одним порхающим движением проплыл ладонью сверху вниз. Вытащил и бросил на стол печеную картошку.
– Говоришь, сестра Колчака? – криворото усмехнулся лощеный поручик.
– Я его любовница.
Заплечных дел мастера заржали ей в лицо, будто обрадовались возможности прикончить хоть одного врага. И вдруг Анна Васильевна ослепла от острой пощечины. Она задохнулась и не могла выговорить слова.
– Вы за это должны будете ответить! – справилась с собой, наконец. – Вам этого никогда не простят! Кто вы? – решила нападать только на молодого поручика. – Покажите свои документы! – стучала ладонью в стол.
– Ся-адь! – рявкнул штатский так, что у Анны ноги подкосились, и оборвалось внутри. Губы задрожали, и горло сдавило обидой. И мелькнула злая мысль, что большевики-то, пожалуй, были бы вежливей. Во рту разлился привкус меди. Колени дрожали. Разбитые зубы выбивали дробь. Теперь уже штатский стучал ладонью по столу, требовал признания в преступном замысле.
– Сходите в санитарный вагон, – наконец нашла нужный тон Анна. – Спросите кастеляншу Тимиреву. Это я. Всякий подтвердит. Идемте!
Контролеры переглянулись.
– Шпионку поймали, – покачала головой. – За что вам только паек дают! С женщиной справились! С дочерью директора Московской консерватории!
Костоломы замерли, не зная, верить или нет. Слишком уж мало в ней простонародного, слишком похожа на барышню из света. А печеная картошка – что ж… с солью, да хлебцем и глотком ледяной воды – милое дело! Обменялись косыми взглядами – перестарались. Кто первый прокричал: ату!
Поручик независимо откинулся спиной к стене, завел ногу на ногу. Штатский ловким движением пальцев слизнул со стола паспорт, полистал, посмотрел на свет и даже понюхал.
– Тимирева Анна Васильевна, – выговорил он. – Да как же вы… – бросил невольный взгляд на жалко сморщившуюся печеную картошку.
– Отведите меня к нему.
Контрразведчики не шелохнулись.
– Он здесь! – даже топнула она.
Поручик прикрыл глаза – ему становилось скучно.
– Вот что, дорогая Анна Васильевна, – превратился штатский из палача-любителя в любезного собеседника. – Возвращайтесь-ка вы в свой вагон. Не надо лишний раз беспокоить Его Высокопревосходительство. А при случае мы дадим знать о вашем местонахождении. Это я могу обещать твердо. Ежели же вы захотите встретиться самостоятельно – мы вынуждены будем передать вас в следующую инстанцию, для сугубой проверки. А это, поверьте, лишние неприятности, да и счастливый момент встречи только отдалит.
– А как же это получилось, – спесиво, через губу, процедил поручик, – что Их Превосходительство ничего о вас не знает? Штатский, похожий на филера, тоже заинтересованно сверкнул глазами.
– Всякое случается, – ответила с достоинством, – видите, что за обстановка.
– Да вот в том-то и дело, – проскрипел поручик.
– Анна Васильевна, – штатский взял разговор в свои руки, – факт вашей искренности у меня не вызывает сомнения. Я вас видел с адмиралом на верховой прогулке. Извините, прекрасная пара, прекрасные лошади! Канадской породы-с? Першеронцы? Прошу великодушно извинить за излишнее рвение в исполнении долга – обстоятельства вынуждают. Везде провокаторы, вредители, шпионы.
Анна вынуждена была согласиться.
– Ночью из бомбометов обстреляли – никак нельзя терять бдительность, – мягко выпроваживали ее из купе. И тут она увидела под столом большую черную лужу… чего-то.
– Прошу, прошу, – заторопился контрразведчик, – дают отправление – с. Отстанете – греха не оберешься.
Вышли на улицу. Кажется, долго ли были в вагоне, а успело стемнеть. Шли в сторону санитарного вагона. Оно, может, и правильно: доверяй да проверяй. Поезд дернулся, прогрохотал буферами, стронулся с места – заскочили в проплывающую мимо дверь. Кондуктор, было, воспротивился, контролеры заорали, показали документы – и он уступил. Мимо длинно проплывали склады, станционные постройки, железнодорожник с флажком.
– Да-а, – протянул филер мечтательно и горько, – от Москвы до Петербурга при царе-батюшке за семь часов пятьдесят минут доезжали.
Поручик сухо плюнул. Из мещан офицерик, скороспелка. «Их Высоко превосходительство», – не прошло мимо внимания Анны. Охамел и офицерский корпус. То ли еще будет.
– Пожалеет Россия, да поздно будет, – в том же направлении тоски текли мысли штатского. – Кровью умоется родимая.
Офицер опять плюнул. Теперь покосился и кондуктор. А ему, милому, хоть бы хны. И за грех не считает. А поезд торопился, набирал скорость, сбивался в стуке колесами. Анна отвернулась, достала из кармана зеркальце – губы припухли. Как у зуава. Контрразведчики приобрели скучающее выражение, смотрели в сторону. За окном бежали стожки, проплывали белые поляны, и опять обступал окончательно почерневший ельник. На тормозе гулял ветер, лез в рукава, знобил.
– Разбежался как, – похвалил паровоз офицер-разночинец, – этак скоро и Ново-Николаевск!
– Сплюньте, поручик, – хитро покосился на Тимиреву штатский.
ГЛАВА 9
Двое умерли. Их вынесли и похоронили. Сложили под елью, накидали снежный холмик. Помолчали и бегом обратно. Даже молитву некому прочесть. Анна не очень верила в скорое воскресение, как-то не укладывалось в голове, как это может быть? Но и бросать без могилы и креста – тоже не дело. Не по-христиански. Да что тут поделаешь? И другие, горят в жару, мечутся по полкам, выкрикивают имена любимых женщин. Если половину довезут до Ново-Николаевска – слава Богу.
Вернулась, вскипятила воду в титане, заварила сушеной морковкой – все-таки чай. Разнесла, разлила по кружкам. Да по сухарику каждому. Кто-то может и сам, а есть такие, что с ложечки приходится кормить. А у одного, бедного, всю-то челюсть раздробило. Не подступишься. А видно, хороший человек. Веселый! Языком еле ворочает, а туда же: «Вставлю зубы и отобью вас у Александра Васильевича!». Тут уж, не то что с ложечки, а «с тряпочки»: намочишь да ему в рот покапаешь. И видно, что больно ему. В лавку пальцами вцепится – так и захрустят. И затрясется весь, и выгнется дугой. А Анна Васильевна гладит по голове, шепчет что-то, утешает.
– Анекдот хочешь? – свесился с багажной полки казак. И сам же трясется, покраснел, как помидор. – Приходит баба к соседям, говорит: «У нас какая-то сволочь самовар стащила – у вас его случайно нету?!» – и так и закатился. Выздоравливает. Да и рад, домой едет.
Анна понимала, что он симулирует. В Омске вносили на брезенте, признаков жизни не подавал. Губы белые, нос острый, вполне недвижим. Только один глаз горел, как лампочка. А пропел паровоз, дохнул углем, не успели скрыться окраины – ожил казак, а теперь и в присядку пуститься готов! У Анны самой сестра в театре Мейерхольда – и не могла не восхищаться артистизмом казака. Но в то же время понимала искреннее чувство артиллериста, потерявшего обе ноги. Когда попыталась посочувствовать – только усмехнулся: «Мне это в радость. Я хотел бы погибнуть за Родину с песней!». Вот так вот понимали жизнь некоторые офицеры.
А казак хохочет и таит про себя какую-то мысль.
– А ведь ты вступишь в партию большевиков!
– Да уж не промахнусь!
– А надо будет, и к стенке нас поставишь?
Казак дрыгнул ногой, на минутку задумался, но тут же и расплылся в самой белозубой улыбке:
– Если только прикажет Тухачевский!
И расстреляет. На смену преданным, готовым на все во имя Родины людям, шли веселые, решительные ребята без роду и племени, готовые продать все, что угодно, поставить к стенке родного отца, если тот неловко встанет на пути интересов класса.
Анна не заметила, как поезд тронулся. Из тамбура нанесло терпким дымом самосада. Сколько раз говорила – ничего не слушают. Казак пошел, прикрикнул на них. Подались куда-то.
Прошла по вагону: кого прикрыла шинелью, кого подвинула к стене, чтоб не свалился. Потом помогала фельдшеру бинтовать, сама делала уколы. Разносила микстуру.
А поезд разбежался, катится по рельсам, даже вскрикнет на повороте от радости. Может, и доберемся до Ново-Николаевска. И все наладится. Красных остановят. А весной, Бог даст, опять погонят их со всех концов державы. Быстро ведь умеют надоесть своей продразверсткой.
О, если бы так случилось. Да и случится! И не может быть иначе! И тогда! О, Боже мой, Царица небесная…Кем же буду я? И что будет? Смена ненавистной фамилии на короткое, звучное: Колчак! И…неужели царица? Или гранд-леди России? И не ищите, во всем мире вы не найдете более скромной, отзывчивой, сердобольной гранд-леди. Анна потянулась в томительной судороге тоски по новым, счастливым дням. А они будут! Обязательно! Это только пока плохо – но какая будет за это награда! И детей родить – и воспитать! И страна расцветет краше прежнего. А большевики – как кровавый понос – вспомнят их на минутку, со страхом перекрестятся и постараются забыть поскорей.
И опять кричат из конца коридора:
– Сестренка! Сестрица!
Давай-ка, русская царица, беги, выноси г… из-под воина. А казак на второй полке, уж сучит ногами. Пляшет какой-то воздушный краковяк: «Я с миленочком гуляла ельничком, березничком, сорок раз приподнимала юбочку с передничком!». Углядел, за какой надобностью поспешила сестричка – сорвался с места.
– Погодите, я проворней! – выхватил судно. – Эх, какую кучу навалил! Жить будешь, ваше благородие! – и раненые хохочут, взмахивают в воздухе обмотанными культями рук и ног.
Часто Анне казалось, что опустилась на дно ада – но и в аду можно жить, если вокруг добрые люди.
И многие потом вспоминали этот ад, как несостоявшийся рай.
Поезд все отсчитывал стыки, торопился прочь, дальше от красной погони. Бросить бы частый гребень с полотенцем, чтоб выросли непроходимые леса, легла огненная река. Но для них, похоже, не было преград. Перед Омском Сахаров взорвал мост, казалось, никакие силы не перенесут красные бронепоезда! Не по воздуху же! А сумели. По льду. Наварили два метра толщиной, бросили чугунную нитку рельсов – и, как на тройке, вкатили в побежденный Омск!
А, не сегодня-завтра, гляди, падет Ново-Николаевск. Да и Красноярск не устоит. И тогда «Vae victis» (горе побежденным).
Она уже выпила два стакан кипятка, и даже вроде бы согрелась, но прошло какое-то время и опять принялось трясти. Или это от волнения?
– Вы бы прилегли, – взглянула внимательно начальница. – Да алтейки выпейте.
Анна пошла в служебный закуток. И здесь затрясло уже по-настоящему. Сильней, чем пьяницу с похмелья. Легла на полку, не раздеваясь, укуталась и все никак не может согреться. И напала, не то чтобы усталость, а слабость, ноги и руки так тяжелы – не пошевелить.
А мысль при этом необыкновенно ясная, четкая, быстрая. И встают перед глазами картины детства. Ночные прогулки на лошади. И содрогнулась от удара! Никогда ее не били арапником, но в эту горькую минуту точно знала: секут! И занимался дух, трещали от ударов ребра. Господи, что это? Но Анна знала, это наказанье за измену. За предательство. Да, нарушила данное на венчании слово, покинула мужа. И сын!.. Анна стонала и просила наказать еще больше, может, и до смертного исхода. Она слишком хорошо понимала, какой грех несет в душе.
Но ведь не могла же поступить иначе! Кто как не Бог послал ей ту встречу? И не Он ли создал их такими друг для друга! Не сама же выдумала это шампанское в крови!
И – всё! Отпустило. Перестала сечь камча. То есть так же зуб на зуб не попадал, трясло – чашечку с алтейкой невозможно поднести. Выпила. Может, пройдет? Или нет? Может, так же, как в Омске? Или болезнь только копила силы, чтоб прихлопнуть гробовой доской. И бросят в снегу, под елочкой.
Странное дело, из религиозной, набожной семьи – а даже обрадовалась, что не придавят ста пудами глины, а так и оставят на поверхности. Глаза пташки выпьют. Грешная плоть умрет – и останется под елочкой, и будет вечерами пугать грибников своим сумрачным взглядом. И выдумают какую-нибудь легенду о… белогвардейской атаманше, размахивающей по ночам плоским маузером. И станут находить задушенных комиссаров. И уже примирилась с такой перспективой, замерла, ожидая прихода безносой.
И какие-то быстрые существа облепляли ладонями, как осенние листья, поднимали, опускали, баюкали. И громадная жужжащая оса все норовила ужалить, и все это вертелось, неслось куда-то – усилием воли остановила круговерть, увидела встревоженное лицо начальницы, схватила за руку – так много надо было ей сказать! Чтоб Володя знал, что в последнюю минуту жизни мать думала о нем, чтоб передали благословение. Но все опять завертелось, летело, засасывало в облака.
ГЛАВА 10
Гинс телеграфировал из Иркутска о шаткости власти. Даже повернулся язык сказать: правительство Колчака никто всерьез не принимает! Голод, разруха, всеобщее недовольство. Премьер Вологодский опять запросился в отставку. Все в один голос дудели о необходимости Земского собора. И за всеми заявлениями недвусмысленно маячило предложение пойти ко всем чертям.
– Сволочи! Скоты! Мерзавцы! – до этих трех слов сократился лексикон Колчака. И опять ломал карандаши. Готов был голову разбить о стенку вагона от бессилия что-либо изменить.
Чуть ли ни полмира замерло в ожидании: что он сделает? Куда повернет корабль по имени Россия? А пленные чехи стопорят его состав по своему желанию – и всемогущий Колчак ничего не может сделать! Ни на час ускорить продвиженье поездов. И это внутри своей империи. На территории – как говорят – целиком подконтрольной ему! Сутками торчит, то на полустанке, то в чистом поле – а мимо проносятся, обгоняют состав за составом! Везут из России награбленное добро румыны, чехи, сербы. Пугают партизанами. Восставшими рабочими.
И опять несут телеграфную ленту. Что там еще? Выхватил, пока читал, порвал в трех местах… Предательство! В Красноярске вот-вот сменится власть. Боже мой, что же это такое? Получается, что он со своим паровозом в мертвой петле? – Сердце бухало замедленно, сильно, стучало в висках. И дыхание шло тяжело, со свистом. Врач говорит, надо бросить курить – но для того, чтоб не задохнуться от кашля – приходилось срочно закурить!
Стратегия по всем параметрам уступила место тактике. «Выжить!» – главный лозунг всякой сволочи. «Ракло!» – едва не прокричал навстречу Удинцову.
– Анна Васильевна, – щелкнул тот каблуками.
Лицо Колчака болезненно дрогнуло. Анна была тщательно убираемой на задворки сознания болью, виной. Даже делал вид, что ее нет – слишком припекал стыд при воспоминании о ней. Надеялся, что как-нибудь сама выберется из обступившей со всех сторон беды! И теперь ни о чем не спрашивал, а только пристально смотрел в глаза начальника конвоя. Тот толково и кратко передал донесенье контрразведки.
– Она больна, Ваше высоко превосходительство! Похоже, тиф.
В кабинет вошел, замер, выжидая возможности вступить в разговор, Занкевич.
– Срочно ко мне! – приказал адмирал Удинцову. – И доктора!
Занкевич стоял с убитым видом.
– Да неужели дурные вести, генерал? – горько пошутил Колчак.
– Не то чтобы, – вяло выговорил, – стало известно, что Виктор Пепеляев проследовал в Томск, в расположение Первой армии.
Это значило, что братья разбойники зашевелились опять. Что-то готовилось, что-то дурное витало в воздухе.
– Это все?
– Нет, – мягко возразил. – На станции Тайга между Пепеляевым и Сахаровым произошло столкновение. Сахаров арестован.
– Срочно сообщите Каппелю, чтобы как можно скорее исправил положение.
– Уже, – все с той же грустью в голосе доложил начальник штаба. – Каппель в Тайге, и дело исправлено.
Колчак поморщился. Впрочем, может, от мучившей зубной боли.
– Передайте в ставку, что я утверждаю на посту председателя правительства Виктора Пепеляева.
Занкевич с легким полупоклоном покинул кабинет. Телеграфировать Пепеляеву радостную весть не спешил. Теперь у Колчака семь пятниц на неделе – может отменить! Так же посылал депешу Деникину, с предложением принять бремя Верховного правления. И хорошо, что канцелярия замешкалась. Через пару часов дал отбой. Из упрямства – узнал, что Сибирское правительство обратилось к Деникину с тем же вопросом.
Сволочи, канальи!
Хороший адъютант, как воздух: необходим и невидим. Он, будто сгустился из воздуха и теперь ходил, чуть ли ни рядом и так же свирепо шептал: «Сволочи! Ракло!». Если бы это посмел сделать кто-то другой, менее преданный – адмирал стер бы в порошок! Комелов, человек безгранично добрый, обладал способностью гасить ярость любого накала. И когда они особенно горячо прокричали дуэтом: «Мерзавцы!» – Колчак оттаял душой и даже усмехнулся кривой своей улыбкой. Вообще, в последний месяц он улыбнулся, может, раза три, четыре. Не до веселья. И теперь как-то особо взглянули друг на друга, поняли – и ни слова не говоря, даже столкнувшись на пороге, проскользнули в маленький закуток, где в сундучке, слабо звенели бутылки.
Михаил Михайлович поставил два тяжелые, хрустальные стакана, налил. Поезд качнуло, едва не промахнувшись, чокнулись.
– За здоровье Анны Васильевны Колчак!
Адмирал вылил в рот содержимое и проглотил судорожным глотком. Закусили яблоками. Поезд плелся еле-еле.
– Как черепаха, б…! – в последнее время адмирал широко пользовался пролетарской лексикой.
– Китайское яблочко! – похвалил Комелов.
– Китайское яблоко – это апельсин, – прогудел Колчак, так и этак укладывая плод в своем беззубом рту. Алкоголь кипятком разбежался по пищеводу – ударил в голову туманом, пришло ощущение легкости.
– Мы на «Заре» бражку ставили, – причмокнул Колчак. – Она должна стоять неделю. И вы не поверите – дольше пяти дней не выдерживали! Выпивали до гущи! – Бледные щеки Колчака приобрели оттенок румянца, глаза заблестели. То есть брови так же сведены, взгляд исподлобья. Спросил: обязательно ли при сыпном тифе стричь наголо? Комелов сказал, что обязательно. Колчак вздохнул и с шумом втянул воздух через редкие зубы.
– Большевики в Омске, – прищурился адмирал и опять шагнул туда и сюда в тесном закутке. – Как-то наш Борбоська?
– Борбоська не пропадет, – заверил адъютант.
Поезд катил по рельсам, стаканы на столике сошлись и тихонько звенели, напоминая о деле. Адмирал замер, уцепившись за край стола. Все катилось под откос. Поначалу решили закрепиться на линии Томск – Тайга – Барабинск. Но на последнем совещании выяснилось, что остановить красных нечем. Армия не хотела воевать.
Комелов беззвучно наполнил стаканы:
– Первая колом, вторая соколом!
Колчак не заметил, как выпил.
– Закусите, Ваше Высокопревосходительство! – принялся строить бутерброды.
Дверь отворилась. Доктор. Совсем еще мальчик.
– Да! – встрепенулся Колчак, чуть было не сказал «принесут», но поправился, – приведут Анну Васильевну, осмотрите и сделайте все, от вас зависящее!
– Уже, – кивнул юноша.
– Сыпняк? – болезненно замер Колчак.
– Инфлюэнция, – показал ладонь. – Испанка.
– Это – серьезно?
– Все опасно, – поднял плечи медик. – Но организм молодой, болезнь в самом начале, можно надеяться.
– Прошу вас.
Доктор не заставил себя упрашивать: опрокинул стаканчик и закусил бутербродом.
– Скотина! Мерзавец! – нарезал круги адмирал. – Ничтожество!
Доктор, обтерев губы, устранился.
Поезд опять невидимой рукой собрал стаканы в кучку, ненавязчиво звенел, приглашая продолжить хмельное застолье, забыться, отойти от забот дня текущего. Но Колчак, как-то вдруг просветлев, сделал прощальный знак рукой, поспешил к себе. На тормозе часовой вскочил с откидной лавки, вытянулся, тараща глаза.
Перед дверью в купе остановился, унимая лихорадочное биение сердца. Даже дыхание занялось от волнения. Неужели я ее увижу! Она больна. И нахлынула болезненная нежность…
Слабо светила электрическая лампочка. Она. На постели. Напротив доктор. При виде Колчака вскочил, несколько раз кашлянул в кулак. Мол, я ничего, бодрствую.
Пахло лекарством.
– Что с нею?
– Жар, – так же шепотом ответил. – Тридцать девять и шесть. Попозже можно обтереть водкой. – Паренек молоденький. Студент. Бегство все перепутало. Прежний доктор, Петрович, должно быть, лечит утомленного победами Эйхе. «Эйхе», значит дуб. Дубовое начальство у красных. И нет сил отвести глаз от детски маленькой головки на подушке. Что это он про водку… обтереть.
– Уж вы и распорядитесь, насчет водки.
Юный доктор вышел.
Неподвижный сверток на постели не шевельнется. Колчак стоял над нею и молил Бога простить их обоюдные грехи, спасти молодую жизнь Анны.
– Если надо забрать одну из наших жизней, возьмите мою! – к Богу Александр Васильевич обращался на «вы». Привык так еще с детства.
Шевельнулась, выпростала руку. Лилейно белую, с маленькими аккуратными пальцами – и, не в силах противиться, встал на колени, целовал ее пальцы, между пальцами, аккуратно повернул руку, уткнулся большим своим носом в ее горячую ладонь. И, точно шелест ветерка:
– Саша…
Дрогнул и замер! Будто божье благословение снизошло, будто нежность всего мира окружила – и грозный адмирал ощутил себя маленьким, желторотым птенчиком в пушистом гнезде, и так отрадно было это полное самоуничижение. Что-то шевельнулось над ним, поднял голову – она. Черные, непослушные волосы перепутаны, глаза горят безумьем и любовью.
– Саша, – волос на висках прилип, щеки горели лихорадочным румянцем.
– Аннушка, милая, – в эту минуту не было никаких желаний, кроме счастья быть с этой женщиной, неразлучно, всю жизнь, до последнего часа.
– Ты что-то потерял? – прошептал ветерок, – ползаешь?
И ему страшно стало от этой ее, может, последней в жизни шутки. А она силилась засмеяться – и гримаса страдания искажала лицо, и тело содрогалось, то ли от рвущегося наружу кашля, то ли от боли. И страх потерять ее, и такая любовь к этой маленькой, беспомощной женщине, что протяжно на скулящей ноте застонал и все целовал сухую горячую ладонь.
Впервые за многие годы осознал он себя беспомощным перед превратностями судьбы. Едут в крошечном вагоне через бескрайние пространства холодной Сибири, и невидимый микроб может поставить точку их жизни.
Щелкнула дверь – доктор.
– Что вам? – вопрос прозвучал неожиданно грубо.
– Я принес, – показал бутылку.
– Поставьте и идите, – все не подымался с колен.
Доктор неловко уронил бутылку – Колчак поймал! Поставил. Доктор поклонился и вышел. Нескладный какой. Колчак коснулся губами горячего лба, накрыл ладонью – и видно было, как она ослабла в блаженстве. Весь мир сосредоточился для нее в этой прохладе, пульсирующей крови в висках. Казалось, могла жить только под покровом его животворящей ладони.
Вагон поскрипывал, погромыхивал, катился куда-то во тьму. Тоскливо, по живому прокричит паровоз, выбросит золотистый шлейф искр – и бежит, бежит.
– Саша, – чуть слышно, – ты еще немножко постой на коленях да и вставай… – Колчак ушам своим не верил, а Анна все шутит на краю погибели. – Зайдет Иностранцев – а Верховный на коленях ползает. – Чуть слышно шелестела. И Колчак готов был визжать от счастья и любви к этой женщине.
– Вам врач посоветовал одну процедуру…
Анна спросила одними губами – голос не пошел. И упало сердце, испугался, что сил у нее не осталось.
– Предлагает растереть.
– Я сама хотела попросить, да… есть ли водка.
– Полная бутылка.
И опять, будто ветерком подуло из угла:
– Чего же вы ждете? – и уж пыталась, и не могла расстегнуть пуговку. – Есть ли здесь мужчины?…
И Колчак трясущимися пальцами принялся расстегивать, снимать с любимой женщины платье. С сердечной болью он видел, как успела похудеть – и поднимался злой упрек себе. Единственно преданное до смерти существо умудрился довести до такого страдания. Опять, было, принялся выплевывать обычное: «Сволочи! Скоты!» – и прикусил язык.
Расстегнул все застежки, развязал тесёмки, раздел по пояс. Прежде он не мог видеть ее такой – голова кружилась, и темнело в глазах. В такие минуты он определенно терял рассудок. Сейчас же смотрел с состраданьем. Любящая, доверившаяся ему женщина, болела, может даже, стояла на краю жизни и смерти – а он ничем не умеет помочь. Обильно смочил полотенце и, обмерев на секунду, принялся растирать.
– У вас огурца нет? – чуть слышно пискнула она.
– Бредите, Анна Васильевна?
Торопливо, неловко путаясь в одежде переодел в свою сухую пижаму.
– И это все, на что вы способны? – засмеялась своим тихим грудным смехом – он тут же сменился грубым, лающим кашлем.
– Больно? Вам больно?
Она не имела сил отвечать. Глаза от слабости подкатились под прозрачные веки. Мелко-мелко тряслась в ознобе, даже слышно, как стучат ее зубы. Колчак хлопнул в ладоши: «Эй, кто там!» Вошел адъютант.
– Михаил Михайлович, – заговорил новым спокойным тоном, – не в службу, а дружбу – кипятку.