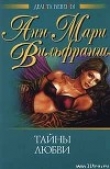Текст книги "Сестра милосердия"
Автор книги: Николай Шадрин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА 14
Конвой кипел. Только офицерская команда в шестьдесят человек сохраняла верность долгу. Солдатская масса бурлила и была готова созреть до мысли захвата и выдачи Верховного дружинникам. Аким начинал свои разговоры исподволь: о грабежах и поборах, «хуже, чем при большевиках». О счастливой жизни обещанной поумневшими красными.
– А то тоже, было, это!.. – припомнил красивый, голубоглазый, солдат.
– Было, было, – поддакнул пожилой мужик в шинели.
– Таперь другое запели!
– Запоешь, когда проперли чуть не до Москвы! – Солдаты еще не безоговорочно согласились перейти на другую сторону. Здесь, на толковище, позволяли себе подпустить и шпильку в красную большевистскую задницу. Даже и Аким с удовольствием рассказывал, как раздулся, чванился их красный комиссар. Как морщил свой узенький лоб, взгляд-то новый выдумал! Косенький и сверху, мол, что это за таракан здесь передо мной шевелится?
– А ведь из наших же, из слесарей!
– Человек, он это… маленько того, – согласился пожилой.
– Да уж теперь-то мы таких не выберем! – заверил Аким – и получилось это у него хорошо, убедительно. Солдаты так и поняли: вот он, перед ними, будущий красный комиссар.
Задымили солдаты махрой, опустили головы. Видно и от родной красной власти чину-то не всем отломится.
– Товарищ Ленин что говорит? – вертелся беспокойно, будто на сковородке его поджаривали. – Земля – крестьянам. Заводы – рабочим! Вот как распорядился товарищ Ленин.
Солдат это мало воодушевило. Песенку они эту слушали чуть ли не с четырнадцатого года. А вот, если бы всем, к примеру… по кусочку золота! На обзавод! Как фундамент будущей счастливой жизни. Вон он, на следующем «путю» стоит, под парами попыхивает. Тут и ходить далеко не надо за новой счастливой жизнью – и винтовки есть. И пулеметы в гнездах стоят. Бери – не хочу!
– Сколько там пудов-то?
– Да, говорят, под тыщу.
– Эх, «под тыщу!» – усмехнулся молодой, красивый, – а сто тысяч не желаешь?
– Да мне бы и одного за глаза хватило! – оскалился неожиданно белыми, крепкими зубами вчерашний мужик.
– Приедет какой-нибудь Моня Стырь или Дина Мит – с ними проще. Они совесть имеют! А то, как собака на сене: и сам не гам, и другим не дам! – зло рассмеялись, замолчали. И правда: царь правил и Керенский, и хитрые большевики, и злой Колчак – а никак жизнь не наладится! Теперь говорят: большевики одумались, будут править по-новому. Всем дадут свободу – кто сколько унесет. Может, что-то и получится?
– Там одни немцы да евреи, – засомневался пожилой.
– Может, научат нас, дураков! – заступился за евреев молодой. Видно было, что и пожилой на это надеялся – головой покачал только из приличия, чтоб не сглазить лезущей к красному престолу власти.
– А как вы думаете: есть ребята, готовые пойти на все?
– Это как? – открыл рот пожилой от напряженного внимания.
– А хоть бы и… ковырнуть.
Пожилой усмехнулся: правда, Аким такой дурак или провокатор? Чепуху языком молоть – это одно, а пойти на вооруженных охранников эшелона «Д» – тут почешешься в затылке. Да и махнешь рукой: ну его и золото-то то! Не жили богато, и неча начинать!
– Давай! – подъелдыкнул молодой, – наган у тебя есть!
– То-то перепугает пулеметную команду! – Солдаты хохотали, зло горя глазами.
– Да это я так, – пошел на попятный двор, – болтаю.
– Болта-аешь, – зло протянул пожилой, – а, может, ты из этих? – так и сцапал за отворот тужурки. – Из тех?..
Акиму стало жарко на холодном сквознячке – время военное, жизнь не дороже копейки. Народ обозлился до крайности.
– Да вы что, ребята? Я же шутейно!
Поезда стояли на крошечной станции. Редко они попадались здесь – тайга, поля, и опять перелески. И все завалено снегом. Кажется, на тысячи верст в ту и другую сторону – ни души. Редко-редко увидишь лошадку, сани, а в них стоит, не шелохнется сибиряк с вожжой в руках. За санями собачонка, хвост на спине калачиком. Хорошо! Иметь коня, корову, десяток овец. Избу с русской печкой. Бабу с ребятишками. Что может быть желанней?
– Мне бы парочку пудов, – мечтательно пропел молодой красивый, – купил бы мельницу, заимку, дом поставил пятистенок – и оженился бы!
Теперь уж Аким с пожилым зло ржали, глядя на красивого.
– Хрена тебе! – закашлялся и отплевался мужик. – Партизаны поймают да закатают сливу под сердце!
– И не надо будет ни заимки и ни пятистенка! – подхватил Аким.
– Одной маленькой каморкой обойдешься.
Молодой не обиделся. Сам понимает, слишком высоко воспарил в своих мечтах. Живым бы добраться до тяти с мамкой – и то рукой и ногой перекрестишься.
– А ведь кто-то и заживет! – в досаде чмокнул Аким, – кому-то достанутся эти сто пудов радости!
– У меня свои «пуды», – скабрезно сверкнул глазами пожилой. – домой надо, к бабе под бочок! – и тамбур содрогнулся от здорового, животного хохота.
С этими каши не сваришь, – косился на егерей Аким, – нет в них революционной дерзости! Рабы крестьянской психологии. И ему в особенную радость было сознавать в себе избыток дерзости! Готовности взять власть, может, и самую верховную! Во время революционной бури человек скоро созревает. Давно ли был Аким таким же безмозглым, бескрылым, покорным скотом на заводе Рендрупа. А теперь готов повернуть всю Россию в новое русло, поставить на широкие стальные рельсы, и катить в светлые дали социализма!
Товарищем Акимом – многие называют…
Двери распахнулись, вошел Удинцов. Солдаты загремели каблуками, вытянулись во фрунт. Аким и не пошевелился. Удинцов сделал вид, что не заметил вольности железнодорожника, прошел.
– Вот тоже, пес.
Солдаты промолчали – по виду, не согласны. Пришлось засмеяться, чтоб сгладить неловкость. Раз не надоело тянуть лямку, давайте, ребята! Недолго уж осталось.
– Пятеро убежали… – заметил пожилой.
– Ага! Двоих тут же споймали, – поддержал белобрысый, – укокошили.
– Да и партизаны-то, не известно, как примут.
Аким улыбался ехидно и ничего не говорил. Поднялся с корточек, повернулся на выход.
– Вот, если бы человека найти, – прогудел пожилой, – который бы… это. Знал! Чтобы связь была… с емя.
– Где ж ты такого найдешь? – возразил молодой, и при этом с интересом глядели на товарища Акима.
– Нет, мужики, – выговорил он весомо, – не из того вы кремня сделанные.
– А ты из того?
– А я – из того! – не дрогнул Аким.
– Ну-ну.
Но не успел выйти – как дверь распахнулась, и опять влетел Удинцов. С ним два офицера. И еще солдаты. Взглянул строго и, не останавливаясь, ушел в вагон.
– Чего это, земляк? – спросили последнего солдата.
– Самострел в вагоне, – сунул для наглядности палец в рот. Ребята растерянно переглянулись.
– Тоже выход, – подмигнул Аким. – Только-то и осталось. А?
Солдаты молчали.
ГЛАВА 15
Как это происходит? Краска пропадает? Или что? Поседел за ночь. С третьего на четвертое. И куда уходит цвет? То есть, почему он, брюнет, пусть с легкой проседью – выходит утром белым до голубого отлива. То есть, причина понятна. «Трапеция»: Червен-Водали, Ханжин и Ларионов поставили перед фактом – отрекайся! Только на этом основании пропустят на Читу. Под защиту Семенова.
Никакого Иркутска он взять, конечно же, не смог! Это было ужасно и унизительно. Колчак никогда не считал Семенова сколько-нибудь умным человеком. И вот, теперь все. Извольте радоваться! Колчак – пустое место. И отобраны оба состава. Самого под белы ручки перевели в вагон второго класса. В убегающий на восток состав чехов. Замечательно! Пепеляева тоже пристроили где-то в соседнем вагоне.
Но почему? Как это происходит? Жил человек и вдруг поседел! Почему он может так невероятно меняться? И как? К лучшему? К худшему? В какой степени и сколько раз за жизнь меняется он, пусть не так внезапно, а исподволь? И почему это происходит?
Отобрали последние два эшелона. «Золотой» – в первую очередь! Теперь, гляди, уж потрошат! Охрана благополучно разбежалась. Остались самые преданные. Меньше сотни. Все разместились в одном вагоне. Предлагали уйти на лошадях в Монголию. Александр Васильевич знал – до границы не меньше трехсот верст. Бездорожье. Горы. Снег по грудь и мороз за сорок градусов по Цельсию. Какое надо здоровье, чтоб преодолеть такой путь? Да с Анной…
Она устроилась на полке, читала французскую книжку.
– Александр Васильевич, это правда, что заболевших морской болезнью, бьют?
Понял не сразу. Ах, да, что-то такое было.
– И помогает?
– Говорят. Но меня, не помню, чтобы били.
Кажется, Колчак не очень цеплялся за власть. Пожалуй, даже не хотел ее. Но почему так больно ударил акт отречения?
И все-таки не все бросили своего адмирала. Многие выразили желание пройти с ним путь до конца. В иные минуты это переполняло благодарностью, прошибало едва ли не до слез. А в иные – лучше бы их и не было! Когда падаешь с такой высоты – свидетели здесь как бы и не нужны. То есть, всегда был при себе черный выход: белоснежный платок с ампулой яда кураре.
Теперь поезд шел скоро. Останавливался, но не так часто, как прежде. И за окном стучат, ревут поезда – в ту и в другую сторону. Люди едут, везут товар, жизнь идет без Колчака. Самодуром.
Анна Васильевна что-то говорила о ночной сигнализации на кораблях.
– Фонарь Табулевича?
– Табулевича, – кивнул механически.
– А Галкина не годится?
На мгновение нахмурился.
– Такого фонаря нет.
Анна засмеялась.
– Вы целый год ходили домой под этими фонарями, у особняка.
– Да? Не знал.
– А, знаете, почему мы проиграли войну с Японией? У нас корабли черные с желтыми трубами – а у них серые, под цвет моря.
– Да, конечно.
– И еще, снаряды, – продолжала Анна, – у нас бронебойные, а у них фугасного действия, – она видела отчаяние Колчака и намеренно выставлялась глупенькой дамочкой, чтобы хоть раздраженьем на себя вывести из безысходности.
Бывает, вещи сами прячутся: вот, только что лежала на столе – и нет! Ищешь – нет нигде. А то, наоборот, так и лезут под нос. Кажется, уж и выбрасывал – а она, вот она, в кармане. Расшифрованная, отпечатанная на гектографе телеграмма. Да, говорится о возможности уйти на восток. Но непременное условие – отречение в пользу Деникина. «Дальнейшее существование в Сибири возглавляемой вами Российской власти невозможно». Вот так.
Когда поезд останавливался, и переставали давать электричество – зажигали свечи. Свечи густо пахли медом – так, что слюнки текли, и под ложечкой начинало сосать.
– Я бы чего-нибудь, пожалуй, – философствовал Комелов, – пожевал бы. – Теперь он тоже – никто, «отставной козы барабанщик». – Пойду, полюбопытствую насчет ужина.
Анна куталась в свою рыжую лисичку, Александр Васильевич не снимал шинель. Нет-нет, да и поблагодарит ее за меховое утепление:
– Душу греет, Аннушка!
– У бабушки была душегрейка – вот бы вам сейчас!
– И пуховой платок. Хорош бы я был.
– Химера! – тряслась от хохота Анна.
– По какому случаю веселье? – уныло протянул адъютант. – Кормить не будут. – И мгновенно все успокоились, переглянулись виновато. – Говорят, и так хороши. Особенно мадемуазель. Очень уж весела.
– Мерзавцы! Ракло! – выговорила, удивительно точно попадая в интонацию Колчака. Комелов тоже не удержался блеснуть актерскими способностями. И в купе только и слышались отборные ругательства в адрес чешского начальства.
– Подать сюда Сырового – я его сырого съем! – воевала Анна.
Колчак, приобретя скучающее выражение, смотрел в синие сумерки за окном.
– Договорился я. С интендантом. Поставят на довольствие! – поспешил загладить неловкость адъютант.
Поезд дернулся, плавно поплыла хибарка за окном, стукнули колеса раз, другой – чаще, чаще. Вагон прицеплен в хвосте, и теперь его качало и мотало во все стороны. Через какое-то время чешский солдат принес кашу с котлетами, и…бутылку водки.
– От майора Коровака!
Колчака почему-то это обидело. Хотел даже вернуть – но Анна громко захлопала в ладоши и закричала «ура!» И пропела низким прекрасным контральто: «Налейте нам грогу стакан! Последний, ей Богу! В дорогу! Бездельник – кто с нами не пьет!»
И все в вагоне зашевелилось, заглядывали в купе. Как бы то ни было, но что-то невыносимо тяжелое кончилось. А о том, что караулит впереди, – не хотелось беспокоиться. От грядущего человек почему-то всегда ждет хорошего.
И в других купе вовсю властвовало то же чувство освобождения от большой гнетущей печали. Кажется, и они раздобыли водки. И скоро ударила крылом залихватская песня.
– Полно горе горевать! – и разбойничий, оглушающий посвист, – то ли дело, под шатрами в поле лагерем стоять! – И даже грохот пляшущих сапог. Душа просила праздника! Но отгремели сапоги, отзвенела казачья песня, и уже потекло печальным вздохом: «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним, – в вагоне присмирели. – На нас напали злые чехи, сгубили всю мою семью» – хор пел угрюмо, без вызова, и каждого хватало за горло невыплаканной тоской. – «Горит село моё родное, горит вся Родина моя!» И опять пугливой птичкой порхает мысль: что-то ждет в Иркутске. Не задержат ли? И холодеет в груди, томит ожидание беды.
А из другого конца вагона и вовсе душу песней выматывают:
– Идет лошадь да по песочку, да головку клонит, а черноглазая казачка милого хоронит. – И замогильный стук колес, и унылый скрип подвесного фонаря. Скрип перегородок, слабый свет экономических лампочек – нагоняют тоску, пугают днем грядущим. Только Анна помолчит-помолчит, да отколет что-нибудь такое – что хоть стой, хоть падай! Нахваталась в Омске у рабочих фольклора.
– Арестуют нас, – прошептал Комелов на вздохе. – Или ссадят.
– И прекрасно! Вольемся в армию Каппеля! – продолжала Анна. Вы будете ходить в атаку, а я вас перевязывать и варить на костре кулеш! «Так за царя, за Родину, за веру мы грянем грозное ура! Ура! Ура!»
– Aqua vitae (водка), – извинил Анну Колчак, – это бывает.
– Я вас люблю! – обхватила обеими руками его голову так, что губы высунулись двумя варениками, и поцеловала. – Сладкий мой!
Комелов смотрел с осужденьем и восторгом.
– Не хотел на мне жениться! – повернулась Анна. – Есть ли у человека совесть после этого?! – взыскующе взглянула на стол: осталось ли выпить и закусить? – Но я – без комплексов! Я сама ему сказала, что люблю без памяти. Тут он и… деваться-то некуда. А какие стихи он мне писал из пучин океана!
О доблести, о подвигах, о славе
Я забывал тогда на корабле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной стояло на столе!
– Анна разрумянилась, упругие кольца волос беспорядочно рассыпаны, глаза горят черным пламенем.
– Было, Александр Васильевич?
– Что ж теперь скрывать…
– Да побойтесь Бога! – натурально возмутился Комелов. – Это же Александр Блок!
И опять тряслись, обессилев, повисали друг у дружки на плече, дрожали в истерике хохота.
– Я за три года столько не смеялся, – смаргивал слезы Комелов.
– Да, совсем смешно, – выговорила Анна чуть ли ни басом. – Я, как Вера Панина, готова была яду выпить, спеть перед Александром Васильевичем – и умереть у него на глазах!
– Какой ужас.
– Любовь зла!
– Полюбишь и… – тонко замолчал адъютант.
Брови Колчака сурово сошлись на переносице, но губы при этом трепетали от едва сдерживаемого смеха.
– А помните, у Подгурского наш первый вечер?
– Я бы хотел это забыть, да вы все напоминаете, – проскрипел Колчак.
– О, как он был прекрасен! – оглянулась на Комелова. – Какой разворот плеч, какие речи. А глаза! Боже мой… Я влюбилась в него с первого взгляда!
В открытое их купе, как бы ненароком, заглядывали раскрасневшиеся офицеры. Александр Васильевич сделал, было, какой-то предостерегающий жест.
– Нет! – вскинула руку, – сегодня мой вечер. Вечер счастливых воспоминаний. Может, мой единственный и самый счастливый вечер! Миша, сделайте одолжение, плесните даме.
Комелов посмотрел на Колчака, пожал плечами и «плеснул». Колчаку было странно видеть ее такой. Раскованной.
– А какой прекрасной души был Непенин! – ей понадобилось замолчать и поморгать, глядя в потолок. Но слезы уже текли, и Анну трясло, и никак не могла успокоиться – так жалко адмирала Непенина. Считался всеобщим любимцем, отцом родным для матросов. И как-то странно было узнать, что революционные братишки зверски растерзали этого умнейшего, добрейшего человека.
Анна Васильевна замолчала, отодвинулась в угол и смотрела оттуда яркими глазами. И Колчаку уже казалось куда как уютно в проходном вагоне второго класса. И все бы хорошо, если б не «кирпич». Угловатый, раскаленный, ворочался он где-то пониже солнечного сплетения, не давал покоя. Сколько народу не сумел спасти от страданий и… смерти. У красных пулеметы раскалились, шипят на расстрелах. Кто ответит за это? О, если бы Бог взял его жизнь и сохранил те невинные, светлые души! Три. Десять раз пошел бы на расстрел!
А за окном зарево. Горят избы. Идет бой. Кто с кем воюет? Чьи дома жгут?
– Зима горит.
– Оставьте, наконец…
– Зима, господин адмирал. Городок такой есть. Был. Здесь станции: Нюра, Шуба и Зима. «Нюра, надевай шубу, скоро зима».
– Михаил Михайлович, – встрепенулся Колчак, – давно вас спросить хотел: комелый – это ведь безрогий? Комолый, значит.
– Чем и горжусь, дорогой Александр Васильевич! – отозвался адъютант. – Но спрошу и я вас: обидчик князя Игоря, хан Кончак, он вам не дедушкой доводится?
Адмирал хило усмехнулся:
– Не дедушкой. «Кончак» – значит, штаны. А «Колчак» – боевая рукавица.
– Первый раз слышу, – покачал головой адъютант, – «боевая рукавица!» Железная, должно быть, – смерил взглядом адмирала. – Выходит, вы из половецкой орды-с?
Колчак неопределенно повел плечом:
– Из турецкого флота – пращур был адмиралом.
– Это у вас семейное… Его ведь Петр Первый в пух и прах разнес?
Адмирал нахмурился, отвернулся. Комелов крякнул, совсем, как Колчак в иную минуту. Анна покачала головой.
– Колчак – это травка такая, – сказала она.
Офицеры тоже «отвязались». Пели прекрасными, отдохнувшими голосами про то, что когда-то были они рысаками, и каждый в жизни искал не любви, а только забавы и на груди «у нее» засыпал. Анна Васильевна опять оживилась, рассказывала анекдоты про солдата Петрова. Она горела вдохновением. Получила, наконец, свою любимую игрушку – в радость видеть, слышать, дотронуться рукой, потормошить его!
Но только ли это? А не волновало ли окруженье молодых офицеров? Пусть даже и помимо воли? На уровне инстинкта? И они, ярко горя глазами, подозрительно часто, не сказать бы – надоедливо, заглядывали в купе. И Колчак имел возможность познакомиться с муками самой черной ревности.
В тот же вечер произошел случай, очень его опечаливший. В очередной раз заглянул капитан пулеметной команды и, странно улыбнувшись, обронил:
– А я в Красноярске видел вашего Борбоську! – и, видя, что не верят, пьяно возбудился, – да! Бегал по перрону! Вас искал!
Это оглушило Колчака.
Как же? Слабенький, глупенький Борбоська пробежал полторы тысячи верст по морозу. Без еды. И зачем?! Какая глупая, нелепая преданность! И вдруг, будто кто шепнул в ухо: а сам-то ты, не такой же ли Борбоська, бегущий за великой Россией – авось, чем послужу! Авось, понадоблюсь!
Колчак повесил нос, глаза угасли. Когда в Омске в его особняке случился взрыв и погибли люди, говорят, он спросил в первую очередь о лошадях: не пострадали ли? И негласно осудили за бесчувственность. Какими бы ни были кони, но люди, защищающие тебя, должны бы быть дороже. И, конечно, это так! Но война есть война. Человеку как бы и положено иногда гибнуть на ней – а животные, они-то в чем виноваты? И вот Борбоська…
– И что с ним?
– На перроне остался, Ваше Высокопревосходительство.
ГЛАВА 16
Зарождалась в животе и растекалась по рукам длинная судорога – хотелось потянуться всем телом, зевнуть. Вообще, весело. Аким передал товарищам на станции, полученные в поезде сведения. «Золотой эшелон» так и шел под красными крестами. Вроде, как санитарный. Колчак – в литерном поезде «В». Рассказал товарищам о брожении и прямом разложении конвоя. После обмена информацией, за самокруткой, как водится, удивлялись обилию евреев среди красных.
– Во, люди! – не то восхитился, не то недобро упрекнул партизан. – уши обдерут, а заберутся наверх, либо в директора, либо в аблакаты!
– Ага, ага, это да, – подтвердил Аким. – Если в России живут, то – или великим князем или канцлером! На меньшее не согласны.
– Во-во, – обрадовался единомышленнику товарищ из леса. – А если не так – то и жизнь не мила: стреляйте меня! Вешайте меня за шею, сатрапы!
– Оне будут править нами, вот увидишь.
– А может, так-то и лучше, может, совесть знать будут! – Заплевали огоньки самокруток, бычки скаредно спрятали в карман.
– Ну, покедова, товарищ! – крепко пожали руки, только что не перецеловались и разошлись в разные стороны.
Разложение в поездах было так велико, что Аким не боялся таскать револьвер. Русская перепечатка «Смит-Вессона» – то есть, очень большой и неудобный. Но зато такого калибра – одной пули хватит медведя свалить. И так приятно чувствовать его серьезную тяжесть в кармане. Шаг у Акима твердый, чуть развинченный. Вполне освоился в многочисленной банде Колчака.
Зима набрала силу, грянули морозы, жгло нос, щипало уши – то и гляди, что ознобишь. Аким, конечно, понимал, что украсть «золотой запас» удастся едва ли. Хоть, кто его знает! Ведь по Казани его везли на телегах! И черный полковник Каппель перехватил его с тремя подручными! Так говорят.
А почему бы и с Акимом не сыграть судьбе такую комбинацию? Залезть в паровоз, треснуть машиниста по башке, свернуть на какую-нибудь боковую ветку – и в тайгу! Получите, граждане партизаны, тридцать тысяч пудов драгметалла! Вот такой рождественский подарок! Только попрошу уж вас, дорогие, расписаться в получении! У пенька. На заснеженной полянке. Суровой крестьянской мочой! Мол, получили тогда-то и тогда-то!
Ленин узнает – камаринскую с Троцким спляшет в своем красном кремле! А Акима прямым путем – в министры железнодорожного транспорта! Заместо Ларионова. Во, удивятся в деревне. Во, обрадуется тятя с маманей!
– Стой, голубок! – офицер в романовском полушубке.
– Слушаюсь, ваше благородие!
– Откуда будешь?
– А вон, из вагона мы. Слесарем будем. Отвечаю за ходовую часть.
– Документ, – уронил спесиво, будто опасался взять в руки его тифозное удостоверение. – Это вши на тебе?
– Разве заметно, ваше благородие?
Офицер отступил на своих сверкучих, яловых сапогах бутылочкой. Движения упругие, легкие. Видно, недавно пристал к поезду. Из тыловых. С фронтовиков дешевый лоск давно слез.
– Вот, извольте, – протянул, трепещущую на ветру бумажку.
– Ладно. Ступай.
А Аким ничуть и не испугался. Даже сердце не застучало. И уже поднималось раздражение: «До Колчака-то, может, руки не дотянутся, а этого франта продырявлю запросто!».
Товарищ из головного вагона куда-то пропал. Может, боится? Он какой-то трусоватый. Тут же, рядом с поездом, рота солдат выполняет упражнения под зычные команды офицера. И «шагали», и кричали, и кололи белый свет. Разминаются. Засиделись в вагонах. И видно, что весело служивым: лица красные, глаза блестят. Попробуй, встань им на пути – только мокренько останется! Аким торопился от оси к оси, постукивал молоточком; где надо, маслом шприцевал, и все подвигался вдоль состава, от хвоста к голове. Паровоз отличный, Луганский, серии «Э». С тендером. Обошел состав, обратно поспешил по другой стороне.
На платформах пушки. В ящиках снаряды. Вот бы где темной ночкой костер развести. Много бы шуму наделал. Бензинчику на ящики плеснуть, да колесико зажигалки крутнуть – хороший бы фейерверк получился.
И опять этот офицер с журнальной картинки: прямой, длинноногий – только бы и любоваться им! Смотрит подозрительно. Аким кивнул, уже как знакомому. Не отвечает поручик. Смотрит пристально. Да и пусть его смотрит. Я тоже парень не рябой!
Проверял буксы: достаточно ли смазки, не тлеет ли пакля? Вообще, это делают работники станции – но здесь их не подпускали. Боятся: вдруг какую бомбу в буксу сунут. Рабочие бастовали во всю, сбивались в боевые дружины от Красноярска до Читы, по всей железной дороге. Почувствовал силу рабочий класс, поняли баре, кто от кого больше зависит! Насчет бомбы в буксу – мысль неплохая. Добыть бы динамиту. Магнезиального. Да по фунту в пару букс.
Револьвер, конечно, есть. И калибр – только быков валить. Да не пристрелян. А вдруг вверх берет или, наоборот, «низит». Каким стрелком ни будь, а с дальнего расстояния промажешь. Только в упор. А кто же допустит – в упор? И рисковать не хочется. Надо незаметно. Вроде: я не я, и лошадь не моя.
На станции – оплывшая белым льдом водонапорная башня. Как-то все рушилось и портилось в последние годы. Ну, да это временно! Возьмем власть – а на себя-то станем работать, засучив рукава! Горы свернем!
А в голове, помимо других, самая беспокойная, злая мысль: пожрать! Оно и в первые недели не жировали, берегли продукт, скупердяйничали. А в Ново-Николаевске большевики перехватили целые составы с хлебом! Да никто и не ожидал, что дорога растянется на целые месяцы! Голодуха страшная. Жутко сказать: смазку для букс жрали. Сухарик обмакнут – и за щеку. Хорошо! Служивый народ в поезде подсох, стал веселее и злей! Это вселяло уверенность: еще неделька-другая, и Колчака можно стрелять, как куропатку, – пальцем не пошевелят, чтоб помешать.
Паровоз взревел пронзительно, тонко; зазвенели колокольчиком; серая шинель так и сыпанула к поезду. Аким вскочил на проплывающую мимо ступень – побежали станционные постройки, уносились в прошлое. И вдруг толчок – едва не свалился с подножки в мелькнувший сугроб. Кирьян… Сука! Хохочет! Волна истерической энергии подбросила Акима, будто даже завис слегка, вцепился в глотку руками и зубами. И сдавил, не отпускал, пока не захрипел дорогой товарищ. Теперь пришла очередь хохотать Акиму, а товарищ отплевывался да материл его последними словами. Наконец, очувствовался, еще полаялся, осмотрелся, наклонился к уху:
– Пора. Есть дело.
И Аким мгновенно подтянулся, и щеки похолодели от готовности на подвиг. А тот быстро-быстро тараторил в ухо о том, что «приманка» теперь в вагоне Колчака.
– Да я же сам докладывал!
– «Докладывал»! – передразнил товарищ Кирьян, – докладывала бы твоя вошь в голове!
Получалось так, что останься бы Анна еще на какой-то день в санитарном вагоне – Колчак пошел бы проведать. Вот здесь и можно было! Если не пожалеть жизни своей для светлого будущего всего человечества.
– Нисколько не жалко! – тряхнул Аким головой.
– Скоро будь готов.
Вошел солдат – разговор пришлось прекратить. Кирьян докурил самокрутку, выстрелил щелчком в упруго бьющую волну воздуха – ушел. Аким остался на месте. Ветер хлестал в лицо колючим снегом, гнал внутрь вагона, в тепло. Аким озяб, окоченел, но приятно было терпеть ветер и стужу, хотел доказать себе, что сможет вынести любые испытания, и ничто не остановит в намерении дойти до таких высот, какие Колчаку и не снились! Наступало его, Акимово, время!