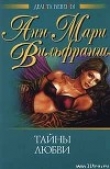Текст книги "Сестра милосердия"
Автор книги: Николай Шадрин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА 19
Анна Васильевна раскладывала карты: что было, что будет? Выпадала долгая дорога. Это значит – до Владивостока. А, может, и дальше. Не обманул Жанен, все сделал для спасения. Ну, вот и хорошо. И дай ему Бог здоровья за это. Владивосток Анне понравился еще в прошлом году. Красивый, теплый, с прекрасной гаванью. Дом губернатора, магазины Чурина, Бриннера, гостиница «Версаль». И неизвестно, насколько заболела Россия краснухой. Может, скоро начнется жизнь такая милая, свободная, богатая – как до революции!
Но вот над трефовым королем сгустились пустые хлопоты. Удар! И казенный дом. Уж не заболел бы Александр Васильевич. Он в серой своей шинельке прислонился спиной в уголок – а желваки по скулам так и катаются. Пришло известие о гибели десятков тысяч при бесплодном штурме Красноярска. Святые люди, печальники и бойцы за Россию. Голодные, холодные, обмороженные, часто безоружные!
Колчак слабо потянулся и зевнул, не размыкая губ – только ноздри округлились, побелели.
– Устали, Александр Васильевич?
Взглянул своими большими карими глазами. Он понимал, что Анна хочет подбодрить, растормошить – да бодриться-то уж выше всяких сил. Сегодня он слышал голос матери: «Саша! Саша!». И весь день нет-нет, да и повторит в душе ее голос. Зовет. Значит, недолго осталось. И такая нежность поднималась из груди к давно умершей матери.
Иногда подолгу мурлыкал какой-нибудь мотив и притопывал подошвой. А то влетала в голову «тетушка Аглая». Это озвучить стеснялся, только иногда, по забывчивости – и вздрагивал, и косился на Анну. А она уже шептала в самое ухо, щекоча дыханием:
Безвольно слабеют колени,
И, кажется, нечем дышать.
Ты – солнце моих песнопений,
Ты – жизни моей благодать!
И рука обнимала ее упругий, податливый стан, она припадала к груди – и плевать на всех соглядатаев мира!
– Александр Васильевич, мы рискуем обнажить свои чувства, – и опять напоминала молоденькую пучеглазую кошечку – игривую и дерзкую!
– Слава Богу, что есть вы! Все исчезает, как дым, и только вы с каждым днем прекрасней и дороже!
– Сказал благородный кавалер, сверкая глазами!
Он нахмурился и прикрыл глаза. Вспомнил что-то больное. Софью Федоровну? Нет. При мысли о ней – поджималась нижняя губа. Сейчас меж бровей легла глубокая, как шрам, морщина. О солдатах конвоя, бросивших его! До того дня он верил, что армия пойдет с ним до конца. Этого не случилось. Солдаты изменили. И офицеры остались не все. А теперь и вовсе – горстка. Анна тоже закрыла глаза. Со стороны могло показаться, что чета безмятежно дремлет под стук колес.
Вошел Занкевич. Кашлянул.
– Александр Васильевич, – теперь он обращался с Колчаком, как с близким, родным человеком. – К нам подсадили каких-то бандитов.
Колчак открыл один глаз.
– Боюсь, как бы не было худо.
По лбу Колчака пробежала рябь морщин, открыл второй глаз.
– Партизаны там, Ваше Высокопревосходительство – сущее зверьё. – Присел на лавку напротив. – Здесь стоит японский состав, – понизил голос до шепота. – Надо эвакуироваться. К ним.
Лицо Колчака окаменело. Неприятно, что люди устраивают его судьбу, в то время как сам давно уж вручил ее Богу. Но не мешал – наверное, им так хотелось. Совесть заставляла что-то делать. Пусть хлопочут – но оставят в покое. Не бояться же ему, в самом деле! После всего, что случилось. Да и куда пойдешь за гранью бытия? К нему. К солнцу любви. О чем же еще беспокоиться?
Он на их месте поступил бы иначе: сначала договорился обо всем с японцами – а уж потом бы сюда. И все бы получилось, будьте уверены! Вздохнул и замер, обозначив на фоне окна свой аскетический профиль. Империя с прекрасным именем «Россия» была религией его жизни. А побег к японцам, пожалуй, в чем-то ей вредил.
Генерал Занкевич ушел. Анна и Колчак остались в тревоге: выследили партизаны!
– А помните, Ваше Высокопревосходительство, трактир? На Морской!
– На Морской «Франция», – свел брови Колчак.
– И трактир. Вы заказали мороженый пунш из морошки.
– Да?
– А на жаркое – каплун, перепела и дрозды!
– И все это съели?
– Так сколько ж мы там усидели!
И Колчака непреодолимо потянуло смять ее в объятиях!
– Белужина с хреном, красным виноградным уксусом, – вкусно чмокнула Анна Васильевна. – И, помните, подавали курительные трубки со съемным аппаратом из гусиного пера.
– И вы кашляли, как старый дед – помню, как же. А на первое? – входил в азарт и он.
– Да вот, – повела в воздухе рукой, – наверное, раковый суп с расстегаями.
– Как же вы умеете нагнать аппетит, дорогая Анна Васильевна!
– Но, увы, не имею возможности его утолить, любимый Александр Васильевич, – рыжей лисичкой ластилась Анна.
– А что мы пили?
– Да известно, «Лампопо» – наполовину квас и шампанское – мы же с похмелья зашли! – и оба засмеялись молодо, озорно.
Вошел бледный, перепуганный Занкевич.
– Не пускают, – развел руками.
– Кто не пускает?
– Партизаны не пускают.
Начальник штаба, кажется, жалел, что остался с «преступным адмиралом». Кому ж охота умирать? Впрочем, как-то никто не хотел верить в трагический исход. Надеялись, что Жанен пересадит в спальный вагон, и благополучно прокатят до милого города Владивостока. С его роскошной улицей Светланской. «Там тень моя осталась и тоскует».
Колчак опять откинулся спиной к стене и выговорил слово «растяпа». Не то, чтобы надеялся укрыться в японском вагоне, но досадно за честного, благородного Занкевича – что же все такие неумехи? Ну, взялся сделать что-то, так и делай! Кровь из носу, а намеченное надо выполнять!
Аннушка опять ластилась нежной кошечкой. Колчак отодвинулся в угол. Она заметила и уже тянула за рукав, чтоб самой залезть в глубину промороженного угла. И опять толчки и смех. К добру ли? Вздохнешь да оцепенеешь, как на приеме у дантиста. Интересно, красные будут пытать? Не хотелось бы.
– Давайте, в дурака! – Стасовала колоду. – Кто круглый дурак? – плутовато покосилась на любимого Колчака. – Карта не обманет, она все видит!
Вышел на тормоз, покурить. Да, в тамбуре ребята. Вид разбойничий. А, вообще, похожи на слесарей с орудийного завода, где когда-то начинал свой путь Колчак.
– Жмёт? – поежился.
– Маленько есь! – отозвался заросший дурным волосом партизан. Брюнет, но от осыпной вши кажущийся блондином.
– Тебе бы в баню сходить.
– Сходим! – оскалился блондин, – дело сделаем – и сходим.
– Паперёска не найдется? – подвернулся совсем еще молоденький бандит.
Колчак протянул портсигар – и грязные, в болячках, неловкие пальцы, натыкаясь друг на дружку, полезли за «паперёсами».
– Из благородных – сразу видать, – усмехнулся партизан. – А то прыгай! – приотворил дохнувшую снегом дверь. – Прыгай!
– Нам только один и нужен, – прогудел простуженным голосом блондин, – ихний главный кровосос.
– Колчак?
– Он самый.
– А это я и есть! – выговорил твердо. Партизаны взглянули – и не поверили.
– Тот, наверно, в собольих шубах ходит. – Но все ж насторожились и прыгать с вяло бегущего вагона уж не предлагали.
– Колчак где-нибудь под лавкой, в бабьем салопе дрожит! – засмеялся молоденький. Коротко хохотнули. На старика в яловых сапогах и солдатской шинели будто и внимания не обращали. Докурили папиросы до самых мундштуков. Принялись обильно плеваться. Колчак вернулся в купе. Теперь он знал: сдадут!
Когда он вернулся, чуткая Анна поняла, что что-то нехорошо переменилось. Потекла судьба по ведущему в подземный омут руслу. Будто дверь к солнцу и ясному дню захлопнулась. Сумрачно стало на душе. «И тяжкой плитою могильной слепые давят небеса». Зябко поежилась, угнездилась под бок Колчака.
– У вас была такая меховая лента…
– Боа, – кивнула, – да вот, не помешала бы.
В соседнем купе хохотали офицеры и, если прислушаться, можно различить обрывки анекдотов. Все то же, про рядового Петрова.
Вышла старушка вылить на помойку ведро. Пока присматривалась, прислушивалась к деревенским новостям, помои подтекли под валенки – примерзла старушка. Рядовой Петров тут как тут! Согнул бабушку и…поступил с нею опрометчиво. Народ возмутился: какой конфуз! Судить надо этого мерзавца! А Петров им: «Это вас судить надо! Старушку еще… можно, а вы ее на помойку выбросили!» – и опять здоровый, полнокровный хохот.
Да. Умирают все по одиночке.
ГЛАВА 20
Пятнадцатого, уже по темну, прибыли в Иркутск. В коридоре загрохотало, и будто залаяла свора собак! В купе ввалилась разношерстная, до зубов вооруженная команда.
– Вы арестованы! – выкрикнул комиссар. То же, что в Екатеринбурге. Только имена другие: не Шая Голощекин с Янкелем Юровским, а какие-то, пока безвестные, революционеры. Напичкалось – не протолкнуться. Загомонивших офицеров оттеснили, привели в надлежащее чувство покорности. Изо всего вагона присутствие духа сохранил, кажется, только один человек – Анна. Резко осадила командира захватной команды, передразнив его картавое «руки вверх». Оттолкнула особо наглого солдата.
Перрон качался и уходил из-под ног. Больше двух месяцев – на колесах! Прошли в вокзал. Повернули в одну сторону, в другую, зашли в какую-то комнату. Еще в вагоне Колчак забрал у Анны браунинг и теперь его, как очень важную улику, изъяли. Рассматривали, даже обнюхали. И еще долго выхлопывали карманы, щупали и спереди, и со спины – пушку они хотели найти, что ли. Комиссар задавал свои глупые вопросы: Кто? Откуда? Куда следуете?
Александр Васильевич несколько раз настойчиво просил Анну уйти – она только головой трясла да подбородок вскидывала вверх. Иногда могло показаться, что это она арестовала эсэров! Требовала документы, всем говорила оскорбительное «ты», вела себя аффектированно. Может, хотела подать пример своему адмиралу? Колчак держался достойно. Но… организму не прикажешь. Длинные полы шинели дрожали. Приведенный из другого вагона Виктор Николаевич, этот бульдожьей крепости человек, вообще потерялся. Что-то торопливо бормотал, озирался, крутил головой. Оно и трудно вести себя иначе, когда попадаешь в стаю людоедов.
Колчак ведь, кажется, умный человек, а имел глупость воззвать к их благородству:
– Женщину-то отпустите.
– Нет! Я с вами, – отчеканила твердо и шагнула к двери в готовности взойти на Голгофу.
На широкой привокзальной площади, заиндевевшие на морозе лошади. Посадили в сани. Всех в разные.
– В гостиницу? – пошутил Колчак.
– В гостиницу, – уронил комиссар.
«Гостиница» оказалась крепкой. Трехэтажной. С железным грохотом открывали и закрывали двери. Колчаку при этом всякий раз приказывали повернуться к стене.
– Вот ваш номер! – не сильно, но жестко толкнули в спину. Опять загремели засовы. Хрустнув, повернулся в скважине ключ. Адмирал осмотрелся.
Одиночка.
Поместительная. В длину шагов около десяти. Ширина, конечно, поменьше. Железная кровать. Таз с кувшином. Холодно. Вода в кувшине схватилась льдом.
– Это хорошо! – опять судьба, как много лет назад, бросила в суровые условия зимовки. – Замечательно! – голос в пустом помещении звучал гулко, мощно, и не удержался, взял ноту: «Гори, гори, моя звезда!» Пол под ногами все колебался, плавно плыл то в ту, то в другую сторону, а он шагал по камере, как по палубе, давая ослабшим за последние недели ногам возможность восстановить силы.
Странно, но было такое ощущение, что добрался до дома. Конечно, хотелось бы обитель комфортнее, но ведь могло быть и хуже. Под потолком, в железной дырчатой трубе – лампочка. Можно даже и читать. Если бы было что. На единственной полке оловянная тарелка. Кружка. Топнул в пол раз, другой – глухой звук. Монолит. Постучал в стену. Сначала для проверки крепости, а потом и азбукой: «SОS!» Тишина. Нет ответа. Только тупые шаги в коридоре. И оглушительный грохот удара в лязгнувшую засовами дверь.
– Я т-тебе, б…, постучу! – Часовому, наверное, приятно прикрикнуть на Колчака! Даже, пожалуй, и ударил бы. Не со зла, а для истории. Чтобы потом рассказать: «Вот этим самым кулаком и заехал в евоное рыло!» И вдруг все провалилось. Тьма кромешная. Какое-то время стоял, моргал и не видел ничего. Ждал: не включат ли? Шагнул – налетел на ввинченный в пол табурет – заскулил. Выругался. Осторожно шагнул еще и еще – наткнулся на стену, перебираясь, нашарил дверь. Постучал.
– Эй, как тебя? Что со светом?
– Спи, сука! – ответили из коридора. – Свету ему подавай. – Да, злобы в голосе часового, пожалуй, и нет. Только служебная строгость. А как же без нее? Хороший солдат.
Добрался до койки. Сел. Ржаво заскрипела – вот-вот развалится! Качнул туда, сюда – стоит. И кровать хорошая! – повалился на бок, застыл в неловком, полусогнутом положении. И все бы хорошо – мучила мысль об Анне. Как там она, бедная? Вот навязалась-то… декабристка!
Каждое, даже легкое движение отзывалось скрипом и звоном. На брачную ночь бы подарить тому комиссару, что арестовал на вокзале.
– Мерзавцы! – полнокровно бросил в пустоту, и многоголосое эхо улетело куда-то вверх и в стороны, как взрыв гранаты.
– Мерзавцы!
Подождал минуту и повторил полюбившееся слово. Тишина. Ушел караульный. Наверное, спать завалился.
Встал, притопывая каблуками, мелкими шажками тронулся вперед – и ослеп от брызнувшей боли. Врубился лбом во что-то. Нашарил стену, пошел вдоль нее, вытягивая руку, чтоб не наткнуться. И удивительное дело, скоро научился чувствовать близость предметов! Не видел, но ясно чувствовал: вот он, близенько. Будто шум какой. Немота. Трогал – точно! И долго еще мягко похлопывал, выстукивал стены – пока не устал.
Вернулся к железной кровати. Достал платок. В углу зашита ампула. Положил в рот. Примериваясь к самому черному в своей жизни поступку. Онемел на какое-то время и, заторопившись, убрал.
Он успокоился и даже заснул, но пробирающая до костей стужа скоро разбудила. Трясло, ломало ознобом, скрючивало, как малярийного больного. Он знал, что нужно мысленно бросать руки и ноги в разные стороны – и тогда постепенно согреешься. Но ничего не получалось. Трясло. Сколько мог, подворачивал полы шинели, шевелил пальцами ног. Наконец, замер и принялся медитировать: опять видел себя под экваториальным солнцем. «Какая жара! О, как мне жарко!» – и успокоился и провалился в сон до самого утра.
То есть, конечно же, просыпался – но это ангел-хранитель будит нас темной ночью, чтоб не забывали помолиться за ближних своих. И Колчак просил Богородицу Деву пожалеть Анну – и опять согревался, и опять плыл на теплых волнах мечты и усталости в счастливую страну сновидений. Там он опять был молод, силен и сказочно удачлив! Там взлетал на его мине крейсер «Такасаго»; там благополучно выбирался из ледяной полыньи.
ГЛАВА 21
Утро порадовало солнышком. Лежал и тихонько улыбался щекочущему теплу зимнего луча. Жизнь все-таки хорошее, интересное занятие!
Кто-то стучал в стену. Но шифр непонятный. Не азбука. Вот и пожалеешь, что не сидел в тюрьме прежде. Надо бы знать и такой код. Какой-то квадрат, говорят, вроде таблицы умножения.
Энергичным движением встал, принялся делать гимнастику.
Сломал в кувшине корочку льда, умылся до пояса.
В коридоре тоже оживление: лязганье засовов, дверей, топот, нечленораздельные звуки. Скоро посредством выдвижной коробочки подали кашу. Горячую! Гречневую, на воде – какую особенно и любил. Да еще и кипятку в кружке. Что еще надо приговоренному к повешенью человеку?!
Вошел охранник, с виду вполне добродушный. Смотрит весело. Тюрьма и, правда, что-то вроде гостиницы: кого-то принимают, кого выписывают. В преисподнюю. В рай! На днях Самуила Чудновского совсем уж, было, расстреляли – выпустили! Теперь при портфеле и нагане – начальник «чека»! Может, и с адмиралом то же будет. Да и жалко мужика, сразу видно, душевный. Говорить долго не говорили, а газеткой со щепоткой самосада Андреич поделился. Пусть прочистит адмирал дыхательный путь дымом, может, и в голове выйдет прояснение, покается в грехах да даст обет не грезить против новой власти. Отпустят!
– Бритвочки – разрешают! – прогудел на вопрос адмирала, – это – нет ништо! – успокоил узника и пошел дальше, выполнять свои нехитрые обязанности.
Колчак пожевал губами, усмехнулся: вот и я встретил своего дядьку Морея. Как Достоевский.
Если в поезде мучила неизвестность, горечь потери, предательство близких – то теперь это все позади. Прекрасно понимал, что расстреляют. И необходимо только одно – безразличие. Если последние месяцы, на воле, он катился под гору, в какую-то страшную яму, то в юдоли вдруг ощутил возвращенье прежних сил. Теперь все в жизни зависело от него! Оставалось только не ударить в грязь лицом. То есть оставаться тем простым, неприхотливым и смелым человеком, каким был всегда.
И все будет хорошо.
И уже радостно смотрел на кусочек голубого неба. Иркутск, город, с которым, никак не связывал планов, сыграл странную роль. Здесь, в Харлампиевской церкви, венчался с Соней Омировой. И вот, заброшен совсем с другой женщиной. И, скорей всего, придется сложит здесь головушку. Не повезут же через всю страну в Москву, на Лобное место. Теперь это делают тихонько. На рассвете. В подвале. Какой-нибудь Юровский разрядит свой револьвер в бело тело Колчака.
Кстати, тело не такое и белое, и чего бы только не дал, чтоб сходить в русскую баньку! С каменкой и угарцем. И чтоб жара такая, когда щекотно ввинчивается до самых костей, трещит на голове волос! И с полка бы – одурев от жары, босиком в сугроб! Сибирь. Здесь это просто. Если спросят последнее желание – буду клянчить парную!
И уж другой, легкой походкой пошел по камере. Нет. Не десять шагов в длину – только семь, а поперек и четырех не выходит. Но зато времени – хоть отбавляй. Приходится убивать.
Невольно задумался, рассматривая себя с той и другой стороны: что же это, может сюда угодить? Или сюда. И уже через день другой эта рука закоченеет. И то, что сейчас ходит, думает, смотрит в окно – успокоится навеки. И зачем была дана жизнь? Он посвятил ее без остатка служению отечеству. И вправе бы не требовать, а попросить снисхождения-в виде спокойной старости. И какого-нибудь внука или внучку. Для утешения преклонных лет. А вместо этого – пулю. Скверный анекдот! – как сказал бы узник из города Омска.
Легко, почти весело вышагивал по камере и поглядывал на массивную, с «волчком» дверь, мол, скоро ли вы там? Я готов! И насвистывал военный марш, лихо, со скрипом, поворачивался на углах. Самое главное – выполнить долг. А там… уж ничего не страшно, там любая потеря только приближает… к чему? Уж не к святости ли? Неужели, так?! А что? – остановился адмирал, – могут и причислить. К лику святых. Ни хрена себе: святой Александр Колчак!
Твердо ступая, продолжил путь в никуда по периметру камеры. Революционный солдат – с той стороны – припал к волчку, смотрел на «страшного адмирала». Ждал: повернется, оскалится клыками, и полезут из седых волос козлиные рога. Но нет… ни хвоста, ни клыков. Разве что… копыта. Стукоток, вроде как копытный.
Завизжали позади железные двери – солдат отскочил от камеры со счастливой цифрой «5». Вытянулся во фрунт – несет службу, на преступных людей и смотреть не хочет!
Бурсак. Караульный знал его как начальника тюрьмы. Только фамилия тогда была другая: «Блятьлиндер». Железно ударил обойкой приклада в пол, приветствуя начальника. За Блатлиндером – Нестеров. Капитан. Как мухи слетелись на пирог. Неймется посмотреть. И уже из-за спины Нестерова прогремел ключами Андреич. Полно ключей. И узелок в руках. Передача от кого-то. Рука ногу моет! Буржуи уж чего-то послали. А эти передают. Одна шайка лейка! Часовой смотрел на начальство остекленевшими в преданности глазами.
– Как он?
– Тихий! Ходит много!
– Ходит?
– Точно так, ходит!
– Ну, пусть походит, – комиссары оскалились и заржали, как кони на лугу. Блатлиндер-Бурсак скрипел кожей, вытанцовывал в предвкушении исторической встречи с врагом революции номер один.
– И здесь попасть не можешь, – намекая на скабрезное, прикрикнул на Андреича. – Тот суетно тыкал ключом в скважину и тоже хихикал.
Дверь с визгом отворилась – вошли.
Адмирал поклонился, встречая добрых гостей:
– Прошу, господа.
Нужно было оборвать арестанта, изменить тон отношения, но они молчали и смотрели. Их смутил взгляд: ясный, приветливый. Ожидали увидеть озлобленным, затравленным, может, надменным или трусливым – но никак не сияющим светом дружелюбия. Что это? Коварство?
Даже Бурсак, давно оскотинившийся на своей собачьей работе, – потерялся под ясными лучами взгляда Колчака. Адмирал будто спрашивал: чем могу быть вам полезен? Бурсак заготовил фразу: «Как вам в новых апартаментах, господин Верховный правитель России?!» Но что-то случилось, мысли перепутались, и слово не шло с языка. Нестеров вовсе повел себя неприлично: смотрел во все глаза и, кажется, готов был бросить ладонь к виску и выполнить любое приказанье адмирала.
За минуту до комиссаров – Колчак открыл новый путь. Еще с детства, помимо миража честолюбия, в душе его неустанно теплилась любовь к жизни монастырской. И теперь казалось, что смог бы быть хорошим иноком. Он будто перевоплотился в того воображаемого иерея, которому ничего не надо в жизни, кроме служения ближнему.
– Жаль, не могу угостить чаем. – И еще долго потом капитана Нестерова преследовал его ясный, небесно чистый взгляд.
– Я думаю, в этом вы недостатка испытывать не будете.
– Да. Чай будет, – кивнул элегантный Бурсак.
Колчак порхнул пальцами, мол, это так не важно – самое главное, что встретились и есть возможность поговорить по душам. Революционеры никак не могли справиться с собой. Не лясы же точить они пришли к нему! И уж совсем не друзья встретились в этом продолговатом каменном мешке.
– Однако не забывайте, что вы здесь не на курорте! – взял нужный тон Бурсак. – Не в Карлсбаде.
Колчак обвел камеру взглядом.
– Да я ведь только в Японии и отдыхал от трудов… – «праведных» – выговорить не решился.
И разговор потек, как и должно ему течь, в русле допроса.
На прощание Бурсаку пришла фантазия сверкнуть великодушием:
– Тут вам продуктов успели натащить – получите!
Колчак попросил постельное белье, предметы быта. Комиссары обещали.
Они уже ушли. А с Колчака все не хотела схлынуть волна светлого умиления. Все-таки любят. Узнали – и несут передачки. Не боятся! Да и революционеры какие-то не страшные. Это вчера показались такими. С непривычки. Если так дело пойдет, могут оставить в живых. Ведь лично-то, слава Богу, ни в каких преступленьях не замешан.
Часовой в коридоре слышал, как Нестеров сказал:
– Херувимчиком прикинулся!
– Он и адмирала-то получил тем, что на паркете был мастер танцевать. Царице очень нравился! – и захохотали от сознания власти и радости быть хозяевами жизни!
Появилось много свободного времени, и он теперь много молился. И все как-то за упокой родителей. К ним испытывал особенную нежность, благодарил за их заботу и любовь. Молил многие лета и благоденствие сыну. Софье. За здравие и счастье рабы божьей Анны. Пытался, было, помолиться за продление дней жизни себе – да в голову влетела странная мысль. Если представить жизнь, как течение реки к океану, и пусть какой-то очень понравилось течь, и стала бы просить Бога продлить ее русло! И что? Пустить ее воды по какому-то кольцу? Что получится из этой реки?
Относительно своей судьбы осталась одна краткая молитва: «На все твоя воля, Господи».