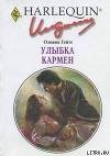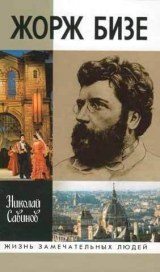
Текст книги "Жорж Бизе"
Автор книги: Николай Савинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Нет. Точку ставить еще рано!
Остановимся здесь. И не потому, что автору больно расстаться с героем – хотя это естественно… Дни отмерены. Бизе больше ничего уже не напишет…
***
В мае 1888 года Фридрих Ницше писал из Турина:
– Я вчера слушал – поверите ли вы мне? – в двадцатый раз мастерское произведение Бизе. Я опять со сладостным благоговением досидел до конца, я опять не убежал. Эта победа над моей нетерпеливостью изумляет меня. Как совершенствуешься от такого произведения! Становишься сам образцовым произведением. И в самом деле, каждый раз слушая «Кармен», я казался себе более философом, лучшим философом, чем обыкновенно, – таким снисходительным, таким счастливым, таким индусом, таким усидчивым… Пять часов сидения – первый этап на пути к святости!..
…Музыка Бизе кажется мне совершенной. Она подходит к вам легко, гибко, с вежливостью… Эта музыка жестока, утонченна, фаталистична – при этом она останется народной, – она выражает утонченность целой расы, а не отдельного лица.
Она богата. Она определенна. Она строит, организует, заканчивает: этим она представляет противоположность музыкальному полипу «бесконечной мелодии». Раздавались ли когда-нибудь со сцены более страдальческие, трагические звуки? И как они достигаются! Без гримасы! Без фальши! Без лжи высокого стиля! Наконец, эта музыка обращается к слушателю, как к разумному существу, даже как к музыканту… Мне начинает казаться, что я переживаю ее возникновение… Бизе делает меня творцом. Все прекрасное пробуждает во мне творчество. У меня нет другой благодарности, у меня нет другого мерила для того, что прекрасно…
Слушая его, говоришь «прости» сырому северу и туману вагнеровских идеалов.
Уже самый сюжет освобождает от него. Он сохранил от Мериме логику страсти, кратчайшие линии, суровую необходимость; из своей жаркой родины он принес сухость и limpidezza [9]9
Limpidezza– прозрачность, ясность, чистота (итал.).
[Закрыть]воздуха. Тут во всех отношениях царит другой климат. Тут говорит другая чувственность, другая чувствительность, другая веселость. Музыка эта веселая, но это не французское веселье и не немецкое. Это – веселье африканское, над ним тяготеет рок, счастье его краткое, внезапное, беспощадное…
Я завидую мужеству Бизе, с которым он ввел чувствительность, эту южную, смуглую, жгучую чувствительность, которой до сих пор не было места в европейской музыке… Как благодетельно действуют на нас золотые полдни ее счастья! Нас как будто окружает неподвижное, затихшее море…
…Наконец – любовь, любовь, возвращенная природе! Это не любовь «возвышенной девы»; не наивная сентиментальность! Тут любовь – фатум, роковая неизбежность; она цинична, невинна и жестока, и именно потому – естественна. Орудие этой любви – война, а в основании ее – половая ненависть. Я не знаю другого случая, где бы трагический характер, составляющий сущность любви, был выражен так ясно, вылился в такую беспощадную формулу, как в этом последнем восклицании Хосе, которым заканчивается все произведение: «Да, я убил ее, мою обожаемую Кармен!» Такое понимание любви (единственное достойное философа) редко, и проникнутое им произведение искусства выдвигается из тысячи.
…Двумя годами раньше – 8/20 января 1876 года – в Париже, «Кармен» слушал Петр Ильич Чайковский в той же «непринятой» французской элитой первой постановке. «Редко в жизни я видел брата таким взволнованным от театрального зрелища!» – вспоминает Модест Ильич.
«Кармен» входит в душу великого музыканта.
«17 июля 1888 года. Симаки. Проиграл «Кармен» всю от начала и до конца и воспламенился снова любовью и удивлением к этой чудной опере, – пишет брату Чайковский. – У меня даже в голове явился план статьи, в которой должна быть проведена та мысль, что «Кармен» едва ли не самое выдающееся лирико-драматическое произведение нашей эпохи… Статьи же, конечно, я никогда не напишу, ибо нехватит умения, сведений, одним словом всего того, что есть у Лароша. А жаль! ибо я готов присягнуть, что лет через десять «Carmen» будет считаться абсолютным chef d'oeuvr-ом. Вот что я писал:
«Кармен», по-моему, в полном смысле chef d'oeuvre, т. е. такая вещь, которой суждено быть в сильнейшей степени отразительницей музыкальных вкусов и стремлений целой эпохи. Мне кажется, что переживаемая нами эпоха отличается от предыдущих той характеристической чертой, что композиторы гоняются(чего не делали ни Бетховен, ни Шуберт) за хорошенькимии пикантнымизвуковыми эффектами… Музыкальная идея ушла на задний план; она сделалась не целью, а средством, поводомк изображению того или другого сочетания звуков. Прежде сочиняли, творили,теперь подбирают, изобретают.Такой чисто рассудочный интерес музыкального измышления отражается в том, что современная музыка, будучи очень остроумна, пикантна, курьезна и даже вкусна(выражение, выдуманное новой русской школой и чрезвычайно характеристичное), вместе с тем холодна, не согрета горячим вдохновением. Но вот является француз (которого смело назову гениальным), у которого все эти пикантности и пряности не результат выдуманности,а льются свободным потоком, льстят слуху и в то же время трогают и волнуют. Он как бы говорит: «…вы не хотите ничего величавого, грандиозногои сильного,вы хотите хорошенького,вот вам и хорошенькое,joli. Bizet – художник, отдающий дань испорченности вкусов своего века, но согретый истинным, неподдельным чувством и вдохновением».
Вот фельетонная болтовня, в которой ты видишь мою мысль, но у меня для статьи не хватает пороху».
«Это музыка, полная солнца и движения… своею естественностью и ясным осознанием духа своего народа она значительно опередила свое время. Какое место занял бы Бизе в нашем искусстве, проживи он еще двадцать лет!» – писал Ромен Роллан.
Конечно, «Кармен» – это французская классика, произведение французского мастера. Но можно ли позабыть, что Альбенис писал в свое время Шарлю Олмон: «Я не знаю, как Бизе удалось это сделать, но Испания не родила ничего более испанского, чем «Кармен»!
«Бизе не был в Испании, – заявляет Рауль Лапарра. – «Кармен» – вещь рожденная интуицией, а не точностью наблюдений. В ней – дистанция между воображенным и истинным».
Тем не менее Бизе знал андалузский фольклор – для этого вовсе не обязательно было уезжать из Парижа. После кровавых событий 1823 года многие из повстанцев эмигрировали во Францию. В чужой стране они сохранили свои обычаи, свои песни и танцы. Среди этих изгнанников были и музыканты – Арриага, Тинторер, Либон, Миро, Сальвадор Даниель, сын которого стал крупным специалистом в области народной песни и активным деятелем Парижской Коммуны. И один из самых прославленных – Мануэль Гарсиа, композитор, певец, театральный деятель, педагог, воспитавший немало певцов – в том числе своих двух дочерей – Марию Малибран и Полину Виардо. Еще в юности Жорж Бизе познакомился с Педро Эскудеро – профессором класса альта и виолончели Парижской консерватории, с композиторами Мигуэлем Терраморелем и Сальвадором Сармиенте. Он читал и солидный труд Геварта об испанской музыке, опубликованный в 1852 году, и считал Франсуа Геварта «большущим музыкантом, эклектиком», вкладывая в это понятие широту творческого диапазона. Вряд ли он прошел и мимо капитального труда Серафина Эстебаньеса Кальдерона, вышедшего в 1823 году и посвященного испанским песням.
Но ведь все это знали и другие французские – а тем более уж испанские! – музыканты…
Нет, «Кармен» – это чудо. А чуда – не объяснишь!
«Мне очень хотелось бы приобрести партитуру (не клавираусцуг) оперы Бизе «Кармен», – писал 25 июня 1882 года Иоганнес Брамс своему другу, издателю Зимроку. – В хороших ли вы отношениях с Шуданом из Парижа? Можете ли вы ему написать либо сказать мне, во что бы она мне обошлась? Она нужна ведь не для театра, а для моего собственного удовольствия… Мне хотелось бы иметь ее, поскольку это поистине превосходное сочинение и мне оно совершенно особенно дорого и интересно».
«Из современных ему опер, – пишет исследователь Екатерина Михайловна Царева, – Брамс предпочитал всем прочим «Кармен» Бизе, сходясь в этом и со своим антагонистом Вольфом, и с Чайковским. Причина, вероятно, в том, что для всех троих высшим идеалом прошлого был Моцарт, а именно Бизе – как никому другому – удалось «повторить» Моцарта, встав на сходную позицию синтеза жанров и форм («Кармен», как и «Дон Жуан», – своего рода dramma giocoso), на позицию естественного союза музыки и театра, имевшего крепкие корни во французской культуре. «Повторил» он и моцартовское сочетание бытового и высоко обобщенного, возвышенного планов, и реализованную Моцартом в «Свадьбе Фигаро» возможность использования в опере современного (и социально окрашенного) сюжета. А ведь, в отличие от многих, сюжета он специально не искал, а просто (как это часто делал и Моцарт) «выполнил заказ». Было чему позавидовать современникам!»
Протянулись и нити в грядущее. «Хотят видеть в «Кармен» веристскую оперу, хотя веризм не существовал еще в 1875 году. После Лейлы, Маргариты, Офелии – какой резкий поворот через «Кармен» к веризму «Сельской чести» Масканьи!» – написал современный французский музыковед Жан-Луи Дютрон.
«Кармен» покорила мир.
Остается лишь с горечью констатировать, что редакция Эрнеста Гиро, в которой большинство слушателей знают «Кармен», далеко не в лучшую сторону отличается от оригинала и что возвращение к подлинному Бизе идет слишком медленно.
***
Возвратимся, однако, в минувшее.
Простившись с Гиро, Бизе написал письмо Дю-Локлю – человеку, тяжко виновному в неуспехе «Кармен»:
– Мне хотелось пожать вам руку, но ничто в мире не вынудило бы меня подвергнуть вас риску заразиться от меня болезнью, которой я до сих пор страдаю… Не буду вновь благодарить вас; но как здорово вы меня отстаивали! И сколь трогают меня свидетельства вашего расположения! Я думал добиться большего! – Я надеялся на лучшее, признаюсь! Поэтому я был так расстроен, – не за себя, но за вас, – в том, что касается меня, я вполне удовлетворен. Поцелуйте за нас обеих ваших прелестных дочек и передайте г-же Дю-Локль мое большое огорчение по поводу того, что я так невежливо уезжаю. Ваш друг Жорж Бизе.
…Чем так боялся «заразить» Дю-Локля Бизе и почему он не испытывал этой боязни по отношению к Эрнесту Гиро? Где и как «отстаивал» его Дю-Локль? Может, в давних спорах с Левеном? Или в каких-то конфликтах, которых было немало в предпремьерные дни?
Или это было и впрямь прощание – в самом широком смысле, и прощание и – прощение, для которого личная встреча и тяжка, и не так уж необходима?
Каким грустным итогом звучат эти строки последнегоиз написанных Бизе писем: «Я думал добиться большего! – Я надеялся на лучшее, признаюсь!»
Они выехали из Парижа утром 28 мая – Жорж Бизе, Женевьева и Жак, которому было почти три года, – вместе с Марией Рейтер и ее сыном Жаном, горничной Женевьевы Элизой и ее маленькой дочкой. Поездом добрались до Пека, остановились на обед в отеле «Мадрид», который находился на излучине Сены, и, подкрепившись на свежем воздухе, в коляске добрались до Буживаля, где супруги Бизе с лета 1874 года отдыхали в небольшом двухэтажном доме, на улице, ныне носящей имя Ивана Тургенева – русский писатель купил тут особняк для обедневшей семьи Полины Виардо.
По обеим сторонам двухэтажного дома росли каштаны, сзади – несколько лип и лаковых деревьев с тремя клумбами между ними. С террасы были видны берег и волны реки. В комнату великого музыканта на первом этаже вела внутренняя лестница, сохранившаяся и поныне. Направо по коридору была дверь в более отдаленные комнаты.
То, что произошло в этих стенах, по сей день остается загадкой.
По приезде Бизе почувствовал себя лучше. 29 мая он вышел на прогулку вдоль Сены – с женой и Делабордом, который жил неподалеку.
Бизе очень любил холодную воду и даже устроил у себя в кабинете душ для тех дней, когда погода не позволяла купаться под открытым небом. И, конечно, на первый взгляд не покажется странным, что он вдруг бросился в Сену и принялся плавать наперегонки с Делабордом.
Но вдумайтесь!.. Это делает человек, только что перенесший болезнь, лишившую его – музыканта! – слуха… Человек, в течение всей жизни подверженный тяжким ангинам и, стало быть, отлично знающий, как вести себя в подобных случаях…Промучившийся целый месяц – и еще не оправившийся от последнего приступа…
Легкомыслие?
Как в это поверить?
Последствия не заставили себя ждать. В воскресенье 30 мая начался новый приступ ревматизма с сильнейшей лихорадкой и ужасными болями – приступ, осложнившийся почти полной потерей подвижности рук и ног. В понедельник значительного улучшения не произошло, однако грозные явления несколько отступили – руки и ноги постепенно стали ему повиноваться.
В ночь на вторник разразился сильнейший сердечный приступ – Бизе показалось, что он умирает. Когда в час ночи явился доктор Клеман Лоней, вызванный Делабордом, приступ уже окончился и Бизе спокойно спал. Доктор ушел после того, как поставил нарывной пластырь на область сердца. Он явился на следующий день – в среду, в 8 утра – и сказал: «Кризис прошел. Опасности больше нет».
Однако в то же утро из Сен-Жермен-ан-Ле прискакал кем-то срочно вызванный в Буживаль Людовик Галеви. Через 20 с лишним дней после этих событий он записал в дневнике: «Я застал Женевьеву в слезах. Бизе был беспокоен. Он бредил».
Был ли вновь вызван доктор?
Нет.
Почему?
«Днем стало лучше, – записал Галеви, – Бизе успокоился».
Не «отредактированы» ли события?
Безусловно, Галеви знал, что его дневники могут быть опубликованы – ведь и были впоследствии изданы два объемистых тома! И не случайно же он, в свое время, уничтожил 70 страниц, касающихся непонятной гибели Эстер!
Может быть, день все же прошел чуть спокойнее, чем предыдущий. В половине девятого маленький Жак вместе с Жаном, которому было уже 13 лет, пришли к отцу, как обычно, пожелать доброй ночи. Бизе их обнял: «Идите спать, мои милые ребятишки».
В десять часов вечера он сказал: «Я немного посплю».
В доме воцарился покой.
Но час спустя, по свидетельству Галеви, начался новый сердечный приступ. «Делаборда! – закричал Жорж Бизе. – Позовите скорей Делаборда!»
В ожидании Делаборда, он шепнул Марии Рейтер: «Бедняжка Мария, я уже холодею. Это холод смерти. Как вы скажете об этом моему отцу?»
Что это было? Ухудшение – или обычный озноб, свидетельствующий об окончании сердечного приступа?
И – в любом случае – почему Бизе вызвал именно Делаборда, а не врача, не Людовика Галеви, не жену или еще кого-нибудь из домашних?
Дальше свидетельства расходятся. Есть две версии. По одной он лишился сознания еще до появления Делаборда. По другой он разговаривал с ним.
Первая версия очень удобна – прежде всего для Делаборда: не пришлось объяснять, почему был вызван именно он и о чем шла беседа.
Нашлось, впрочем, и объяснение – однако весьма компрометирующее Делаборда: именно ему, а не Людовику Галеви, не двоюродному брату жены, Бизе поручил заботы о будущем Женевьевы.
Когда? Если не было этой беседы – когда именно?
Раньше?
Допустим.
Но почему именно Делаборду? И что делал он у постели Бизе целый час, если Бизе был действительно без сознания?!
Через час явился доктор. Делаборд вышел к нему навстречу: «Наконец-то!.. Он в обмороке. Что делать?»
– Ничего, – спустя мгновение ответил врач. – Он мертв».
Такова официальная версия. Но ее трудно совместить с некоторыми странностями.
Сообщили, что Жорж Бизе умер от сердечного кризиса. Однако через несколько лет Женевьева, ставшая во втором браке мадам Бизе-Штраус, выдвинула совершенно иной вариант – «опухоль в ухе, которую ни один из хирургов не решил оперировать в надежде, что она рассосется сама».
Мания придумывать невероятные версии была ей свойственна – вспомним хотя бы историю с мнимым сообщением о предложении вступить в брак, якобы переданном через Фроманталя Галеви! Но, быть может, версия была не такой уж фантазией и служила объяснением некоей компрометирующей неожиданности, слух о которой разнесся мгновенно? Дело в том, что, узнав о кончине Бизе, одним из первых поспешил в Буживаль молодой Антони де Шудан, очень друживший с композитором.
– Бизе еще хранил на шее след от резаной раны, —рассказал он.
Антони де Шудан оказался единственным из посторонних, кто видел Жоржа Бизе на смертном одре. Никого больше, вплоть до дня похорон, к телу не допустили.
Был ли этот кровавый шрам следом кровоизлияния после прорвавшегося нарыва на барабанной перепонке левого уха?
Попытка именно так объяснить этот шрам была сделана – и отвергнута как несостоятельная с медицинской точки зрения.
Не выдерживает критики и заявление Женевьевы о том, что «ни один из хирургов» не решился оперировать опухоль – нужен был бы простой прокол. Сведений о том, что вообще обращались к хирургам, нет решительно никаких. Доктор Дюфур, постоянный врач этой семьи, был в отъезде. Перед выездом из Парижа в Буживаль Женевьева посоветовалась с другим врачом, «который не знал истории болезни и даже не поинтересовался ею, выразив мнение, что выздоровление будет более быстрым в деревне».
Этот врач Клеман Лоней тоже не был хирургом.
Что же видел Антони де Шудан?
Разумеется, эту рану не мог нанести кто-либо из домочадцев. Обвинение или подозрение против Делаборда – человека, который последним оказался наедине с Бизе (бодрствующим или пребывающим в бессознательном состоянии) с 11 до 12 часов ночи, должно быть совершенно отвергнуто: Бизе сам позвал его, а Делаборду и незачембыло идти на подобное преступление – Бизе не был серьезной помехой в его отношениях с Женевьевой. Пожалуй, трагедия крылась именно в этом.
Если и был человек, которому понадобилась смерть Бизе – исход, разрубающий все узлы, – то это сам Жорж Бизе. Кстати, и Шудан заявлял, что, по его мнению, Жорж Бизе сам нанес себе эту рану.
Состоялась ли все же ночная беседа Бизе с Делабордом?
Весьма вероятно. Дело в том, что после кончины великого композитора Делаборд – полагают, во исполнение предсмертной просьбы Бизе – сделал предложение Женевьеве и оно было принято.Однако Людовик Галеви воспротивился этому браку, заявив, что такое использование «корнелевского великодушия умирающего Бизе»породило бы ненужные толки.
Стало быть, эта предсмертная встреча Бизе с Делабордом все же имела место? Стало быть, имелисьоснования для «ненужных толков», если их следовало опасаться?
Сопоставим события. Перед отъездом из Парижа Бизе, будучи больным, просматривает свой архив и уничтожает часть материалов.
В меру своих финансовых возможностей – а гонорар, полученный от Шудана-старшего за издание партитуры «Кармен», позволяет в какой-то степени это сделать – Бизе пытается как-то обеспечить Марию Рейтер и ее (их общего) сына «прежде чем придет беда».
Он поручает Гиро сочинение речитативов к «Кармен» – то есть, по существу, создание совершенно новой редакции оперы,в которой она сейчас и идет в большинстве театров мира.
В Буживале он, перенесший тяжелую, измотавшую его силы болезнь, «легкомысленно» бросается в холодную воду. Врач выводит его из критического состояния, вызванного этим непонятным купанием, и заявляет, что опасности больше нет.
Допустим на мгновение, что после беседы с Эли Делабордом (похоже, что она все-таки состоялась) Бизе принял окончательное решение устраниться и лишить себя жизни. Какой же удар он мог нанести себе, если хотел сделать Женевьеву свободной для брака с ее новым избранником («корнелевское великодушие умирающего Бизе», по словам Галеви, – если не в этом, так в чем оно?).
Это мог быть удар в сонную артерию. Смерть наступила бы очень быстро, но с сильным кровотечением. Об этом в рассказе Шудана нет ни единого слова. Правда, он прибыл в дом не сразу после кончины Бизе, следы могли и уничтожить – но Бизе еще не был переодет, а о следах крови на его одежде Шудан ни слова не говорит. Переодевать же Бизе было незачем – визит Шудана был неожиданным, а от врача скрыть что-либо было бы невозможно.
Это мог быть удар в трахею – но тогда смерть была бы мучительно долгой и подоспевший врач мог спасти жизнь больного – если, конечно, был в должной мере искусен.
Наконец, в любом случае Клеман Лоней был бы обязан зафиксировать самоубийство.
Он не сделал этого.
Почему?
Потому ли, что в действительности не былоэтой резаной раны? Потому ли, что врач решил пощадить честь семьи и не желал лишить Бизе церковного погребения как самоубийцу?
Пролить свет на эту тайну, несомненно, мог бы дневник Людовика Галеви. Но – вот странность! – строки, следующие за записью о кончине Бизе (как и о причине кончины Эстер), старательно вымараны.
Вспомним также о странном требовании Женевьевы, обращенном к друзьям Бизе после его кончины, – уничтожить все полученные от него письма за последнее пятилетие.
Семья Галеви, очевидно, не так уж была заинтересована в объективном освещении событий последних лет и этой тихой трагедии, разыгравшейся точно – день в день! – в шестую годовщину свадьбы Бизе с мадемуазель Галеви.
Между тем слухи о самоубийстве Бизе овладели Парижем. Выдвигались различные версии. Рассказывали даже, будто гибель Бизе вызвана его конфликтом и разрывом с Галли-Марье – Бизе выглядел здесь нарушителем супружеской верности. Кто бы ни был виновен в рождении этого слуха – пострадала от него талантливая певица: Галли-Марье долго потом не могла получить ангажемент на парижской сцене, а на роль Кармен пригласили другую артистку. Только через несколько лет Париж снова услышал Галли-Марье в этой партии.
Ранняя гибель Бизе была слишком внезапной, чтобы люди могли с ней примириться. Может быть, лишь в эти дни Франция начала осознавать все значение этой потери.
– Вряд ли когда-либо французская музыка расставалась со столь прекрасными надеждами, как в минуту этой преждевременной смерти, – написал позднее Пьер Лало. – Подумайте лишь об одном: когда Бизе сочинял «Кармен», ему было 36 лет; в момент создания «Арлезианки» – 33 года, и он дал уже к этому времени «Искателей жемчуга» и «Пертскую красавицу». Приблизительно в 35 лет Вагнер сочинил «Летучего голландца», а в 33 года «Риенци». До этого были «Феи» и «Запрет любви». Возьмите этих двух людей в их 35 лет и сравните творческие возможности. Кто дал более сильное, более решительное, более живое доказательство творческого гения? «Пертская красавица» и «Искатели жемчуга» выше «Феи» и «Запрета любви». И разве «Риенци» можно сравнить с «Арлезианкой»? Что касается «Кармен», то она одназавоевала весь мир: все народы не перестают ее слушать и любить… Предположим, что Вагнер умер после «Летучего голландца» – за исключением нескольких сцен, произведения неровного и тяжеловесного. Представьте, что Бизе прожил бы еще сорок лет! Сколько шедевров он мог бы создать после «Кармен»!
Бизе умер в 37 лет, не дождавшись славы, обессмертившей его имя и его произведения. Судьба снова показала свой жестокий лик. Наиболее отважные из бойцов гибнут, не увидев победы. «Слава – это солнце мертвых», – сказал Бальзак.
…Да, бесспорно, – Франция начала прозревать. Посвященные композитору некрологи нельзя читать без горечи и гнева. Те, кто еще недавно обливал Бизе грязью, отказывали в оригинальности, объявляя «оголтелым вагнерианцем», теперь называли его Мастером.
Похороны великого музыканта состоялись в полдень 5 июня в церкви Трините, где собрался «весь Париж» – свыше четырех тысяч представителей французского искусства. Здесь были Адольф-Аман Бизе, Леон и Людовик Галеви, Гиро, Делаборд, Паладиль, Массне, Гуно, Тома, Дю-Локль, Дусе, артисты театра «Водевиль», участвовавшие в «Арлезианке», вся труппа Комической Оперы, музыкальные критики, драматурги. Жюль Паделу, дирижировавший в эти дни на фестивале в Каннах, приехал в Париж на несколько часов вместе со своим оркестром.
Органист Огюст Базиль открыл траурную церемонию исполнением импровизации на темы из «Искателей жемчуга»; затем прозвучала увертюра «Отчизна» в исполнении оркестра под управлением Паделу. Певцы Дюшен и Буи (первый Гарун в «Джамиле» и первый Эскамильо в «Кармен»), глотая слезы, спели Pie Jesu, положенное Гиро на музыку из «Искателей жемчуга». Поль Лери – первый Хо-се – спел Agnus Deiна музыку антракта к сцене на ферме из «Арлезианки», затем оркестр исполнил Анданте и Адажиетто из музыки к этой же пьесе. В заключение Огюст Базиль сыграл большую импровизацию на темы «Кармен». «В нефе церкви, – рассказывает Эрнест Рейе, – произведения Бизе приобрели характер величественный и возвышенный».
Под звуки Траурного марша Шопена процессия двинулась на монмартрское кладбище. Впереди шли Гуно, Тома, Дусе и Дю-Локль, которые несли погребальные ленты, Адольф-Аман, поддерживаемый Людовиком Галеви, отец Людовика Леон Галеви, друзья, близкие, среди которых, однако, не было Женевьевы. Катафалк был усыпан белыми цветами и иммортелями.
От имени Союза драматических авторов и композиторов Жюль Барбье, написавший несколько лет назад вместе с Мишелем Карре либретто «Гузлы эмира», произнес первую речь. Потом говорил Дю-Локль: «Итак, дорога, по которой он с детства шел с такой энергией и волей, привела его к этой могиле!.. Бизе шел во главе молодой плеяды, откуда выйдут мастера будущего. Он пал накануне триумфа».
Гуно говорил последним.
– Я не задержу вас долго возле этой могилы, разверзшейся так безвременно и унесшей столько надежд, такое будущее и столько счастья – Жорж Бизе умер в 37 лет, в тот момент, когда после двух десятилетий поисков и героических усилий он нашел, наконец, свою индивидуальность, которая значит куда больше, чем успех, и которая является достоянием только самых великих артистов и ставит его рядом с самыми замечательными мастерами. Смерть унесла его в самом начале этой славной дороги. Она унесла также первые радости его сердца. После шести лет брака с Женевьевой Галеви, дочери своего блестящего педагога, который был и моим учителем, он оставил в душе вдовы печаль, являющуюся лучшим венком на его могиле. Мне остается, господа, добавить лишь то, что я слышал из уст этой молодой женщины, отчаяние которой было благородным и искренним: «В течение шести лет, проведенных с ним вместе, не было дня, о котором я не могла бы вспомнить с радостью и благодарностью». Господа, это мерило всего того, что ушло с ним в настоящем и будущем, ушло с артистом и человеком, которого сейчас оплакиваем мы.
Вряд ли, однако, Гуно цитировал подлинные слова Женевьевы – он не мог видеться с нею: сразу после трагического события Женевьева была увезена Людовиком Галеви в Сен-Жермен-ан-Ле. Она была в невменяемом состоянии и, конечно, не встречалась ни с кем из посторонних. Скорее всего, слова, сказанные Шарлем Гуно, были необходимы для репутации семьи Галеви и, в первую очередь, самой Женевьевы.
Можно понять этот поступок Гуно, вызванный жалостью. Женевьева страдала. Ощущение страшной вины было сильным – но вряд ли глубоким: в этом сердце «неудачник» Бизе занимал слишком малое место.
Женевьева оказалась истинной дочерью Леони Галеви. Марсель Пруст написал ей однажды:
«Я уверен, что в действительности вы любили лишь некий образ жизни, который менее оттенял вашу интеллигентность, чем ваш ум, менее ваш ум, чем ваш такт, чем ваши туалеты».
Весьма сомнительный комплимент.
Она не сумела постигнуть трагедию Жоржа Бизе, не смогла оценить ни величие этого человека, ни силу его любви к ней. Внешне она попыталась сохранить о нем память – в ее доме специальная комната в первом этаже была посвящена своеобразному мемориалу – там хранилось все, что связано с композитором. Она сохраняла его «при себе»: выйдя во второй раз замуж, взяла двойную фамилию: Бизе-Штраус. Вторым мужем был представитель торгового дома Ротшильдов – Женевьева, наконец, попала в свою среду. Истерики кончились, Делаборд больше не играл заметной роли. Она включилась в общественную деятельность – ее дом стал одним из центров защиты Дрейфуса. Но она даже не попыталась привить своему сыну интерес к творчеству его отца. Жак Бизе занялся перепродажей подержанных автомобилей и весьма молодым покончил с собой из-за несчастной любви – ему в полной мере передались истерические выходки Женевьевы.
Жан Рейтер, ставший впоследствии заведующим типографией «Temps», тоже оказался далеким от музыки, хоть он и создал своеобразный интимный музей, увековечивший жизнь великого композитора.
Впрочем, к чему упрекать Женевьеву! Виновата и Франция. Когда в 1954 году один из преемников Дю-Локля, директор Комической Оперы, посетил кладбище Пер-Лашез, куда, после временного захоронения на Монмартре, перенесли прах Бизе, он был потрясен запустением, в котором оказался последний приют гения. «Нужно немедленно привести в достойный вид могилу автора «Кармен» и «Искателей жемчуга», произведений, идущих в зале Фавар», – обратился он к Ассоциации драматических авторов и Комиссии изящных искусств муниципального совета.
Приблизительно в эту же пору случилось то, что можно с полным правом назвать «ограблением века». Приехавшая в Париж в поисках архивных материалов, связанных с творчеством Марселя Пруста, американка Мина Куртис случайно обнаружила у вдовы племянника адвоката Эмиля Штрауса архив семьи Бизе-Галеви. Скупив эти бесценные документы, долгое время остававшиеся в небрежении у французских искусствоведов, она увезла их в США. Куртис написала книгу, основанную на архиве. Долгое время этот труд, равно как и замечательная, истинно подвижническая работа советского музыковеда Галины Тихоновны Филенко, собравшей все известные письма Бизе и написавшей к ним подробные комментарии, были чуть не единственными документированными источниками для изучения жизни Бизе. Обязана им и книга, которую вы только что прочитали.
Лишь в недавнее время архив возвратился во Францию – и можно не сомневаться, что в нем таится немало возможностей для новых открытий.
***
Париж наших дней.
Снова площадь Бастилии, где простреленный гений Свободы балансирует на позолоченном шаре.
Многое тут изменилось – не те нравы, не те времена.
Но в толпе парижан – летом или зимою, утром, вечером, днем – может быть, вы повстречаете человека в чуть старомодной одежде. В Париже не принято оборачиваться на прохожих, изучая их туалеты. Каждый носит, что хочет. Что может.
Ну а если вы все-таки обернетесь и прохожий одарит вас знакомой, немного печальной улыбкой – что же тут необычного?
Он ведь бессмертен!