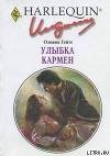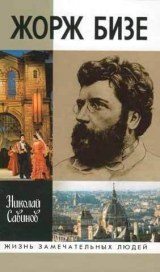
Текст книги "Жорж Бизе"
Автор книги: Николай Савинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
ЖЕНЕВЬЕВА
3 июня 1869 года Людовик Галеви записал в дневнике:
«Сегодня Женевьева стала женою Бизе. Как она счастлива, бедное и дорогое дитя! Сколько катастроф вокруг нее за последние годы! Сколько горя и сколько утрат. Если кто-либо имеет право просить у жизни немного покоя и счастья, то это именно Женевьева. У Бизе есть ум и талант. Он преуспеет».
Семь лет, прошедшие после смерти отца, действительно оказались черными для Женевьевы.
Мать снова попала в психиатрическую больницу. Женевьева и ее сестра Эстер страдали от нервной депрессии.
Между сестрами было шесть лет разницы – расстояние, громадное в юном возрасте. Добрая, обаятельная, благородная, исключительно одаренная музыкально, Эстер стала для Женевьевы опорой и светом.
19 апреля 1864 года двадцатилетняя Эстер скончалась при загадочных обстоятельствах.
Позднее Леони объяснила гибель старшей дочери так: «болезнь, вызванная необдуманным поступком моей семьи, поместившей впечатлительную девочку в психиатрическую больницу! Непростительно!!! Они разбили мою жизнь».
Во всех случаях Леони прежде всего думала о себе.
Но тогда, в 1864-м, она обвинила в смерти Эстер свою младшую дочь.
Женевьева бежала из дома. Она жила то у одних, то у других родственников, в сущности – всем чужая, и обрела собственное жилище только после брака с Бизе.
Недуг глубоко проник в эту семью, дурная наследственность шла с двух сторон: нервной депрессией страдал и отец – Фроманталь Галеви. Его сестра, Мелани, так же как и его жена, периодически попадала на излечение к знаменитому психиатру доктору Бланшу. Болен – хотя и в меньшей степени – был и двоюродный брат Женевьевы Людовик, помолвленный с Эстер.
Бизе близко знал членов этой семьи. «Сталкиваешься с престранными обстоятельствами, – писал он Марии Трела летом 1868 года. – Мой друг Людовик Галеви, чей недавний брак был со всех точек зрения удачным, расстался со своей женой под предлогом, что он не создан для семейной жизни. Думаю, что он сошел с ума, в противном случае мне пришлось бы с возмущением назвать его непорядочным человеком».
Пытались позднее объяснить эту семейную катастрофу тем, что Галеви не смог забыть Эстер – хотя это, конечно, звучит малоубедительно.
Бизе были известны несчастья семейства.
Но сердце не рассуждает.
10 мая Бизе появился в абонированной семьей Галеви ложе Комической Оперы в сопровождении Гиро, Паладиля и Самуэля Давида, бывших учеников отца Женевьевы. Шла «Ягуарита-Индианка». Конечно, он пришел ради встречи со своей Женевьевой. Спектакль уже начался. В зале было полутемно.
…«Красота, возвышавшая ее над другими сказочными девами сумрака, не была вся целиком, вещественно и исключительно, вписана в ее шею, плечи, руки, талию. Но прелестная, обрывавшаяся линия талии представляла собой несомненный исток, неизбежное начало невидимых линий, которые глаз не мог отказать себе в удовольствии продолжать, и вокруг этой женщины рождались дивные линии, вместе образуя как бы призрак идеальной женской фигуры, вычерчивающийся во тьме».
Марсель Пруст посвятил эти строки одной из героинь эпопеи «В поисках утраченного времени», а прототипом для нее явилась Женевьева Бизе. – «Я наблюдал, как она играет перед зеркалом, до конца перевоплотившись, без раздвоенности сознания и без внутренней иронии, с увлечением, раздражаясь при мысли о неуспехе, словно королева, согласившаяся изобразить на сцене придворного театра субретку, – как она играет роль ниже ее возможностей: роль элегантной женщины».
Игра… Это было ее существом. Она придумывала все – людей, события, даже собственную биографию. Много лет спустя она рассказала Жюльену Венде и историю сватовства Жоржа Бизе – будто бы в один прекрасный день отец вошел в ее комнату и сказал: «Мой ученик Бизе хочет на тебе жениться. Не думаю, чтобы это тебе понравилось, но, в конце концов, я тебе это сказал». Я ему просто ответила: «Это мне нравится».
Поразительная история – если вспомнить, что отец Женевьевы умер, когда ей было 13 лет, а Бизе 24. Но Венда поверил ей – взгляд ее черных, бездонных глаз был так мягок и столь проникновенно правдив, что сомнение было бы просто кощунством.
Приблизительно в ту же пору, что и Венда, ее посетил музыковед Анри Малерб. «Я знал Женевьеву Бизе уже шестидесятилетней. Это была маленькая женщина, очень худая, с привлекающе умным и постоянно сотрясаемым нервным тиком лицом. В пору же своего расцвета мадам Жорж Бизе была одной из самых желанных, самых изысканных женщин Парижа. Темный блеск ее громадных глаз, золотой оттенок кожи, тонкая, гибкая талия придавали ей вид цыганки, воспетой Бизе. Тем, кто ее знал в ту пору близко, она казалась возвращенной каким-то волшебством к жизни героиней повести Мериме. Это была Кармен, – но Кармен из салона. И как гитана Гренады, она умела околдовывать всех, кто ее окружал».
В глазах родственников Женевьевы Жорж Бизе представлялся невыгодной партией. Финансисты, банкиры, они видели в нем человека абсолютно чужого и чуждого круга, «богему» и – как они полагали – «охотника за приданым».
К тому же он был иноверцем.
Эта проблема приобрела особую остроту, когда брак Бизе и Женевьевы стал все же делом решенным.
Волновалась не только семья Женевьевы.
Взволновались Дельсарты.
Тревогу забил Шарль Гуно.
«Дорогое дитя, – написал Гуно Жоржу Бизе, – благодарю тебя за письмо, которое только что получил. Не буду терять ни минуты на ответ, так как дело спешное. Прочти вложенное и немедленно отошли его, если ты согласен с ним, добрейшему кюре Троицы. – Чтобы не терять ни минуты, что может привести к потере целого дня, не скажу ничего больше. Крепко обнимаю тебя и твою Женевьеву взамен всего невысказанного мною».
Речь, видимо, шла о крещении.
Записку, адресованную кюре, однако, не передали.
«Я не настолько религиозна, чтобы менять религию», – любила повторять Женевьева.
Для Бизе она была «встречей с чудом». Он говорил, что Женевьева – воплощение интеллекта, «открытого всему светлому, всем переменам, не верящего ни в бога евреев, ни в бога христиан, но верящего в честь, долг и мораль».
Это было, конечно, известного рода преувеличением. Женевьева воспитывалась в религиозной среде. Ее дед был крупнейшим специалистом по древнееврейскому языку и весьма образованным талмудистом. Ее дядя, Жакоб-Ипполит Родриг, опубликовал свыше десяти томов исследований, посвященных проблемам иудаизма, магометанства и христианства и в одной из своих книг – «Царь Иудейский» – доказывал, что Иисус Христос был распят не по религиозным, а более по политическим мотивам. И хотя Фроманталь Галеви был не так уж привержен изучению этих вопросов, в его оперном творчестве религиозные темы нашли яркое и не случайное место.
Как бы то ни было, обошлись без церковного брака.
Церемония состоялась в мэрии IX округа Парижа. Со стороны Женевьевы свидетелем был ее дядя, Леон Галеви, со стороны Жоржа – его отец. Брачный контракт подписали также Ипполит Родриг – удалившийся от дел маклер, 57 лет; Эмиль Перейр – глава банкирского дома братьев Перейр, президент компании железных дорог Юга, командор Почетного Легиона, 68 лет; Андре Бенуа-Шампи – президент Гражданского трибунала Сены, старший офицер Почетного Легиона, 53 лет; Адольф Франк – академик, офицер Почетного Легиона, 59 лет.
Дельсарты, разумеется, не пришли. Не было и Леони Галеви – она вновь находилась в клинике для душевнобольных.
Из друзей Жоржа присутствовали только Гуно и Гиро.
За четыре дня до этого был подписан контракт о приданом. «Я почтительно слушал чтение, ничего не понимая с самого начала, – смеялся Бизе. – Мы любим друг друга и я совершенно счастлив. Временно мы будем бедны, но какое это имеет значение. Ее приданое пока равно 150000 франков, впоследствии же 500000».
Если бы он дал себе труд вдуматься в содержание казуистически составленного документа, то, может быть, понял бы, что ограблен: большая часть приданого заключалась в авторском гонораре за исполнение сочинений покойного Галеви, – но они уже почти сошли со сцены. Если Бизе хотел что-нибудь получить по контракту, он должен был срочно окончить недописанную Галеви оперу «Ной» и добиться ее постановки.
Но о деньгах в эти дни он не думал.
«Я потрясающе счастлив, – написал он после свадьбы Ипполиту Родригу, единственному из семьи Женевьевы, кто способствовал этому браку. – Женевьева изумительно хороша. – Мы влюблены друг в друга и любим вас за то, что вы сделали возможной нашу совместную жизнь. Приезжайте, приезжайте поскорее, мы призываем вас, мы тоскуем по вас… Здесь хватит счастья на всех нас троих».
– Ну и работенка! Это ужасно. В настоящее время мы смертельно устали, – пишет он Марии Трела. – Дни проводим в покупке кастрюлек; ночью же я работаю над «Ноем», на которого у меня с Паделу срочный договор, нагоняющий на меня страх. Как только у меня под головой появится подушка, как только я обставлюсь, явлюсь повидать вас.
Дирижер Жюль-Этьен Паделу сменил Леона Карвальо на посту директора Лирического театра.
Впрочем, при жизни Бизе «Ноя» так и не поставили. Между тем новобрачного обуревают творческие планы.
– Вы читали «Календаля» Мистраля? Мне кажется, я напал на хороший сюжет. – Давно о нем думаю. – Не знаю, присоединится ли наша публичка к моему мнению… Нужно приниматься за работу. – Читать, размышлять, наблюдать, познавать – вот что мне сейчас необходимо. – Но и зарабатывать! Что делать…
«Публичка» не присоединилась.
– «Календаль»? – спросил новый директор Комической Оперы Камилл Дю-Локль. – Но это же большой хлеб, выпекаемый в Провансе к рождественскому ужину!
– Да, «святая трапеза со всей семьей, мирная и счастливая», как говорит Мистраль.
– Что-то вроде рождественской сказки?
– Нет, картины истории. Это Прованс в его прошлом – марсельские греки, римляне, феодалы, крестоносцы, трубадуры, папы авиньонской эпохи, наконец, даже герои наполеоновских войн. И легенды, и свидетельства очевидцев, и истории отдельных замков, соборов и даже руин.
– Замечательно для историка, для этнографа – но убийственно скучно для обычного зрителя.
– Но ведь это еще и поэма любви – и любви торжествующей! Почитайте либретто Феррье.
– Ах, я что-то припоминаю. Но постойте… В каком-то журнале… Ну да, в театральной хронике… я прочел, что эту оперу пишет Шарль Гуно…
– Уверяю вас, это ошибка. Господин Мистраль, автор, а следовательно, единственный собственник прав на «Календаля», передал его Полю Феррье, чтобы он написал мне либретто. И Гуно был отлично осведомлен о переговорах со мною. А его всем известная порядочность не позволит предположить, чтобы он хоть на мгновение проявил интерес к либретто, которое, как он знал, было заказано для одного из его лучших друзей…
– Я не меньше, чем вы, уважаю господина Гуно… Его «Фауст» – это шедевр, думаю, что даже еще полностью не оцененный, это вклад в мировую историю музыки… И, конечно, «Ромео» – тоже… Но вспомните случай с вашей «Пертской красавицей», отодвинутой ради «Ромео»… Гуно никогда не поступится личными интересами… И у великого человека могут быть недостатки… Да и вообще – ну к чему эти сложности! И зачем этот скучный сюжет!
…Прочитав новеллу Анри Мартена о Верцингеториксе, казненном Цезарем вожде галлов, вставших на борьбу против римлян, Бизе просит Эмиля Делеро, литератора, драматурга, директора библиотеки Версаля, написать для него либретто.
– Но боюсь, что есть препятствие, которое окажется непреодолимым – Цезарь! Эти черти императоры вообще не очень-то музыкальны! Цезарь, Карл Великий, Александр, Наполеон – каким путем можно заставить их петь?
А расходы по дому растут и работать придется с утроенной силой. «Впредь, как и ранее, считайте меня готовым выполнять с обычным аппетитом художественные и кулинарные заказы, вытекающие из нашего договора», – пишет он Антуану Шудану.
И все же он не оставляет мечту о «Календале». Уезжая вместе с Женевьевой на четыре месяца в Барбизон, он увозит с собою не только либретто «Гризельды», написанное Викторьеном Сарду – Дю-Локль объявил эту работу срочной – но и либретто Феррье. Да-да, он, конечно, с интересом займется любовной историей времен Троянской войны, рассказанной и Гомером, и Диктисом, и Даретом, и французским поэтом XII века Бенуа де Сент-Мором, и Боккаччо, и даже Шекспиром. Роман сына воинственной Трои с гречанкой Гризельдой (у Боккаччо – Гризеидой, у Шекспира – Крессидой), изменившей ему с Диомедом, конечно, занятен… Но тонкая лирика «Календаля» волнует больше. Он везет с собой также материалы для «Клариссы Гарлоу» – по Ричардсону, «Рамы» – на сюжет индийской «Рамаяны». Везет он и «Верцингеторикса».
«Все прекрасно в Барбизоне, – сообщает он Ипполиту Родригу. – Женевьева было несколько обессилела за последние дни от подавляющей жары… а весть о смерти Прево-Парадоля, о которой мы узнали из «Gaulois», естественно, ее разволновала. Поэтому я не мог рискнуть на перемену в эти дни. Но теперь я достаточно опытен, чтобы понимать, какими предосторожностями нужно окружать здоровье моей дорогой малютки; без сомнения, именно солнце – наш самый опасный враг. – Ее общее состояние тем не менее вполне удовлетворительно: сон, аппетит, с этим все в порядке, из чего следует, что с ее здоровьем все благополучно. Когда мы вновь вернемся к 20 градусам Цельсия, то на несколько дней разделим ваше уединение в Сен-Грасьене. К тому же в сочинении моей «Гризельды» к этому времени я продвинусь настолько далеко, что перерыв мне не будет серьезной помехой. Двигаюсь достаточно успешно и полностью удовлетворен собой. Характер либретто требует ясной, легкой формы, мелодичности, что, надеюсь, будет воспринято без труда; для меня очень важно быть наготове. Если эта ужасная война не начнется и не перевернет все, я закончу оперу в этом году и в условиях, которые разрешат мне надеяться на успех. Но если Рейн против нас – тогда прощай все. Театры закроются, искусство придет в расстройство, жизнь подвергнется опасности – лучше не будем даже думать об этом… И все же какая это горькая тема для размышлений! – Столько страдать, столько учиться, столькому научиться, столько экспериментировать на протяжении многих тысячелетий и прийти к такому концу! Сердце разрывается!»
Люсьен-Анатоль Прево-Парадоль, о котором идет речь в начале письма, был очень близок семье Галеви. Оставшись в раннем детстве круглым сиротой, он был почти усыновлен или, во всяком случае, любовно воспитан матерью Людовика. И Людовик, и Эстер, и Женевьева с гордостью наблюдали, как быстро делает карьеру этот блестящий, талантливый человек. Он был французским послом в Вашингтоне и покончил с собой, узнав о неизбежности франко-прусской войны.
Начало 1870 года, несмотря на приход к власти либерального кабинета бывшего республиканца Эмиля Оливье, принесло дальнейшее углубление кризиса Второй империи. Убийство принцем Бонапартом журналиста Виктора Нуара 10 января чуть не обернулось через день восстанием двухсот тысяч рабочих. Стремясь спасти падающий престиж, Наполеон III пошел на рискованный шаг – объявил плебисцит 8 мая: «Народ утверждает либеральные реформы, произведенные в конституции 1860 года императором с помощью основных государственных учреждений, а также утверждает сенатус-консульт 20 апреля 1870 года». Ценою грубого давления на крестьян и сфальсифицированного дела о «покушении на жизнь императора», Наполеон добился 7358786 голосов «за». Воспользовавшись этим, он уже 19 июля объявил войну Пруссии.
Бисмарк жаждал этой войны – она консолидировала разрозненные немецкие земли. Наполеон III надеялся с ее помощью отвлечь внимание от внутренних проблем, развязать запутанные узлы, а заодно – сделать свою власть наследственной. Но ему была необходима немедленная победа – для долгих бурь просто не было сил. Однако блицнаступление предполагает продуманную организацию. Ее не имелось. Поздняя мобилизация, беспорядки на железных дорогах со снабжением армии продовольствием и боеприпасами сорвали все планы. «Пожалуй, можно сказать, что армия Второй империи до сих пор терпела поражение от самой же Второй империи», – писал в эти дни Энгельс.
Немцы первыми перешли в наступление 4 августа. Единственная дивизия, противостоявшая им в Виссенбурге, в Эльзасе, была смята. Слух о поражении достиг Парижа уже на следующий день. «Если в течение 24 часов население не получит сообщения о победе, то неизвестно, до каких крайностей оно может дойти», – записал в этот день парижский публицист Альфред Даримон.
6 августа пущен слух о громадном успехе Рейнской армии, первым корпусом которой командует Мак-Магон.
– В субботу, проснувшись в добром настроении, – рассказывает Людовик Галеви, – я сел в версальский поезд, отходящий в 8.30. На вокзале купил газеты. Немецкие телеграммы из Виссенбурга были куда лучше, чем французские. Стало, однако, ясно, что неожиданное сопротивление наших войск было поистине героическим и немцы понесли многочисленные потери.
Я возвращаюсь обедать в Париж. В час дня приезжает Мельяк, взволнованный и нетрезвый. «Большая победа, – говорит он, – Мак-Магон взял 25000 пленных. Париж иллюминирован, знамена и «Марсельеза» повсюду. Ты должен видеть. Идем!
Мы выходим. Улицы полны народа. Всюду радостные возгласы – 30, 40, 60 тысяч пленных! Опять «Марсельеза».
Газетные сообщения: император сам нацелил первый пулемет. В это время шальная пуля упала у ног наследника и солдаты были до слез растроганы его выдержкой: «Луи был не больше взволнован, чем на прогулке в Булонском лесу».
Заходим в «Librairie Nouvelle». Какой-то человек говорит: «Я не знаю, откуда они берут эти депеши! На Бирже ничего не известно!»
– Идем туда! – говорит Мельяк.
Мы идем по бульвару. На углу улицы Вивиенн мадам Сасс поет «Марсельезу» – ее слушают 10000 человек. Идем дальше – мадам Гийемар поет ту же «Марсельезу». Подлинное сумасшествие. Встречаем Перрена. Он говорит нам: «Все это неправда!»
…Да, это неправда.
«Ровно восемь дней, что война началась, и вот уже судьба Франции сведена к случайностям одного сражения, которое разыгрывается, может быть, в настоящую минуту, – пишет из Парижа Федор Иванович Тютчев своей дочери. – Французская земля заполонена, столица – Париж объявлен на военном положении, отчизна объявлена в опасности».
Чудовищность авантюры Наполеона III раскрывается во всей своей полноте. В объединенной регулярной армии Пруссии, Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессен-Дармштадта – миллион штыков. Франция может противопоставить только около 300000.
– Зачислены ли мы в Национальную гвардию? – спрашивает Бизе Эрнеста Гиро в конце июля. – Если да, что я должен делать?.. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения относительно того, что произойдет с нами, было бы весьма мило с твоей стороны осведомить меня об этом. Мобилизованы ли Массне, Паладиль и Кормон? Тогда мы сможем спеть с вариациями «Tutti son mobili». «A наша бедная философия и наши мечты о всеобщем мире, о космополитическом братстве, объединении человечества!.. Вместо всего этого – слезы, кровь, груды трупов, преступления без числа, без конца! – пишет Бизе Галаберу. – Не могу сказать вам, дорогой друг, в какое уныние повергают меня все эти ужасы. Я – француз – и об этом я помню, но не могу совсем забыть, что я еще и человек. – Эта война обойдется человечеству в 500 000 жизней. Что до Франции, то она потеряет в ней все».
Ситуация ухудшается с каждым днем, и Бизе отнюдь не одинок в своих мрачных предчувствиях. «Мы переживаем невероятный кризис, и я не знаю, как мы выберемся из него, – пишет своей семье из Парижа Гюстав Курбе. – Господин Наполеон затеял династическую войну ради собственной выгоды и назначил себя верховным главнокомандующим, а он круглый идиот, который из-за своей нелепой и преступной амбиции действует, не имея даже плана кампании. Нас бьют по всему фронту, наши генералы подают в отставку, и мы со дня на день ждем вступления противника в Париж… Сегодня мы устраиваем марш… к Палате, где объявим о падении Империи… Империя привела к нашествию. Если оно избавит нас от нее, мы все же будем в выигрыше: один год правления Наполеона стоит нам больше нашествия. Я верю, мы вновь станем французами. Сейчас я не могу вернуться домой. Мое присутствие необходимо здесь».
И действительно, 9 августа стотысячная толпа окружает Бурбонский дворец, где под усиленной охраной военных и полицейских частей происходит заседание Законодательного корпуса. Возгласы «Да здравствует республика», звуки «Походного гимна», требования оружия, лозунги «Вперед, к Палате!» Несмотря на кавалерийский заслон, часть демонстрантов проникает в прилегающий к дворцу сад. Их встречают выстрелами. Ярость толпы усиливается. Левый депутат Жюль Ферри с балкона просит собравшихся отказаться от намерения ворваться в помещение Законодательного корпуса, взывает к их «патриотическим чувствам». Нет повода для волнений – кабинет Оливье уже пал!
Но Палата делает все, чтобы спасти режим Наполеона.
Население требует – и правительство вынуждено, наконец, принять 11 августа закон о повсеместном призыве в Национальную гвардию и о выборах ее начальствующего состава. Но это чистейшая фикция. «Вас зачисляли – и только. За этим не следовали организационные меры», – свидетельствует один из участников этих событий. Правительство делает все от него зависящее, чтобы не допустить в национальную гвардию рабочих – а если они туда все-таки попадают, им не дают оружия.
– Завтра утром я возвращаюсь в Париж, – сообщает Бизе Галаберу. – Местная национальная гвардия меня вызывает. – Ну что ж… 7300000 должны быть довольны!.. Вот вам и спокойствие, порядок и мир. Сегодня речь идет о спасении родины, а что потом? Будущее слишком мрачно, дорогой друг, и нас ожидает только поражение.
В этот же день он пишет Ипполиту Родригу.
«Завтра в семь часов утра я начинаю свои военные упражнения. Наше ружье весит четырнадцать фунтов, – для музыканта тяжеловато. Ружье оглушает, отдает, словом, делает все возможное, чтобы причинить больше неприятностей тем, кто им пользуется, чем врагу. Одним словом, это по преимуществупрусское ружье. Надеюсь, что мы не испытаем ужасов осады».
Вокруг Парижа создан 34-километровый крепостной вал шестиметровой толщины. Пятнадцатиметровый ров, 94 бастиона, 16 фортов вокруг, на расстоянии от полутора до пяти километров. Здесь идет срочное обучение защитников города.
Пройдя военную подготовку, Бизе ненадолго возвращается в Барбизон, отстоящий примерно в 60 километрах от столицы, – Римская премия освобождает его от призыва в действующую армию. Он сохраняет еще некоторые иллюзии.
«200000 человек переправляются через Рейн. Берлин и крепости опустеют, – пишет он Галаберу. – Через неделю 400–500 тысяч пруссаков окажутся в сорока лье от Парижа: но это будет последнее усилие. Если их массу прорвут, Пруссия станет тем, чем захочет ее сделать Франция! Будем надеяться!»
Тщетная надежда!
– Вчера, – рассказывает Бизе Эрнесту Гиро через несколько дней, – объятые беспокойством и отчаянием, не в силах более выносить состояние жестокой неопределенности, мы пошли пешком в Фонтенбло и там, в мэрии, прочли пачку телеграмм, которые сегодня опубликовал «Gaulois». Итак, трижды в разных местах, наши солдаты боролись один против десяти, один против пяти, один против трех! Итак, прусская армия спокойно маневрирует, прекрасно зная, где расположены части нашей армии, с удобством разбивает их одну за другой, а наши генералы «ничего не знают»! Вчера император сказал: «Я больше не знаю, где Мак-Магон». – Это убийственно!.. Лотарингия захвачена; битва где-то между Метцем и Нанси неизбежна, а если мы ее проиграем?.. Разумеется, я не шовинист, ты это знаешь; но со вчерашнего дня у меня сжимается сердце и слезы стоят на глазах! Бедная страна!.. Бедная армия… Нами правит и руководит бездарность, теперь уже общепризнанная! Сейчас не время для жалоб, но «дядя», по крайней мере, знал, где искать врага! Неужели повторится кампания при Садове? Я совершенно не знаю, никак себе не представляю, что с нами будет. Но это в настоящее время лишь побочный вопрос. Почему держат солдат в глубине страны?.. Почему всех нас не призовут для защиты наших городов? Или он боится вооружить нацию?
Да. Дело именно в этом.
– Реакционеры, – пишет Луи-Огюст Бланки в газете «Родина в опасности», – боятся революции больше, чем Вильгельма и Бисмарка! Двести пятьдесят тысяч национальных гвардейцев предместий Парижа могут стать революционной армией. Вот почему не желают, чтобы они вообще стали армией.
…Призванный защищать Париж, генерал Луи-Жюль Трошю не только не вооружает население, но издает 24 августа приказ о срочной высылке из Парижа «лиц, не имеющих средств к существованию, присутствие которых в Париже создает угрозу для общественного порядка и для личной безопасности жителей, как и для их имущества, а также лиц, которые своими действиями препятствуют осуществлению мероприятий, направленных к обеспечению общественной безопасности». В ночь на 25 августа на одном только Монмартре арестовано около 800 человек, 26 августа – еще полторы тысячи. Массовые обыски и аресты продолжаются с возрастающей силой. Трошю до последней возможности тормозит производство пушек и лишь в конце октября, под давлением общественного мнения, санкционирует сбор средств на их изготовление, уже стихийно начатый населением. «Бедняки отказываются от куска хлеба, чтобы производить орудия», – пишет 16 октября Эдмон Трюдон.
– Если вы не чувствуете себя способными руководить военными действиями – уходите! – бросает в лицо членам правительства бланкист Альбер Реньяр.
– Ведь несомненно именно сегодня решается великий вопрос: нашествие со всеми его последствиями, со всеми ужасами, – пишет Бизе Эрнесту Гиро. – Нет нужды говорить тебе, что за последние три дня я даже не пытался написать хотя бы одну ноту! Если мы проиграем большую битву, я думаю, что мне лучше вернуться в Париж.
…Час этой битвы пробил с колоколен Седана. В ночь на 1 сентября армия спокойно уснула, не ведая о расположении вражеских войск. Повторилась в трагическом варианте история фарса о «Великой герцогине Герольштейнской», где обвешанный медалями и орденами генерал Бум в своих громадных, до блеска начищенных сапогах, под хохот зрителей спрашивал: «Где враги? Где враги?»
Армии было, увы, не до смеха, когда утро застало ее в окружении. Враги были всюду.
3000 убитых, 14000 раненых, 83000 взятых в плен.
– Дорогой мой брат, – обратился Наполеон к Вильгельму, – так как я не мог пасть среди моих войск, мне остается лишь вручить свою шпагу Вашему Величеству.
– Господин брат мой! – получил он в ответ. – Сожалея об обстоятельствах, при которых произойдет наша встреча, я согласен принять шпагу Вашего Величества и прошу Вас назначить одного из офицеров, наделенного Вами всеми полномочиями для переговоров о капитуляции армии, которая так отважно сражалась под Вашим руководством. Со своей стороны я уполномочил для этого генерала Мольтке. Остаюсь добрым братом Вашего Величества. Вильгельм.
…Он выехал в пять утра под немыми, укоряющими взглядами десятков тысяч, по земле, искореженной и израненной, залитой кровью. На дороге он встретил Бисмарка, направлявшегося навстречу, чтобы помешать его свиданию с Вильгельмом, пока не будет подписана капитуляция. В жалком домишке ткача он ждал часа, когда его примет «брат».
А в Седане уже начался парад позора.
– Что за день! Что за зрелище! – рассказывает Людовик Галеви о втором сентября. – Плененная французская армия проходит по Седанскому мосту между двумя рядами пруссаков. Поднимаясь на мост, солдаты и офицеры бросают в Мезу сабли, ружья, портупеи, патронташи, кресты, медали, эполеты. В это время артиллеристы калечат пушки и разбивают станины своих пулеметов, уничтожают фургоны. Распряженные кони бродят по улицам города. Солдаты кричат: «Кто купит лошадь? Лошадь кто купит? Пять франков, десять франков, пятнадцать франков!» Что до скаток и ранцев – их может взять каждый, кому не лень нагнуться.
В этом великом хаосе, в этой всеобщей растерянности – все чувства наружу. Никто ничего не скрывает. Одни инертны, сбиты с толку, отуплены; эти люди не понимают, что происходит, за что и зачем воевали, они столь же равнодушны к разгрому, как были бы безучастны к победе. Ничего нет в их душах – ни хорошего, ни плохого. Пусто. Другие, напротив, оживлены, даже шутят, смеются и бросают оружие в Мезу с видимым удовольствием оттого, что избавились; эти люди довольны, что их взяли в плен – война кончилась и они избежали смерти, вот и все. Есть еще и другие – и, к счастью, их больше – они плачут от стыда, гнева и унижения… Они плачут открыто, слезами детей, слезами женщин и бросают с отчаянием свое оружие в реку. В их сердцах живет чувство чести и любви к их отчизне.
Это ужасное шествие продолжается весь день, до вечера. В городе же в это время разнузданность доходит до апогея. Солдаты больше не подчиняются офицерам и грабят повозки с едой. «Оставьте, это для раненых!» – кричат фуражиры. – «Мы тоже не жрали со вчерашнего дня!» – раздается в ответ.
…Они проведут здесь, без еды и без помощи раненым, еще десять дней, пока их не отправят в Германию в вагонах с надписью «для скота».
Из Седана Наполеон посылает телеграмму императрице. Потом письмо. После встречи с Вильгельмом – еще письмо. Никакого ответа.
Она получает первую телеграмму только 3 сентября, в присутствии двух придворных. Она вопит: «Эта бумага лжет! Император не может капитулировать! Бонапарт не капитулирует никогда! Он должен был кончить самоубийством! Если он не подох, то он трус! Он должен был умереть под камнями Седана! Какое имя оставляет он сыну!»
Она падает в обморок. Ее укладывают. Когда она приходит в себя, ее гнев стихает. Стиснув руки, она шепчет: «Луи, прости меня!»
Около полуночи собирается Законодательный корпус под председательством промышленника Шнейдера, заменившего умершего графа Валевски. Президент требует, чтобы императрица вышла к присутствующим, но она отвечает отказом – она занята. Большую часть этой ночи она жжет письма и компрометирующие документы.
Утром 4 сентября вокруг Тюильри собирается многотысячная толпа.
– Можем ли мы защитить дворец? – спрашивает императрица.
– Боюсь, что нет, – отвечает ей генерал Малине.
Постепенно салон заполняется – здесь министры, генералы, парламентарии, дипломаты, придворные дамы. То и дело поступают тревожные новости: Палата собирается принять решение о самороспуске, солдаты отказываются воевать. Императрица вызывает Трошю, военного коменданта Парижа, но тот отвечает, что у него нет времени. Когда эта новость распространяется среди присутствующих, салон начинает пустеть: крысы покидают корабль.