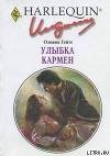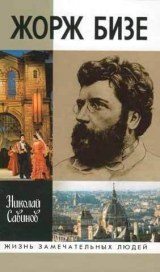
Текст книги "Жорж Бизе"
Автор книги: Николай Савинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
В половине четвертого полиция сообщает: толпа атакует решетки, ограда может не выдержать.
– Мадам, безопасности ради, вам необходимо отречься.
– Я умру во дворце, куда меня ввел император! Гул толпы нарастает. Ей предлагают бежать. Новый отказ.
Слышен грохот и радостный вопль. Решетка свалена. Толпа ворвалась во дворец.
Посол Австрии Меттерних предупреждает:
– Мадам, необходимо бежать. Через пять минут будет поздно.
Вместе с ним и итальянским послом Нигра, в сопровождении нескольких человек она бежит через Лувр. Колоннада, греческий зал, зал египетских древностей… Квадратный двор. Через арку, открытую в сторону Сен-Жермен-л'Оксерруа, она покидает здание. Слышатся крики: «Да здравствует Республика! Долой Полеона! Испанке – смерть!»
Меттерних отправляется за коляской, оставленной им на набережной. Рядом с императрицей – только итальянский посол и мадам Лебертон, сестра генерала Бурбаки. Проходит минут десять. Коляски нет. Итальянский посол подзывает какой-то ветхий фиакр. Императрица и ее компаньонка бросаются к экипажу – но в это время какой-то мальчишка ее узнает. «Глядите, императрица!» Посол отталкивает мальчишку в сторону и зажимает ему рот. Фиакр срывается с места.
Мадам Лебертон дает адрес государственного советника Бессона на бульваре Оссманн. Отпустив экипаж, поднимаются по лестнице и звонят. В доме пусто.
Снова улица. Им везет – они вновь достают экипаж. В этот раз добираются до авеню Ваграм, где живет камергер Пьенн. Опять – никого. Наконец, тот же фиакр привозит их на авеню Малакофф. Дверь на сей раз открывают – здесь живет доктор Эванс, императорский зубной врач.
Пока дамы приходят в себя, Эванс поручает коллеге, доктору Кран, отвезти их в Довиль, где проводит летние месяцы его жена. Из Довиля яхта с легкомысленным названием «Газель» доставляет беглянок в Англию. Там, в Морском отеле Брайтона, императрица случайно встречает сына.
Она проживет еще очень долго – до 1920 года. Но это – иная жизнь.
Эпопея окончена.
«Империя рассыпалась, как карточный домик», – пишет Энгельс.
4 сентября провозглашена республика. Но неприятель стоит у ворот.
– Вообрази себе, милочка, что я провела последние 26 часов одна, – сообщает Женевьева своей двоюродной сестре. – Да, совсем одна! Жорж стоял в карауле в укреплениях. Он ушел в 3 часа утра в воскресенье и, проведя в патруле шестнадцать часов, вернулся домой только в понедельник в 5 утра, полумертвым от усталости (ведь оружие и снаряжение невыносимо тяжелы). Он очень устал, но, к счастью, переносит все это довольно хорошо. Я не беспокоила его, и он, проспав две ночи подряд, полностью пришел в себя. Что касается меня, то я нахожу, что время проходит очень медленно и все думаю о том, что же будет, когда придут пруссаки.
Они пришли на следующий день, 19 сентября, – и осадили Париж.
– Не понимаю, на что эти люди еще надеются! – недоумевает Ганс Вакенхусен, – журналист из «Gazett de Cologne», – На что надеются парижане?
Когда я покидал юг Франции, все полагали, что Париж капитулирует уже на первый день, в Версале – что на следующий; во всяком случае, не думали, что это затянется так. Едят они там крыс и мышей, или еще имеют продукты?
…Нет, в Париже с продуктами плохо.
Конина становится предметом роскоши, хлеб – о его качестве лучше не говорить – 300 граммов взрослым и полтораста детям. 10 ноября на улице Рошешуар стали торговать собачьим и кошачьим мясом – половина кошки стоит 4 франка. Открыли специальный крысиный базар – 50 сантимов штука. Съедены все животные зоопарка – даже любимцы Парижа, слоны Кастор и Поллукс, их все равно нечем кормить. Овощи стали такой же редкостью, как и мясо. 4 декабря «Les Nouvelles» публикует меню торжественного обеда:
Бульон из конины с просом.
Шашлык из собачьей печени a la maître d'hôtel
Рагу из кошачьей спинки под майонезом.
Собачья лопатка с томатным соусом.
Собачьи котлеты с горошком.
Сальми (вид рагу) из крыс a la Robert.
Крысиные ляжки с мышатами в виде бордюра.
Салат из белого цикория.
Сок из бегонии.
Плум-пудинг с соком и костным мозгом конины.
Десерт и вина.
Каков смысл публикации? Это – бравада! Париж не сдается! Париж будет жить!
Нарушена связь? Что ж – и это пусть превратится в народный праздник! Срочно изготовляются 54 воздушных шара. Первый, при громадном стечении публики, запускается в воздух 24 сентября.
«День обещает быть ясным. Точно в семь специальный дилижанс доставляет к каждому воздушному шару мешки, набитые письмами и телеграммами на тончайшей бумаге. В присутствии господина Рампена – директора почт, руководителей телеграфа, многих членов Комитета обороны, мешки погружают в кабину.
Воздушный шар «Нептун», объемом 1200 кубических метров. Его создатель, месье Надар, выбрал одного из своих верных помощников, господина Дюруфа. Тот командует: «Отдать концы!» и ровно в 7.15 шар взвивается в воздух. Крики «Да здравствует Республика!», восторженные возгласы прохожих. Шар набирает высоту полтора километра и, со скоростью 15 лье в час, уносит около 200 килограммов почты».
Шары регулярно взлетают из шести точек Парижа.
6 октября генералом Трошю, военным комендантом Парижа, дан приказ господину Ван-Розенбоке об обеспечении голубиной почты. «Возвращаясь в свои гнезда, – пишет одна из газет, – эти птицы приносят в человеческие жилища надежду, бодрость и жизнь».
Пруссаки перекрывают газ. В ответ начинаются вырубки в городе. 15 января очередь доходит и до деревьев на Елисейских Полях.
Париж держится.
«То, как поступит сейчас Германия, – ее дело; но у нас, французов, есть свои обязательства перед народами и перед родом человеческим. Выполним же их!.. Долг Франции перед всеми народами, перед всеми людьми – спасти Париж не ради самого Парижа, а в интересах всего мира.
Этот долг Франция выполнит.
Пусть поднимутся все общины! Пусть все деревни запылают гневом! Пусть все леса наполнятся громовым раскатом голосов! Пусть зазвучит набат! Пусть каждый дом выставит солдата; пусть каждое поместье станет полком; пусть каждый город сделается армией. Пруссаков восемьсот тысяч, вас – сорок миллионов. Поднимитесь же – и развейте их по ветру! Лилль, Нант, Тур, Бурж, Орлеан, Дижон, Тулуза, Байонна, подпоясывайтесь! Вперед! Бери свое ружье, Лион! Бери свой карабин, Бордо! Обнажи свою шпагу, Руан; а ты, Марсель, явись грозный, со своей песнью на устах. Города, города, города! Взметните леса пик, примкните штыки, выкатите пушки, а ты, деревня, возьмись за вилы. Нет пороха, нет боевых припасов, нет артиллерии? Неправда, есть. Ведь и у швейцарских крестьян были только топоры, у польских крестьян – только косы, у бретонских крестьян – только палки. И они сметали все на своем пути! Всё приходит на помощь тому, кто защищает правое дело. Мы – у себя. Хорошая погода будет за нас, ливень будет за нас. Война или Позор! Кто хочет, тот все может!»
Гюго выступил с этим воззванием в день начала осады.
Париж борется.
Франция не сдается.
«Я продолжаю угрызаться своим бездействием, – пишет Эрнесту Гиро Бизе. – Право, моя совесть неспокойна, а между тем тебе-то ведь известно, что именно удерживает меня здесь. Я всерьез упрекаю себя, что выполняю лишь то, что требует от меня закон. Ничего не поделаешь!..»
Гиро, разумеется, понимает. «Пусть каждый дом выставит солдата». Но в доме сейчас Женевьева. Она снова играет – на этот раз в деликатной комедии «Хрупкость». Редкостный оранжерейный цветок на непрочном стебле – и он пропадет, пропадет, пропадет без опоры! «Вообрази себе, милочка, что я провела последние 26 часов одна!»
Она вовсе не так уж беспомощна. В трудные годы после смерти отца и сестры она выучилась неплохо применяться к любым обстоятельствам – носить ее на руках стало некому, а жизнь непрошеной родственницы под чужой кровлей должна была многое подсказать.
Теперь же дом обретен. Она снова любима. Она снова «Бебе», как ее называли когда-то.
Орхидея на хрупком стебле.
Бизе стыдно за свое малопатриотическое поведение – но уж тут ничего не изменишь. Он обязан быть рядом – в этом он убежден. Он нежно любит, и это – сильнее его. Бизе хочет уверить Гиро и себя, что иначе поступить невозможно. Говоря откровенно, он совсем не воитель. Где-то, втайне, он понимает, что и для него, может, так лучше. А в Париже действительно трудно.
– Мы больше не едим. Сюзанна принесла нам несколько костей конины, которые мы поделили между собой. Женевьеве снятся каждую ночь цыплята и омары.
Но в эти же дни Женевьева пишет Людовику Галеви:
– Мы оба здоровы, не умираем еще от голода, и я должна сказать, что не ела еще ни кошек, ни собак, ни крыс, ни мышей, как это делают в лучшеммире. Сегодня впервые я попробовала ослятину. Правда, масло стоит 45 франков фунт, но что же делать, от этого не умирают. – Едят даже больше, чем до этой ужасной осады, которая, напротив, должна бы лишить нас аппетита.
Аппетит у нее превосходный.
Да, несмотря на трагические обстоятельства, это всеже немножечко пьеса. И обидно, что сегодня – вольно или невольно – в ней участвуют уже двое.
«Без сомнения, именно солнце – наш самый опасный враг».
Не считая, конечно, пруссаков.
9 ноября в «Le soir» Эдмон Абу заявляет, что продолжение сопротивления – «это безумие».
Он не особенно оригинален: еще 1 ноября начались тайные переговоры Тьера с Бисмарком. Иметь дело с Бисмарком Тьеру легче, чем с французским народом. Абу исподволь хочет подготовить общественное мнение.
Но и Тьер, и Абу не имеют успеха. Покориться страна не желает. И печать реагирует гибко: появляются успокаивающие сообщения, сочиняются мифы.
– Со 2 августа по ноябрь два миллиона немцев убито!
– 5000 берлинских вдов, облачившись в траур, требуют немедленного прекращения войны.
И даже совсем уж невероятное:
– Наполеон III бежал из плена, возвратился в Седан, собрал армию и, победоносно войдя в Берлин, провозгласил там Республику!
Бизе дежурит в городе и на крепостном валу. «Не будь я женат, я пошел бы в пехоту, если бы я был холостяком, мне было бы все равно. Пехотапервой провозгласила: Да здравствует Республика!Я находился со своим батальоном в Законодательном корпусе. Уверяю вас, что я был глубоко взволнован.
Но осталось ли еще у нас время, чтобы спасти себя?»
Бравада! Бравада…
– Моя нежно любимая, не могу повидать тебя сегодня утром. Я в карауле 11 часов, и у меня не будет времени даже, чтобы перехватить на ходу, но я вернусь к обеду. – Не знаю точно, в котором часу. Во всяком случае, готовь к шести. Люблю тебя, моя любимая, всей душой.
– Из-за голосования, ибо сменившийся караул может голосовать, мы освободимся не раньше полуночи или часа ночи. Вот досада-то!.. Хочу повидать тебя завтра утром, дорогая. – Люблю тебя. – На улице довольно холодно, но я чувствую себя прекрасно.
– Дорогая малютка, не беспокойся… Всё принимает хороший оборот. Ничего не произойдет, абсолютно ничего. – Я не знаю, когда вернусь: быть может, сегодня, а может быть, и завтра утром. – Передай, пожалуйста, мой дождевик подателю этой записки. Опасаюсь дождя. Будь спокойна… на сегодня останемся в казарме. Передай мне скорее дождевой плащ. Люблю тебя, обожаемая малютка, будь весела, завтракай хорошенько и не беспокойся. Твой бэби Жорж Бизе.
Он немножко играет в солдатики… Что ж делать! Иначе он не сможет себя уважать. Он хочет верить, что действительно нужен здесь, что приносит пользу и выполняет патриотический долг.
– Я не могу оставить Париж! – пишет он Леони Галеви в ответ на ее предложение приехать с Женевьевой в Бордо, где мадам пребывает после психиатрической больницы. – Это абсолютно невозможно! Это было бы просто трусостью! Надеюсь, что правительство примет строжайшие меры против тех парижан, кто покинул нас в критический момент. – Я знаю многих сильных, здоровых людей, которые, подобно шекспировскому Фальстафу, полагают, что честь не больше чем условность. Я не подам им руки! Вы сами видите, имею ли я право покинуть Париж, думая так. Кроме того, повторяю, мы умоляемправительство заклеймитьили наказать трусов – гораздо опаснее быть трусом, нежели просто выполнять свой долг.
Он предлагал Женевьеве уехать. Он умолял ее сделать это. Но пуститься в столь рискованное путешествие по военной стране? Одной? Нет, она предпочла новую роль – она «почувствовала, как и многие другие женщины, что ее долг быть здесь». Правда, цель – непонятна, ибо польза для родины от подобного героизма весьма эфемерна. Но это же пьеса…
Ну что ж, мадам Галеви несколько успокоена. Она пишет Людовику: «Если моя Женевьева счастлива, если муж ее истинно любит, если она меня любит немного, если она хорошо себя чувствует, все мои желания, сегодня и в будущем, осуществлены… Нужно, чтобы они были живы. Это чувство приносит мне силы. Как могу я смотреть спокойно в грядущее под этот барабанный бой, телеграфные сообщения, крики на улицах, делающие Париж невыносимым!»
Корнелевская героиня!
Крика на улицах, правда, достаточно.
Надрываются и продавцы популярных брошюр.
– «История амуров, скандалов и мошенничеств Бонапарта»!
– «Жена Бонапарта, ее любовники, ее оргии»! Покупайте!
– Новые чрезвычайные подробности: «Принцесса Матильда, наложница графа Демидова».
Франсиск Сарсе пишет 27 сентября: «Откройте снова кафе, откройте те театры, которые смогут снизить цены на билеты… Разве Париж без сверкающих магазинов, без кафе на тротуарах, без развлечений и без веселья – это Париж?»
Но театральные здания заняты под военные нужды – там госпитали, резиденции руководства, склады; кое-где – например, в Цирке на Елисейских Полях – даже изготовляют патроны.
Жизнь течет – и дельцы смотрят в будущее.
13 декабря к Жоржу Бизе является Шудан.
– За романсами, которые я предназначил ему, – уточняет Бизе в письме к Эрнесту Гиро. – Я должен был, как у него это заведено, предварительно ознакомить его с текстами. Ты знаешь стихи Гюго: «Тем, кто с молитвою умер за Францию…» Я назвал эту пьесу «Умершие за Францию»! При этих словах Шудан перебил меня: «Слишком грустно, друг мой, слишком грустно! Если вам все равно, только не это, друг мой, только не это! Слишком огорчительно иметь такое в магазине! Когда осада кончится, мы насытимся жарким и обо всем этом больше не вспомним; за последние три месяца я достаточно настрадался. Я испытал огромное горе, разлучив моих детей с их отцом. Я плохо питался. А сейчас я совсем ничего не ем и, вероятно от этого, основательно разжирел! У меня нет угля! Мой зять простудился на валу! Если, к несчастью, ваша пьеса будет иметь успех, мне станут надоедать целыми днями: «Дайте, пожалуйста, «Умерших за Францию», сударь. Нудно, друг мой, нудно! – Воспевайте весну, розы, любовь!.. «Приди, о, приди под цветущую сень!» – К тому же я иностранец и уже выполнил свой долг: я сфотографировался военным стрелком, надев куртку моего зятя и тирольскую шляпу, которую мне одолжил Карвальо. Фотограф мне все устроит, он поместит меня между Троило и Дюкро. А под нами будет подпись крупными буквами: «Защита Парижа, 1870 г.» Что за чудовищность – война! Я ненавижу кровь, особенно свою. Вы знаете, я ведь совсем не из воинственных! Вот уже три месяца «врага нечестивая кровь наши поля орошает»! Пора кончать. Музыки, друг мой, музыки! Давайте ее делать, а главное – ее продавать, вот в чем истина! Ах, только не этот текст, друг мой, только не этот!»
Я не прибавил от себя ни слова!.. А жесты, а мимика! Не правда ли, ты и оттуда все это видишь!
«Оттуда»… Дело в том, что пока Римский лауреат Жорж Бизе ходит на войну, как на службу, Римский лауреат Гиро все же находится в эту пору на внешней линии обороны столицы.
– Утреннее правительственное сообщение сегодня внушило мне надежду, что вы скоро вернетесь. Но Нефтали сказал мне, что ввиду вашего примерного поведения ваше начальство предполагает вас задержать… Сегодняшнее сообщение ты, конечно, не читал. В нем много важных выдержек из бреславльских газет (Силезия), которые произвели здесь превосходное впечатление. Прежде чем отдать им снова Орлеан, их здорово потрепали. Эти ожесточенные, часто удачные для нас бои мало похожи на бедствия под Форбахом и Седаном и т. д. Поистине три месяца республики смыли многое из того толстого слоя позора и грязи, которыми эта подлая империя вымазала нашу страну.
…Изгнать пруссаков и сохранить Республику! Сейчас тяжело, но надежда во мне растет с каждым днем.
…Надежда, построенная на песке!
Париж покинут правительством. Сначала оно обосновалось в Туре, а 6 декабря военные передряги заставили кабинет перебраться в Бордо.
Стране необходима поддержка извне. Но посланный в несколько европейских столиц Луи-Адольф Тьер так и не смог нигде заручиться хотя бы обещанием помощи.
5 января началась бомбардировка Парижа. Немцы работают методически – с двух часов ночи и до пяти утра: нужно лишить жителей сна.
Парижане укрылись в подвалах. Трошю вновь и вновь повторяет, что столицу необходимо сдать. Для того чтобы убедить в этом население, он предпринимает предательски беспомощную вылазку 80-тысячной армии под Бюзенвалем – и терпит жесточайшее поражение.
Жители города снова требуют проведения выборов в муниципальный совет – Коммуну, – способный дать им оружие и обеспечить оборону столицы. Еще 10 октября Альфред Брейе писал в газете «La Patrie en danger» («Родина в опасности»): «Коммуна – это Париж, защищающий сам себя и изгоняющий немцев из страны. Это – революция, которая бросает в дрожь деспотов и низвергает троны, это – спасение Франции и республики, это пролетариат, освобожденный от капитала. Парижская коммуна – это ужас для трусов, изменников и реакционеров».
Тогда, в октябре, удалось обмануть и разоружить инсургентов. Обойдется ли и сейчас, в январе? В этом Трошю не уверен. Авторитет властей падает, их положение шатко. Лучше сговор с врагами, чем победа народа. На вечернем заседании 22 января Жюля Фавра уполномочили начать новый этап переговоров с Бисмарком. В полной тайне они продолжаются в течение пяти дней. Переговоры настолько успешны для немцев, что Бисмарк сам предлагает прекратить огонь на три недели.
Слухи о переговорах тем не менее просачиваются в печать. Вспыхивают волнения. 27-го правительство дает официальное коммюнике. По улицам проходят манифестации национальных гвардейцев: «Мы не сдадим наших фортов!», «Измена!», «Да здравствует Коммуна!». Национальная гвардия избирает своим главнокомандующим командира 107-го батальона Антуана-Маглуара Брюнеля, а начальником штаба подполковника Пиацца из 36-го батальона. Этой же ночью правительство бросает в тюрьму обоих.
28 января объявляют капитуляцию Парижа.
– Здесь, в Париже, осада была фарсом,но не по вине населения. Оно хотело сражаться до конца, —пишет Гюстав Курбе своему отцу в Орнан. – Виновато правительство… Это оно не желало, чтобы Республика спасла Францию… Вся эта свора мошенников, предателей и кретинов, управлявшая нами, только и делала, что устраивала показные сражения, уложив зазря множество людей. Эти убийцы потеряли не только Париж, но и Францию, парализовав и развалив все, что смогли… Эти негодяи прибегли к пыткам, чтобы заставить население покориться… С самого начала решив капитулировать, они старались прославить себя под предлогом, будто этого требует народ. Они держали на линиях фортов 200000 национальных гвардейцев, хотя там хватило бы и 25000. Перед муниципальными мясными лавками они выстраивали двухтысячные очереди, куда люди становились в шесть вечера, чтобы в десять часов утра получить кусочек конины размером в полкулака. В очередях каждый должен был стоять сам, поэтому женщины, старики и дети проводили зимние ночи на улице и потом умирали от ревматизма и проч… В последний день не было даже хлеба – еще одно мошенничество, потому что на складах гнило четыреста тысяч килограммов продуктов, а нам пекли хлеб из опилок и мякины. За все время бахвал Трошю не отважился ни на одну решительную вылазку, а если Национальной гвардии удавалось захватить позиции, ее назавтра отводили обратно… Настоящие враги не пруссаки – это наши дорогие французские реакционеры и их пособники попы. Г-н Трошю приказывал служить молебны, ждал чуда от святой Женевьевы и предлагал устроить крестный ход. Как вы понимаете, это вызвало лишь смех.
…12 февраля Национальное собрание в Бордо уполномочило Тьера начать мирные переговоры. Предварительный документ был подписан в Версале 26 февраля и ратифицирован 1 марта, после чего кабинет, возглавляемый Тьером, вернулся в Париж.
Когда блокада была снята, супруги Бизе отправились в путь. Это было настойчивым желанием Женевьевы – все время она жаловалась на разлуку с мадам Галеви, посвящая этому многие страницы дневника, и молила Бога помочь ей «посвятить жизнь матери». То была ее новая роль – жертвенного самоотречения, и в нее она свято верила.
Бизе к этому относился с большим уважением, еще не понимая, что возвышенные эмоции были попросту проявлением истерии.
Нелегко было получить пропуск на выезд. Нелегко было и добраться до жилища Ипполита Родрига – хотя путь и не так уж далек, до Бордо от Парижа всего 500 километров. Но это путешествие по стране, искалеченной военной бурей.
Они не знали, однако, что главное испытание ожидает их не в дороге.
– Я провел поистине горькую неделю! Ради спокойствия Женевьевы, ради всех нас, ради себя я рискнул на эксперимент, который, к несчастью, обернулся столь пагубно, что превзошел все мои опасения… В течение последних пяти месяцев Женевьева теряла в весе… После снятия блокады с Парижа сон у нее стал болезненным. Что я должен был сделать? Воспротивиться тому, чтобы Женевьева встретилась с матерью? Неважно, что за это меня бы возненавидели. Но это вселило бы в Женевьеву сомнения и угрызения совести более жесткие, нежели кризис, через который мы только что прошли.
…Бордо – очаровательный старый город, напоенный дыханием моря: оно в ста километрах отсюда. Мадам Галеви чувствует здесь себя превосходно – у нее масса знакомых. «Твоя бедная старая тетя, – пишет она Людовику Галеви 1 января, – видит республиканский двор; город и окраины, плебеи и патриции, реак и демок, все проходят через мой маленький салон. Вот мой сегодняшний день… Встала в четыре. В семь вышла, чтобы купить всякую мелочь, подарки для племянников и племянниц…В девять в амбулаторию. Ни один экипаж не ходит по льду Бордо, что, конечно, прелестно. Лед на земле, солнце в воздухе – я совершенно одна и напротив какой-то мужчина. Все равно. Зову на помощь. К счастью, он оказывается одним из моих родственников. В одиннадцать выхожу из амбулатории. В руках – 25 свертков с подарками: сигары, фланелевые пояса, набитые табаком кисеты, громадная кулебяка с курицей, пирожки, конфеты, сахар…
Час. Я вхожу, изнуренная, и, пожелав доброго Нового года всем моим близким, обедаю с ними. Одеваюсь на скорую руку, иду в префектуру требовать отдельное жилище для моей семьи, племянников и племянниц… Слушаю речь Гамбетты. Его жесты, его увлеченность! Все правительство на балконе. Сорокатысячная толпа внизу, с разинутыми ртами, слушает речь. Когда г-н Гамбетта уходит в салон, публика кричит: «Гамбетта! Гамбетта!» – и затем поет Марсельезу. Пламенная, но спокойная толпа была прекрасна. Никогда в Бордо не было такого праздника!»
Пользуясь пребыванием в Бордо Временного правительства, она даже подружилась с мадам Тьер. Мадам Галеви в добром здравии, очень деятельна и весела. Она лепит, пишет по десять писем в день, отдает по десять визитов и принимает столько же. Любой ее день занят бесконечными путешествиями по магазинам, где она покупает всяческую дребедень. Деньги? Но она просто сочла бы чудовищем всякого, кто посмел бы ей намекнуть, что пора ограничить расходы – ведь авторских за произведения мужа почти уже нет!.. А! Что думать об этом! Она все глубже – с головой! – залезает в долги. Кто их будет платить – неизвестно. Ипполит делает все, чтобы ее удержать, но сие удается не часто и с великими трудностями – ведь она госпожа Галеви и все должны ей повиноваться!
Она очень любезно встречает и дочь, и зятя, осведомляется о своем парижском племяннике Альфреде, а когда ей говорят, что несчастное существо пребывает в состоянии полного идиотизма, цедит сквозь зубы: «О, в самом деле!» – и меняет предмет разговора.
Ну, конечно, она была против этого брака. Она и не скрывает! Подумать только – ее дочь вышла замуж за совершенно необеспеченного человека! Уж конечно этого не произошло бы, если бы ее заблаговременно предупредили. Но она ведь была в отъезде! Этим, к сожалению, и воспользовались. Но теперь уже ничего не попишешь – глупость сделана и обратно дороги нету. Милый Жорж! Он совсем не умеет обращаться с женой – он ей во всем потакает. Так нельзя – Женевьева ведь истеричка!.. Ничего! Она очень серьезно побеседует с дочерью – только просит не вмешиваться и не мешать!
Через сутки после приезда обезумевшая Женевьева прибегает к супругу в полном отчаянии и умоляет: «Скорее увези меня обратно, или я умру так же, как умерла Эстер!» Ипполит, наблюдающий эту сцену, потрясен не менее, чем Бизе, – нужно срочно спасать Женевьеву, чей припадок как две капли воды похож на болезнь Людовика после его женитьбы.
– Нам придется выполнить жестокий и дикий долг, – решают Ипполит Родриг и Бизе, – не допустить, чтобы мать когда-либо вновь увиделась с дочерью, ибо общение может оказаться убийственным для Женевьевы.
Мадам Галеви совершенно спокойно принимает весть о внезапном отъезде Бизе с Женевьевой. «Она думает, что любит всех, но не любит никого. Ей дочь совсем не нужна, – делает вывод Бизе. – Никого из членов семьи не обходит ее язвительная критика, никого!»Она вновь повторяет, что у дочери невозможный характер, что она – истеричка, а муж ее – тряпка. Пусть едут! Счастливой дороги!
Члены семьи, упрекавшие Жоржа в намерении отделить мать от дочери, теперь осуждают его за то, что он привез Женевьеву в Бордо. Они даже считают его интриганом.
На обратном пути – остановка в Либурне. «Эта ночь прошла лучше – небольшой отдых и питание, – пишет Бизе Ипполиту Родригу. – Мы восстановим все, но Женевьева ужасно расстроена. Сегодня она услышала чей-то разговор в коридоре гостиницы. Если бы вы могли видеть, как она побледнела, как она бросилась ко мне в объятия, пронзительно закричав: «Она здесь! Спаси меня, я умру, если увижу ее снова!» – вы испугались бы ее вида.
Пока нервы моей бедной малютки находятся в таком ужасном состоянии, я буду горько упрекать себя за то, что из уважения к человеку сделал ход в игре, ставкой в которой оказалась жизнь Женевьевы. Интуитивно и от всех докторов, с которыми я советовался, я знал, что для Женевьевы в высшей степени важно никогда более не видеть своей матери. Я ошибся, привезя ее в Бордо. Ваше мнение было единственным, имевшим для меня большое значение, и я верил, что смогу убедить вас, открыв вам многое, что я успел заметить в отношении Женевьевы за последний год и десять месяцев. Женевьева рассказала мне немало; лишь крайняя деликатность удерживает ее от разглашения тайны до тех пор, пока она в состоянии сдерживаться. Ее страх переходит все границы, которые мы можем себе вообразить. Ее постоянно преследовали навязчивые сны, воздействие которых было тем пагубней, что она не решалась рассказывать мне о них. Словом, дорогой друг,там, где мы думали, что у нас только одна больная, их оказалось две».