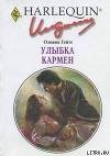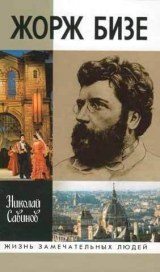
Текст книги "Жорж Бизе"
Автор книги: Николай Савинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Старик из толпы обращается к нему с вопросом:
– Вы не проезжали случайно по улице Эшикье? Вы не знаете, что там творится? Есть там пожары – на улице Эшикье?
Но улан, вдруг заметив, что отстал от товарищей, хлещет лошадь, опрокидывает старика на землю и пускает коня в галоп, повторяя:
– Это неслыханно! Это неслыханно! Мы поднимаем старца с земли…Под подозрением все».
– Вчера меня задержали в Сен-Жермене; мне предложили предъявить документы, – рассказывает Бизе. – Женевьева была ни жива, ни мертва!.. А мне пришлось поговорить с полицейским комиссаром, который оказался очень любезным и посмеялся вместе со мною над моим приключением. Должен признаться, что мне совсем не до смеха и будущее кажется мне во Франции невозможным. Когда восстание будет подавлено – этого уже не долго ждать, несмотря на слабоумие некоторых генералов, – тогда начнут сводить счеты… Между неистовствами белых и красных порядочным людям не найдется места. Музыке во всем этом нечего будет делать. Придется покинуть родину. Куда я поеду: в Италию, Англию или Америку?.. Перед всеми нами встанет грубый и прозаический вопрос хлеба насущного. Те материальные блага, которые останутся у нашей бедной Франции, будут, как всегда, разделены между интриганами и ничтожествами. Одним словом, я совсем пал духом и ни на что здесь больше не надеюсь. Германия, страна музыки, отныне закрыта для всякого, кто носит французское имя и в ком бьется сердце француза. Все это грустно! Жизнь так хорошо началась для нас! По счастью, во мне еще сохранилась какая-то энергия, и как только возникнет путь к спасению, я им воспользуюсь. Но представится ли он? Будем надеяться.
Пушки рычат с необыкновенной силой. В эту ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. Этот ночной шум натолкнул меня на ряд философских размышлений, отнюдь не радостных. Я утешался тем, что Женевьева спокойно спит рядом, и мечтал о будущем, которое, может быть, вознаградит нас за все наши горести. Я снова взялся за работу, и к концу лета у меня будут две законченные оперы.
Уже два дня я не знаю ничего нового. Пойду за новостями через час и занесу это письмо на почту, – пишет он Леони Галеви. – Вчера я повидал кое-кого из наших знакомых и могу вас уверить, что 11 мая наши вещи и мебель были не тронуты. Кстати, злодеяния Коммуны в отношении частной собственности весьма преувеличены. Многих друзей моего возраста в Париже даже не потревожили.
Два дня тому назад я вернулся из Версаля в бешенстве. Все, что было в Париже бесчестного среди «приличных» людей, собралось в отеле «Резервуар». Там открыто говорят о возвращении Наполеона III… и в каких выражениях! Я не удержался, чтобы не сказать очень много горького одному господину, который, правда, не стоил этого труда и который, кстати, имеет привычку проглатывать любые оскорбления, не отвечая на них.
Что-то выйдет из всей этой грязи?.. Chi lo so?
Впрочем, смутное время, переживаемое нами, имело прецеденты в нашей истории, и каждый раз удивляешься той быстроте, с какой французская нация низвергается в пропасть и почти немедленно поднимается из нее. Осада Парижа Генрихом IV была одной из самых тяжелых эпох для Франции и наиболее тяжелой для Парижа. Полгода спустя страна достигла высокой степени процветания, которого, быть может, никогда больше не достигала впоследствии, несмотря на все громадные успехи цивилизации…
Мы проводим жизнь на крышах, террасах, холмах, бельведерах и прочих возвышенных местах, – пишет он две недели спустя, 27 мая 1871 года из Везине. – С картой в руках стараемся ориентироваться и догадаться, какая участь постигла наши бедные вещи. До сих пор нас все устраивает: улица Лепелетье [6]6
На этой улице жил Людовик Галеви.
[Закрыть], улица Виктуар [7]7
Улица Виктуар – тут жил Леон Галеви.
[Закрыть]и улица Дуэ [8]8
Улица Дуэ – сюда, в дом № 22 переехал Бизе после брака с Женевьевой.
[Закрыть]нам кажутся нетронутыми. Газеты, преувеличивающие, между прочим, размеры и без того ужасающих потерь, не упоминают ни одного пожара в нашем околотке. Банда поджигателей, разбойников, каннибалов, которая накинулась на Париж и которой, я осмеливаюсь надеяться, люди трезвого ума не будут придавать политической окраски, уже потеряла главных своих вожаков. Вчера я разговаривал с одним офицером, вернувшимся из Парижа. Бедняга сильно потрясен: солдаты разъярены и расстреливают немного без разбора. Я беспокоюсь о двух-трех друзьях, любителях приключений и любопытных при подобных обстоятельствах свыше меры… Пасси в ужасном состоянии. Вчера, казалось, все кончилось, а несмотря на это, в девять часов вечера мы увидели громадный пожар в Париже: поговаривают, что это горят Объединенные склады. – Вероятно, не замедлят избавить Париж от всех тех негодяев, и особенно подлых тварей, которые играли какую-либо роль в этой ужасной свалке и, наконец, мы вздохнем спокойно. Я поеду в Париж, как только это станет возможным, но сейчас еще въезд туда, а особенно выезд, категорически запрещены.
…В этот же день, 27 мая, Людовик Галеви делает обширную запись в своем дневнике.
«Нынче утром, вооружившись пропуском, дающим право беспрепятственного передвижения по Парижу, мы сели – Б. и я – в открытый грузовой экипаж на площади Версальского дворца. В эту повозку со скамейками нас набилось пятнадцать.Цена – с головы по три франка. Кучер подрядился доставить нас к решетке авеню Ульрих (бывшего авеню Императрицы).
Моим соседом оказался хозяин столярной мастерской из Батиньоля. Конечно, он сразу мне стал рассказывать о своих делах. У него дочь – она замужем и живет в Версале, он о ней очень скучает, вот и явился ее повидать, а сейчас возвращается. Он оставался в Париже во время Коммуны – он вообще все воспринимает с философским спокойствием.
– Здесь все преувеличивают, – говорит он. – Не знаю, но я очень легко попадаю из Парижа в Версаль и обратно. Нужно только идти очень спокойно, засунув руки в карманы. Конечно, все то, что творится, – печально, но зачем тратить время на вздохи, когда вокруг столько курьезного и интересного – этого ведь больше не увидишь уже, а сколько потом можно будет обо всем рассказать!
Мы проезжаем через руины Сен-Клу – Сен-Клу больше нет! Мой сосед реагирует на наши восклицания.
– Да, конечно, ужасно, – говорит он. – Но какие развалины! Никогда не видал такого. И потом – что вы хотите: это ж война!..
Мы въезжаем в Булонский лес. Путь становится трудным. Дорогу перерезают траншеи, перегораживают поваленные деревья. Между озерами нам приходится выйти из нашей повозки – дальше ехать нельзя.
Бои в городе еще не кончились, мы слышим и ружейную перестрелку, и канонаду. Вот на земле, в траве, бумаги – почерневшие, искореженные огнем, ветер носит их пепел. Подбираю отрывок: «Учитываемые налоги. Рента 3 %…». Это фрагмент документа, оформленного на имя какого-то месье Демаре… Одна из бумаг сгоревшего Министерства финансов.
Мы на бывшем авеню Императрицы. Ни одного открытого окна! Ни одного экипажа. Ни одного прохожего. А уже 10 утра. Вокруг арки Звезды – палатки, ружья в козлах, два-три часовых; на Елисейских Полях – то же безлюдье и тишина. Входы в подвалы задраены. На перекрестке у бульвара Оссманна чуть оживленнее, есть прохожие, пять или шесть лавок открыты, крытый экипаж ищет клиентов. Мы подзываем владельца, и он нас тепло принимает.
– Вы поверите, – говорит он, – это мой первый выезд после баталии, не нужно только ездить в сторону площади Бастилии и Пер-Лашез, туда путь закрыт.
Мы в центре Парижа.
Я упорный коллекционер газет, народных рисунков и карикатур. С месяц тому назад я писал одной хорошей женщине, бывшей хористке Оперы, содержащей сейчас магазинчик на улице Мучеников, чтобы она отложила для меня по одному экземпляру всего, что вышло во время Коммуны. Мы едем в сторону улицы Мучеников. В районе, примыкающем к вокзалу Сен-Лазар, уже воцарилось былое оживление парижской жизни. Моя продавщица передает мне большой сверток.
– Забирайте его поскорее, – говорит мне она. – Сейчас не самое лучшее время для коллекций подобного рода. Все версальские полицейские возвратились в Париж и всюду суются, опять начиная нас мучить. Вчера вечером уже приходил один шпик – хотел отобрать ваш заказ.
Время от времени слышно, как на Монмартре бьют версальские батареи по кладбищу Пер-Лашез, где идет последняя битва Коммуны.
Суббота, 3 июня.
Нет ничего удивительного в этом бурном ренессансе Парижа. Сейчас половина девятого вечера, все магазины открыты, кафе переполнены; толпа – шумная, оживленная и веселая, хотя, правда, на лицах есть оттенок какого-то недоумения, как же все получилось так легко и быстро! Омнибусы и экипажи беспрепятственно ездят по улицам, больше нет канонады, в сотнях окон развеваются трехцветные национальные флаги.
Нынче вечером возобновляет спектакли «Жимназ»: играют «Ужасных женщин» Дюменуа и «Великую барышню» Гондине. Я поднимаюсь по лестнице и не без волнения захожу за кулисы, где полно одевальщиц и рабочих сцены. Ландроль тоже там.
– А вы знаете, – спрашивает он, – что мы играли ежевечерне и при Коммуне? А 21 мая показали премьеру «Ужасных женщин» с Дескле в главной роли и при переполненном зале.
– С даровыми билетами?
– С платными. 2500 франков дохода. В императорской ложе – многие члены Коммуны. После первой пьесы я пошел к себе разгримироваться, Менсиньи мне сказал: «А версальцы уже взяли Пасси, они в Париже. Похоже, что завтра нам уже не придется играть». И мы не играли. Зато мы сегодня первыми возобновляем сезон.
Ландроль говорит с трогающей гордостью; это не только прекрасный актер, он и человек прекрасный, всем сердцем любящий эти старые стены, где он имеет столь большой и законный успех.
Я поднимаюсь к Дескле.
– Ах, – говорит мне она, – я себя чувствую превосходно. Но это множество бомб! Повстанцы захватили наш дом и стреляли из окон моей квартиры в версальцев, а версальцы палили в меня, в дом № 77 на бульваре Маджента.
– А где были вы в это время?
– Где я была? Ну, конечно, в подвале! Все жильцы дома удрали в подвал, но когда я туда спустилась, там была уже масса народа, все жители, и все торговцы, и дети кричали, и женщины плакали и молились, считая, что пришел их последний час – они каялись (правда, шепотом!) в самых различных грехах! Ну, и кончилось тем, что я скрылась в какой-то дырке сзади комнатки нашей консьержки, это что-то вроде хранилища для бутылок под толстыми сводами. Сезарина, моя старая няня, притащила туда кресло, столик и лампу, и я села повторять мою роль в «Ужасных женщинах». Було, мой старый пес, устроился у моих ног, Сезарина бормотала молитвы. Вдруг мне захотелось есть. Я сказала Сезарине, она проскользнула в столовую за кусочком холодного мяса – и тотчас же вернулась назад, потрясенная, оживленная и дрожащая. И она мне сказала: «больше нет нашей двери, больше нету столовой, больше нету буфета и холодного мяса – одни крошки, ах, это нужно видеть, нужно видеть, мадам!»
Попала бомба – и мне некуда пригласить вас пообедать, но зато все же в моем окошке трехцветное знамя, зал полон сегодня, и я имела успех.
…6 июня Жорж Бизе сообщил Ипполиту Родригу:
– Наконец-то я пишу вам из Парижа. Наш дом получил порядочное число пуль, но квартира наша совершенно не пострадала, ни одно стекло не шелохнулось! Дом, в котором живете вы, и оба ваших владения совершенно не тронуты!Стало быть, вам повезло!
Вид Парижа относительно хорош: много народа, много движения и никаких национальных гвардейцев!..
Итак, все в порядке? Париж ожил, Коммуна разгромлена…
Это одна сторона медали.
Есть другая, омытая кровью.
Поэт Жан-Батист Клеман, член Совета Коммуны, пишет:
Детишки, вдовы по дорогам,
Осиротев, идут, идут —
В крови лежит Париж восстаний,
Он истекает нищетой.
Неделя страшных испытаний!
Версаль ликует – выиграл бой!
Да, Коммуна разгромлена. И в Париже расстрелы – как в 1848-м. Не успевают закапывать трупы казненных – их слишком много. Используют даже парижские скверы.
«Под густой растительностью, среди цветов и листвы странно приподнятых клумб, – свидетельствует Камилл Пеллетан, – зловеще торчали из-под земли плохо закопанные ноги, восковые руки в обшлагах Национальной гвардии, разлагающиеся лица с остановившимся мертвым взглядом. Ко всему весеннему обновлению примешивалось впечатление неизгладимого ужаса. Удушливый запах гниения, от которого делалось дурно, заглушал аромат весны. А ночью, когда вокруг сквера Сен-Жак понемногу затихал шум Парижа, слышно было, как из-под зеленых покровов земли раздавался ужасный шепот, слышались сдавленные стоны… Повозки разгружались с большой поспешностью, и случалось, что несколько погребенных еще дышало и хрипело в общей яме».
– Неужели нет промежуточной ступени между этими безумцами, этими разбойниками и реакцией? – пишет Бизе Галаберу. – Есть от чего прийти в отчаяние!.. К несчастью, в рассказах нет ничего преувеличенного. Убийства и пожар введены в принцип политической системы! Как это гнусно! Что же теперь будет? Неужели мы вернемся к старой законной монархии?!! Тогда это будет лишь передышкой с революцией на горизонте.
«ТЕБЕ ВНИМАЮТ ТЕ, ЧЬЯ МЫСЛЬ ТУПА»
Впервые после долгого перерыва, у импозантного здания Оперы на улице Лепелетье вновь толпа, вновь огни у подъезда.
– Как? Ни одного билета?
– Ни одного! – отвечает кассир.
– Ничего не осталось? Совсем ничего?
– Есть только императорская ложа.
– Ну, дайте мне место в императорской ложе.
– Простите?
– Один билет в ложу.
– Один би… Один билет в эту ложу? Ну уж нет, месье, извините! Этуложу мы не раздираем на клочья.
…12 июля 1871 года. Большая Опера возобновляет спектакли. Сегодня – «Немая из Портичи», в память Обера.
Зал полон, – но нет прежнего блеска. Только одна декольтированная женщина, всего только одна! В центральной ложе напротив сцены – китайцы, члены посольства. Они приехали в сентябре прошлого года и изрядно побегали за правительством – из Парижа в Тур, из Тура в Бордо, из Бордо в Париж, из Парижа в Версаль и теперь вот обратно. Они обрели, наконец, в лице Тьера реальную власть, способную сказать «да» или «нет» в ответ на их проблемы.
Галеви и Бизе тоже пришли на спектакль. Изящно одетая дама, мать одной из танцовщиц, посылает им обворожительные улыбки.
– Ах, – вздыхает она. – Оперы больше нету! Где гусары с золотыми цепями, где гренадеры из императорской свиты в блестящих мундирах со сверкающими галунами. Опера без государя и без двора… Это невероятно. У нас нет больше Оперы!
– Если бы матери балерин формировали общественный строй, они, бесспорно, проголосовали бы за монархию! – смеется Людовик, наклоняясь к Жоржу Бизе. – Я много лет знаком с этой дамой. Благосклонностью и мамаши, и старшей дочки пользовался один из моих друзей. Он явился однажды, как обычно, около четырех. Звонит. Мамаша сама выходит к двери – это же простые люди! «Ах, дорогой мой месье, мы не можем принять вас сегодня! Если б вы знали! Если б вы только знали!» И, обернувшись назад, она шепчет – радостно, задыхаясь от счастья и раздувшись от гордости: «У нас король! У нас король! Сам! Он там! Понимаете? Я не могу вас пустить! Завтра! Завтра!» – и захлопывает дверь перед самым носом. Ничего! В революцию был взят реванш.
Спектакль начался. Спектакль идет. Между третьим и четвертым актом оркестр вдруг исполняет фрагмент из «Манон Леско». Занавес поднимается. Артисты Оперы, окружив бюст Обера, поют «Молитву» из «Немой». Потом они возлагают лавровые и пальмовые ветви к подножию постамента.
Бизе и Людовик неплохо знали старого композитора – ведь он был директором Консерватории в течение стольких лет!
– Я как-то зашел к нему, – вспоминает Людовик. – Он сидел за работой.
– Кончаю первый акт новой оперы.
– На чье либретто?
– Эжена Скриба.
– А как называется, что за сюжет?
– «Манон Леско».
– О! Несравненный шедевр!
– Роман? Вы о нем говорите?
– Ну да! Вы согласны?
– Мой Бог! Я его не читал!
– Вы пишете оперу «Манон Леско» – и не читали романа?
– Ну правда же – нет!.. Не читал… Я порылся в своей библиотеке… Но у меня мало книг… Я не нашел там «Манон Леско».
– Так взяли бы томик у Скриба…
– Скриб! Я совсем не уверен, что он тоже прочел! Ему рассказали сюжет – так, в общих чертах. Читать? Скриб никогда даром времени не теряет.
– …Мне кажется, что Обер вообще вряд ли что-то читал, – замечает Бизе.
15 июля – отпевание праха Обера в церкви Троицы – Trinité. Из всех парижских церквей эта, пожалуй, больше других схожа с театром. Сегодня она переполнена. Множество женщин – молодых и красивых, весь балет Оперы, все студенты Консерватории. Оркестр и хор несравненны. Это уже не церковная служба, а перемежаемый каноническими текстами великолепный концерт. Кажется, еще минута – и вспыхнут бешеные аплодисменты. Ни духовенство у алтаря, ни внушительный катафалк не снимают ощущения музыкального праздника.
Выходя вместе с прочими из Trinité, Галеви и Бизе слышат, как один из служителей доверительно сообщает пожилой даме:
– Мы сейчас перегружены: венчания, крестины, похороны! Ну конечно! Кому могло прийти в голову венчаться во время войны или при Коммуне! Когда умирали простые люди – понятное дело, их немедленно хоронили. Но люди из общества… Нет! Никто не желал быть похороненным в такие дни. Пришлось сохранять их в подвале. Вот этот, которого сейчас выносят…
– Маэстро?
– Ах, он был музыкантом? То-то я смотрю – откуда так много артистов… Так вот – маэстро умер то ли 12, то ли 13 мая. Сегодня отпели его, наконец. Сегодня его похоронят. Через два месяца после кончины. А сколько еще ждут своей очереди у нас в подвале!..
…Кончина Обера меняет весьма многое в музыкальном Париже. «Бедняга не смог пережить уничтожения всего того, что составляло его жизнь, – замечает Бизе. – Если бы захотели наградить директорством в Консерватории наиболее видного музыканта, следовало бы назначить Тома. «Гамлет» – крупное произведение, стирающее все мелкие погрешности этого почтенного и достойного уважения человека… Что же касается второго претендента, то его личная жизнь недостаточно чиста, чтобы можно было допустить, что ему доверят школу для молодых девушек. Вероятно, это мнение не разделяется его назойливой и нудной семьей, но я надеюсь, что оно совпадает с мнением министра».
Под «вторым претендентом» Бизе подразумевает Шарля Гуно.
Тома действительно назначают, и Бизе посылает ему поздравительное письмо.
Тома издавна считается другом семьи Галеви – и после женитьбы Бизе на Женевьеве даже нанес визит новобрачным, оставив в альбоме новоиспеченной мадам автограф с темой Офелии из своего «Гамлета». Поэтому, узнав о вакантной должности профессора композиции, мадам Галеви написала письмо, которое, по ее мнению, Бизе должен был немедленно передать новому директору.
– Мое нежелание просить Тома о должности, – заявил ей Бизе, – это не скромность, ее я абсолютно лишен, – но чувство собственного достоинства. Я не считаю себя достаточно известным, чтобы просить об этом.
Амбруазу Тома действительно необходимо срочно заместить эту вакансию. Он предлагает ее Шарлю Гуно. Гуно, однако, сейчас пребывает в Англии – у него так запутались взаимоотношения с женой, что он не хочет ради не столь уж значительной должности возвращаться в Париж. Тома назначает профессором композиции бесцветного музыканта Базена, преподававшего ранее здесь же, в Консерватории, сольфеджио и гармонию, а на освобожденное им место – композитора Дюпрато.
– Гуно отказывается потому, что – там, где нужно выполнять какие-то обязанности, его всегда нет, – замечает по этому поводу Бизе в письме к Леони Галеви. – Пусть Базены, Дюпрато и Эльвары ведут себя так нелепо, как каждому из них вздумается. Вы добры, очень добры, что подумали обо мне в этой связи; это еще одно лишнее доказательство вашего расположения ко мне, за которое я благодарю вас самым нежным образом…
Но мадам Галеви не унимается – и Бизе снова вынужден давать ей объяснения.
– Несколько особый характер моих дружеских отношений с Амбруазом Тома вынуждает меня быть сдержанным. Он очень ко мне расположен, и каждый раз, когда он говорит со мной о моей музыке, он употребляет такие выражения, которые я не решусь из скромности повторить. Если бы в музыке я занял то положение, которого меня считают достойным Тома и Ребер, мне нечего было бы больше желать. Кроме того, Тома признателен мне за мое поведение на премьере «Гамлета», когда музыканты по тупости или по злобе осуждали это поистине значительное произведение, что привело меня в дикую ярость, и это ему передали. Но он – директор Консерватории и как таковой должен быть консервативным.Он прав. В последний раз, когда я его видел, он сказал мне: «Я только что зачислил несколько профессоров. Ничего не предложил вам, так как не было ничего достойного вас». Я умею читать между строк и понял, что в настоящий момент я бы его крайне стеснил. Мои произведения не пугают Тома, он страшится моих идей. Я его понимаю и одобряю. И хочу избежать всего, что можно принять за способ воздействия на него в мою пользу. – Поэтому я не отнесу вашего письма Тома, ибо в нем есть вещи слишком лестные для меня, и если я вручу ему письмо лично, невозможно будет допустить, что я этого не знаю.
…Правда, он обещает, что еще раз заглянет к Тома.
Мадам Галеви совершенно ясно, что он никуда не пойдет. Она решает действовать за спиной непутевого зятя.
Бизе приходит в ужас, когда в его руки случайно попадает письмо тещи, присланное ею Женевьеве для передачи Аланзье. Госпожа Галеви просит временного администратора Большой Оперы о постановке «Ноя» и заодно – о месте главного концертмейстера для своего зятя. Бизе и сам на это надеется. «С 1 ноября я, вероятно, получу должность концертмейстера в Опере. Это должность, которой не пренебрегали ни Герольд, ни Галеви. Я не буду особенно занят, а жалованье относительно приличное: пять-шесть тысяч, и кроме того переложения партитур и пр.». – пишет он Галаберу. Но вмешательство госпожи Галеви только усложняет проблему. «Аланзье относится ко мне столь тепло и сочувственно, что он не простил бы мне,если бы я допустил какое-либо воздействие в мою пользу. Итак, абсолютное молчание по поводу меня и предоставьте мне самому вести мои дела», – молит Бизе.
Но мадам Галеви не унимается. Она вышивает экран для камина и посылает с ним зятя к жене Тьера.
– Благодарю вас, дорогая госпожа Галеви, за ваши заботы о моей карьере и выгодах. По правде говоря, я никогда не был ими избалован. Это, наверное, объясняется моим недостаточно гибким характером. У меня очень мало склонности к тому, что называется светом, и еще меньше уважения к нему. То, что называют почестями, чинами(во множественном числе), званиямии т. д., внушало бы мне глубокое отвращение, если бы я не был к ним так равнодушен. Из всех моих товарищей я один из двух или трех, которые добились хорошего артистического результата, правда скромного, но серьезного и честно достигнутого. Я видел, как Жюль Коэн и другие холуи императорского двора захватывали положения, должности, на которые больше всех имел бы право я, если бы хоть на одно мгновение подумали о заслугах и праве (я говорю только о достойных должностях, а не об императорской капелле). Правда, я два раза отказывался написать кантату к 15 августа, дню рождения императора; я дорожил тем, чтобы мое имя, каким бы скромным оно ни было, не сближалось с именем того подлеца,который довел нас до полного разорения и распада. Я не жалуюсь; если бы я был менее дик или менее честен (это зависит от точки зрения), то имел бы теперь доходы, которых у меня нет и, вероятно, никогда не будет.
Я всегда правильно понимал ваши намерения. Я неоднократно убеждался, что они так же благожелательны, так же чисты и прекрасны, как отзывчивое сердце, которое их порождает. Поэтому не говорите мне, что я причиняю вам боль. Я менее добр, чем вы, и я не мог бы простить себе так легко, как вы мне прощаете причиненную вам даже ничтожную досаду.
Однако наши воззрения на окружающих противоположны. Вы считаете людей в общем добрыми, хорошими, великодушными, искренними и человечными. Я же считаю, что они в большинстве своем коварны, злы, жадны, фальшивы и жестоки. Вы верите в людей, я к ним недоверчив. Оставаясь при своих убеждениях, я легко понимаю вашу точку зрения. Если вы сделаете то же самое в отношении меня, мы легко договоримся. Физически и морально я пребываю в оборонительном состоянии. На это у меня достаточно оснований, и мне полезно быть предусмотрительным. Я отказался передать ваш экран для камина г-же Тьер, так как сотня сплетников оклеветала бы меня за выполнение этого простого поручения. Я не люблю борьбы. Я просил о должности, которую только я, Сен-Санс, Массне и еще два или три других могли бы достойно занять. Но она, вероятно, будет отдана тому или иному прихлебателю.
…И действительно, на должность главного концертмейстера, несмотря на все обещания, полученные Бизе, назначают Гектора Саломона.
Мадам Галеви видит в этом свою правоту. Она пишет еще одно письмо – на этот раз жене Эмиля Перрена.
Бизе взорвался.
«Зависимость, покровительство, рекомендации мне нетерпимы. Я не уважаю людей,которые не умеют жить абсолютно независимо. Поэтому, дорогая госпожа Галеви, прошу вас, умоляю вас во имя нашей прекрасной и нежной дружбы никогда не действовать в мою пользу, никогда не просить ничего для меня у кого бы то ни было. Быть может, мое суждение не очень здраво, но я предпочту отказаться от любого предложения, если не достигну его сами полностью своими силами. Главное, не делайте попыток устраиватьмои дела. Желая мне помочь, вы причините мне только вред».
Конечно, это вызвало бурю и существенно осложнило отношения Жоржа и Женевьевы, «обожавшей» свою мать, когда та была вдалеке. Бизе был вынужден извиниться перед госпожой Галеви.
Атаки мадам Галеви были временно отбиты – но тотчас же эта достойная дама вновь дала повод для сильных волнений. Из Бордо она решила переехать в Версаль. Весть об этом вызвала у Женевьевы новый припадок неистовой истерии. Перед Бизе встала проблема – или покинуть Париж, увезя Женевьеву, или откровенно побеседовать с госпожой Галеви, объяснив ей сложившуюся ситуацию.
Петля все туже затягивалась на его горле. А будущее оставалось по-прежнему неопределенным.
«Гризельда» и «Кларисса Гарлоу» были вчерне завершены. Правда, Сарду пожелал изменить что-то в «Гризельде». Бизе поехал к Сарду, но тот его не принял.
– Каждый день я жду лошадей взамен тех, которых мы съели во время блокады, – написал Викторьен Сарду Жоржу Бизе, – но их прибытие задерживается. Я мог бы прийти пешком, что совсем не пугает меня как пешехода, но очень и очень – как труженика. Сейчас я очень напряженно работаю, чтобы наверстать потерянное время, и поэтому вчера у меня не хватило духа пожертвовать рабочими часами. Итак, я не приеду повидать вас, пока не прибудет мой выезд. Если вы бываете в Версале, загляните ко мне. Так уж случилось, что вы пришли в тот день, когда я был погружен в работу с соавтором, но такое случается не чаще чем дважды в год; обычно после половины третьего я всегда свободен.
…Встреча все откладывалась и откладывалась – да и театр не спешил с премьерой. Правда, «Гризельда» была заказана и с ней так торопили – но то было еще до войны, до осады, до дней Коммуны.
В незапамятные времена!
Впрочем, театр Комической Оперы тоже возобновляет сезон. Что поставят? Как всегда, недостатка в предложениях нет.
В вестибюле театра «Варьете» Галеви встречает очень подвижного, милого, сухонького старичка. Элегантный, кокетливый, в рединготе, застегнутом на все пуговицы, в перчатках жемчужного цвета, бледно-розовом галстуке, с розой в небольшой бутоньерке, он приветлив и мил. Он скрывает свой возраст, но считается одним из старейших еще в эпоху расцвета популярности Скриба, а тому сейчас уже с хвостиком восемьдесят.
– Ты его знаешь, конечно, – рассказывает Галеви Жоржу Бизе.
– Папаша Дюпен?
– Разумеется! Я всегда с интересом беседую с ним – это живая история! «Когда вы впервые поднялись по лестнице этого театра? – О, мой Бог, в день открытия! – И когда это было? – В каком году? Я не помню… Помнится, было лето, еще при Первой империи, такой солнечный день. Театры ведь в ту пору не закрывались на лето, Париж всегда был очень весел и не существовало этой абсурдной мании мчаться летом в деревню. Никто не путешествовал, не отправлялся на воды, и не было этих железных дорог, принесших столько несчастий театрам. Да… но что вы хотели спросить? – Год открытия «Варьете». – Это было… Постойте… Мы тогда получили известие об исходе большой битвы. – Какой битвы? – Ах, но я уже не помню. Битвы! Было столько больших битв за это время! Но тогда – это-то уж я точно помню! – я впервые сыграл роль в этой пьесе – ну да, она ведь называлась «Поездка в Шамбор». Тогда еще Наполеон – не племянник, а дядя, конечно! – вызвал Тальма в какой-то немецкий город… – В Эрфурт? – Возможно. Вызвал, чтобы Тальма сыграл там трагедию перед императором русских… хм… как его звали-то? – Александр… – Да, он самый. Я его много раз видел, Александра-то… Бравый мужчина! Обожал маленькие театрики. Ну да, я играл в первый раз в 1808-м, а «Варьете», стало быть, открылось на год раньше. А какие прекрасные были пьесы! Их теперь уже не играют. Если где и остались приметы былого – так в Комической Опере!»
– И он вытащил, – продолжал Галеви, – из кармана своего редингота какую-то рукопись: «Это для Левена. Комическая опера. Но смешнаякомическая опера, а не заунывная, как сейчас пишут, не этой новейшей школы, где урчат бесконечно длинные любовные сцены, эти нескончаемые дуэты… То ли дело песенки прежних времен! Вспоминаете? «Нужен только удар – волк сражен наповал!» Мило! Коротко! Впечатляюще! Лихо!
Неожиданный взгляд на часы.
– Пять?! Но я же опаздываю к Левену! Я ему обещал принести мой комический текст, он меня ждет в театре! До свидания! До свидания!»
– Что ж, может быть, и поставят. Это очень во вкусе Левена, – заметил Бизе.
– Но там есть и Дю-Локль!
– Тоже очень плохая надежда. Театр есть театр, и, наверное, этим все сказано. Я повидался с Дю-Локлем. Театр не может сейчас поставить большое произведение, положение дел этого не позволяет и к тому же нет достаточно времени, чтобы сделать удовлетворительно. Так что «Гризельда» – это далекое будущее. Или, может быть, – уже столь же далекое прошлое. Сейчас будет одноактная опера, очень своеобразная, очень значительная с художественной точки зрения, и, может быть, она не позволит публике окончательно меня забыть.
Речь идет о «Джамиле».
– Либретто было написано не для Бизе, – рассказывает его автор Луи Галле. – Первая версия относится еще к лету 1867 года и навеяна сборником анекдотов – старой книгой XVIII века, найденной мною у провинциального букиниста. Я там обнаружил несколько строк, напомнивших мне сюжет поэмы Альфреда де Мюссе «Намуна». Страшно жалею, что не купил. И родилась ли эта прелестная сказка в поэтическом воображении Мюссе или возникла из другого источника – может быть, той самой книжки – не знаю. Интересно бы разыскать этот томик…