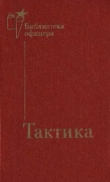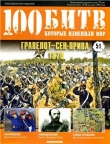Текст книги "«Философия войны«» в одноименном сборнике"
Автор книги: Николай Головин
Соавторы: Антон Керсновский,Алексей Баиов,А. Мариюшкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Первого рода ошибка заключается в том, что нельзя при сравнении влияния одного и того же фактора подменять в то же время другой. Бирилев не имел никакого основания предполагать японцев менее решительными и менее отважными, чем нас. Находившаяся в это время в полном разгаре русско-японская война более чем ярко это подчеркивала. В рассказанном примере мы имеем дело со своего рода „военно-обывательской“ военной психикой. Однако с подобного же рода ошибкой можно было встретиться и в трудах высоких военно-научных авторитетов. Многим осталась в памяти статья генерала Драгомирова под заглавием „Медведь“, напечатанная в „Разведчике“. В этой статье генерал М.И. Драгомиров выступал против перевооружения армии скорострельной винтовкой. В доказательство своего мнения он со свойственной ему красочностью слога рассказывал свой сон. Ему приснилось, что на него, вооруженного скорострельной винтовкой, идет медведь. Вид этого чудовища настолько устрашающе действует на стрелка, что все свои пули он сыпет мимо… Допущенная здесь методологическая ошибка заключается в том, что паника, объявшая стрелка при виде медведя, вовсе не обусловливалась наличием в руках первого скорострельной винтовки. Поэтому нельзя основывать свое сравнение на предположении, что трус – хорошо вооружен, а выступающий храбрец – плохо. Рассуждение будет научным лишь в том случае, если для сравнения все факторы взяты равными, за исключением лишь одного, а именно того, воздействия коего мы изучаем. Таково общее методологическое основание. При изучении же явления войны оно сильно осложняется. Дело в том, что дух армии не есть какая-то постоянная величина. Дух армии, вооруженной хуже противника, быстро понижается после первого же серьезного столкновения, а дух армии, лучше вооруженной, соответственно повышается. Поэтому обе армии, обладавшие в начале войны одной и той же силой духа, вскоре после начальных боевых столкновений разравниваются, причем это разравнивание духа идет двойным темпом.
По существу дела, мы имеем здесь дело с проявлением одного из общих социологических законов, установленных еще Контом, и названного им словом „consensus“. Согласно этому закону, все стороны социальной жизни настолько тесно взаимосвязаны, что нельзя изменить одну из них, чтобы не изменить другой. Поэтому правильное разрешение вопроса, вроде только что нами выдвинутого, может лежать только в изыскании наиболее выгодной для данного конкретного случая комбинации рассматриваемых факторов. Покойный маршал Фош в бытность его начальником Парижской Высшей Военной школы на вопрос одного из слушателей-офицеров, что важнее: „количество или качество“, ответил: „И то, и другое“.
Дабы избежать рассматриваемой здесь методологической ошибки, Клаузевиц дал широкое развитие в своем классическом труде дидактическому методу. В каждом из изучаемых им вопросов войны он видит два противоположных полюса и отыскивает решение в примирении для данного случая этих полюсов. Иначе говоря, он применяет один из видов синтетического метода.
Необходимое преобладание в военной науке синтетического метода над аналитическим является главным выводом, который может быть сделан из многократно нами упоминавшегося классического труда Клаузевица „О войне“. Этот вывод имеет тем большее значение, что в военной науке упорно господствовало стремление исследовать различные стороны явления войны порознь. Такое стремление ярко отразилось на способе пользования военной историей. При преподании тактики и стратегии явления военной истории не изучались во всех их конкретных подробностях, а приводились лишь как специально „препарированные“ примеры для подтверждения той или иной высказанной ранее мысли. При этом степень убедительности усматривалась в многочисленности приведенных примеров и в большом числе войн, из которых эти примеры брались. Подобное пользование опытом военной истории вызвало в свое время протест Клаузевица. „Много изучать историю (военную), – пишет он, – необходимости нет; полное и подробное знание нескольких сражений полезнее, нежели поверхностное понятие о многих кампаниях. Поучительнее, поэтому, читать частные описания или дневники, встречающиеся в периодических изданиях, нежели собственно исторические книги“.
С большим трудом перестраивалась в XIX веке военная наука на изучение каждого из явлений войны, взятого во всем его конкретном целом.
Несомненно, что в засилье анализа в старой военной науке нужно также видеть причины сопротивления, которое встретило проведение прикладного метода в обучении теории военного искусства. Основная идея этого метода заключается в том, что обучать военному искусству можно лишь практикуясь в отыскании наиболее выгодной комбинации факторов боя или войны для достижения поставленной цели. Изучение же подобных комбинаций возможно лишь при подробном изучении во всей их конкретной обстановке частных случаев, взятых из военной истории или созданных в виде задач или военной игры. Основные идеи прикладного метода непосредственно вытекают из сущности труда Клаузевица „О войне“, в особенности из его синтетического подхода к изучению явлений войны.
Первой на путь прикладного метода в науке о ведении войны вступила Германская военная школа, так как в ней раньше и полнее, чем где бы то ни было, сказалось влияние учения Клаузевица.
И несмотря на это, один из ближайших сотрудников фельдмаршала графа Мольтке генерал Верди-дю-Вернуа, который может почитаться отцом прикладного метода, встретил большие затруднения в проведении этого метода в жизнь.
Во Франции потребовались сплошные поражения в войну 1870–1871 гг., чтобы прикладной метод получил должное господствующее положение.
У нас же даже поражение в войну 1904–1905 гг. оказалось недостаточным для того, чтобы прикладной метод был окончательно признан.
Тщательные поиски основной идеологической причины, вызывавшей такую сильную оппозицию проведению прикладного метода в жизнь, показывает, что такой являлось представление, что главнейшей задачей теории военного искусства является отыскание вечных и безусловных принципов военного искусства. Противники прикладного метода боялись, что военная наука, сосредоточив свое внимание на изучении „частного случая“, станет от этого настолько близорукой, что не в состоянии будет увидеть общих идей. Они не заметили при этом одного существеннейшего обстоятельства: появление труда Клаузевица „О Войне“ явилось началом расчленения военной науки на две отрасли военного знания. Одна из этих отраслей, благодаря отказу от преследования непосредственно утилитарных задач, получила возможность сосредоточить все свое внимание на исследовании объективных процессов, вызывавших войну и сопутствующих ей. Другая же из этих отраслей военного знания путем отказа от отвлеченностей получала возможность сосредоточить все свои усилия в изучении умения воздействовать на явления войны.
Это расчленение представляло собою лишь одно из проявлений разделения труда, являющегося основным условием прогресса во всех сложных областях человеческого знания. Поэтому, в заключение моего сегодняшнего доклада, я позволю себе высказать следующее убеждение:
Дальнейшее развитие науки о войне, которое выразится в рождении Социологии Войны, неминуемо будет содействовать приобретению науками о ведении войны все более и более практического характера.
Текст приводится по изданию: Головин Н.Н. Наука о войне / / Часовой. – 1933. – № 100–103.
П.И.Залесский
Грехи старой России и ее армии
Павел Иванович Залесский (1868–1928/?/), генерал-лейтенант. Окончил военное училище и Академию Генштаба. Служил на командных и штабных должностях. Активный участник Первой мировой войны, в Гражданской войне участия не принимал. С начала двадцатых годов – в эмиграции. Публицистикой занимался с конца 90-х годов прошлого века. Отличался критичностью материалов и остротой тем.
Революционное движение в России вспыхивало после каждой большой войны, не только неудачной, но и удачной; ибо каждая большая война раскрывала серьезные недостатки русского государственного организма. Так, после победоносной войны 1812–1814 г. в России сорганизовался ряд офицерских обществ, имевших задачу – существенно реформировать ее государственный организм, а в 1825 г. это течение выявилось даже восстанием „декабристов“.
Лучшая часть русского общества давно относилась критически к русским порядкам?. И не одни только картины крепостничества заставляли русских людей желать иных порядков. Были, очевидно, и другие соображения, вытекавшие из оценки событий и явлений русской жизни.
Представьте себе, вам говорят: обстоит благополучно. Молчать, не „Все разговаривать, вас не спрашивают! Да, впрочем, и спрашивать не о чем: мы сами хорошо знаем – что нужно России. А в нужную минуту мы… всех шапками закидаем“!… А в то же время вы видите:
Аустерлиц, Фридланд… Весьма сомнительная война 1811 года… Тяжкая военная эпопея, вернее народное бедствие 1812 г., которое сильно смягчено (вернее – извращено)
* * *
казенными историками и жалкими школьными учебниками»… Война 1813–14 годов также не дает никаких военных образцов русского «искусства» и не демонстрирует талантов русских генералов. Кампания 1854–56 годов дает образцы доблести различных чинов армии (как и все войны), но очень мало искусства и правильной подготовки… О войне 1904–05 годов и говорить нечего: тут и доблесть заметно понизилась…
Очевидно, государственный организм работал неправильно: в нем что-то перерождалось, много не хватало, многое работало несогласно… В общем – большой организм России оказывался слабым при каждом серьезном испытании.
А как же разрослась Россия? Откуда ее завоевания?
Россия, как это вполне понятно, законно и естественно побеждала или низшие культуры: чукчей, вотяков, остяков, юкагиров, самоедов, мордву, чувашей, туркмен, сартов, финнов, персов, курдов и т. п. или разлагавшиеся государства, как например, Польша и Турция, или маленькие страны – как Финляндия (вернее Швеция). Успехи русского оружия над оружием культурных стран (в Семилетнюю войну, в 1799 г. в Италии, в 1813–14 г.) только эпизоды войн, веденных Россией в составе больших Европейских коалиций, и они вовсе не меняют основного закона, который гласит: побеждает культура страны, организация ее армии и воспитание ее народа.
?
Записка Радищева, в царствование Екатерины II.
Записка Барклая де Толли, поданная Государю императору Александру I-му, дает более правильное освещение событиям 1812 года.
* * *
Вот почему лучшие русские люди были недовольны дурными, некультурными порядками России, дурной подготовкой ее армии и полным отсутствием воспитания народа. Но всякая критика русских порядков считалась вредной, а на лучший конец – «самооплевыванием».
Чтобы заткнуть рот своему собеседнику, обыкновенно говорили ему: Мы, русские люди, любим критиковать все свое… Своим мы вечно недовольны… А вот все чужое – очень хорошо. Такова уже наша натура: мы любим «поплевать в самих себя»…
Такие тирады часто приходилось слышать вместо доводов в защиту того, что подвергалось критике.
А то и проще бывало – мать говорила сыну: – Чего ты споришь, волнуешься, доказываешь всем их неправоту, их ошибки? Куда ты лезешь? Чего тебе надо? Ты на хорошем счету у начальства, у тебя, слава Богу, все есть – ты не нищий… А своей критикой ты испортишь себе не только служебную карьеру, но и всю жизнь! Молчи и делай на службе – что тебе приказывают!
Вот мышление большинства матерей, отцов и всех тех скромных людей, которые оберегали покой свой и своих детей, не заглядывая однако далеко, не видя и не предвидя, что общее «благополучие» приведет всех и очень скоро к небывалому несчастью – не только физическому, но и моральному, – к оплеванию души человеческой!.. о если этого не предвидели скромные отцы и матери – люди с малым кругозором, то – как могли этого не видеть власти и все «правящие»?
А между тем власти настойчиво преследовали всякую критику, самую справедливую и спокойную.
Цензура добиралась даже до молитв, находя в них выражения, непочтительные для властей?.
О гонениях на людей, решавшихся критиковать существовавшие порядки, и говорить не стоит: пришлось бы исписать фолианты.
Все, что стояло у трона и на кого он опирался, тщательно закрывало перед Царем истинные картины жизни, да и само не знало действительной жизни. В своем неведении они рубили ветку, на которой сидели, подтачивали корни дерева, плодами которого питались… А когда им указывали на это, когда их предупреждали о грядущей опасности, они злобно рычали и преследовали всякую критику.
?
«Радуйся, Укротительница владык жестоких и звероподобных». См. Акафист Покрову Божией Матери.
Все обстоит благополучно – рапортовали они Царю до 1905 года, и – «Происшествий не случилось» – после Японской войны.
Самоуверенные властители и их подголоски и рептилии важно и громко заявляли: «Ничего, все образуется. Успокойтесь, не волнуйтесь: вы не знаете России и ее народа, который – верит в Бога, любит Царя, чтит и повинуется властям!» А между тем такие слова были: или грубая ложь, или явное доказательство незнания своей страны и своего народа!..
* * *
Церковь была прислужницей властей, а пастыри – чиновниками духовного ведомства, вполне зависящими от произвола высших духовных и светских властей. Редкий пастырь владел сердцами и умами пасомых.
В церкви редко раздавался призыв к самоусовершенствованию и христианским качествам: догма и соблюдение внешних форм были Церковной пищей русского народа. Не этика, а формы были на первом месте у церкви. А при вечных житейских заботах необеспеченного духовенства и догма и внешность обращались просто в повинность, в отбывание номера. Не удивительно, что духовенство не владело паствой, а иногда даже вооружало ее против себя, давая повод к нареканиям и обвинениям в алчности и других житейских пороках!
* * *
Школа была не лучше. Я не знаю – какой идеал гражданина или человека представляло себе наше Министерство Просвещения. Думаю, что – никакого. Оно просто не задавалось серьезно этим вопросом.
Дела шли сами по себе: шар катился по протоптанной дорожке. А дорожка была протоптана узкая, но гладкая, полированная – тупым молчанием, усердным послушанием и адским терпением!..
Терпели и полуграмотную школу, не говорившую о правде жизни и не звавшую к сознательной и правильной работе по усовершенствованию этой жизни.
Прошлое преподносилось в фантастическом виде, рассчитанном на незыблемость российского «величия» и «всеблагополучия». Выйдя из школы, русский интеллигент должен думать и верить, что в России все хорошо, что в ней «все обстоит благополучно» и все невзгоды благополучно заканчиваются. Особенно хороша «победоносная» армия и исключительный в мире солдат, вышедший из «богоносного» народа!
О труде, о добросовестности на службе, о недостатках русской жизни и правильных (не революционных) путях для ее совершенствования никто в школе не говорил. Вообще в школе не было ни правдивого изображения жизни, ни делового и практического обучения. Еще хуже стояло дело воспитания, ни стойкости, ни мужества, ни самоотверженности нигде не прививали молодым людям; а откровенность мысли и твердость характера вызывали опасные подозрения в вольнодумстве и своеволии.
Таким образом, из средней школы выходили люди с легковесным и непригодным к жизни багажом. Из низшей – малограмотные люди. А из высшей – теоретики– энциклопедисты, но весьма невысокой марки.
* * *
Особенно слаба была подготовка военной школы. Учебная часть военных школ не была в почете, за исключением некоторых специальных школ. А воспитание базировалось на формуле: «гром победы раздавайся, веселися храбрый Росс!»
Ну, храбрый Росс и «веселился»! В чем другом, а в недостатке веселия его упрекнуть нельзя!.. Но в то же время «храбрый» Росс весьма боялся начальства и ради этой боязни был способен и на ложь, и на другую пакость. Храбрый Росс, впрочем, не боялся надуть начальство. Он очень быстро выучился «втирать очки» в глаза этому начальству и усвоил себе твердое убеждение, что начальство больше всего не любит беспокойства, неприятностей, скандалов, вообще «неблагополучия», а потому: все дурное надо от него скрывать и преподносить ему жизнь, как нервной женщине, лишь в розовом свете и аромате цветов.
Все обстоит благополучно! – кричал храбрый Росс в угоду начальству. Так точно! Не могу знать! – лепетал он бессмысленно, чтобы окончательно расположить к себе «требовательное» начальство, и… надувал это начальство вдоль и поперек, с утра и до утра!
А начальство – все власти до Монарха включительно – верило в преданность и усердие подчиненных. И чем выше был начальник, тем тщательнее очищался путь его от терний, а следовательно, и от Правды. Таким образом, Правда менее всего была доступна тому лицу, которого господа лжецы и льстецы называли своим земным богом, т. е. Царю. Помню – как трудно было протолкнуть наверх, а тем более к Царю какую-нибудь мысль о серьезной перемене в Государственном аппарате; например – мысль о необходимости упразднения привилегий гвардии, тормозящих службу армейского офицерства и закрывающих дорогу для массы честных и деловых работников. Мысль эта казалась дерзновенной: гвардия была опорой трона, школой начальников (громадное большинство их было из гвардии) не только в войсках, но и в гражданском мире (сколько губернаторов и всяких сановников прошли только эту школу!); родством с нею были связаны все русские власти!
Однажды Канкрин, тогда министр финансов, представил в кандидаты на пост товарища министра финансов некоего X. – гвардейского офицера. А разве X. знаком с финансовыми делами, служил в министерстве? – спросил Император Николай I-й.
Нет, – ответил Канкрин, – но он из Конной гвардии.
А! – одобрительно протянул Государь, и принял кандидатуру.
И вот, ту самую Гвардию хотели низвести на степень… Армии!
Все доводы о вреде гвардейских привилегий разбивались о боязнь встревожить правящий муравейник и погубить свою личную репутацию и карьеру, ибо такой дерзновенный «докладчик» немедленно был бы взят под подозрение, как вредный либерал, «левый»… И лучшие намерения разлетались, как прах. Храбрый Росс не раз отступал перед собственной дерзкой мыслью – творить Правду во имя общего блага!
Так воспитывались не только военные, но и вся Россия. Правда не доходила до верхов, а в особенности до Царя. А потому никто наверху не знал русской действительности во всей ее ужасной наготе.
* * *
Зачем России реформы? – думали даже серьезные сановники, – России незачем подражать «гнилой» Европе: она пойдет своей дорогой!.. У нас, слава Богу, нет парламента! – говорил премьер-министр Столыпин с трибуны Государственной Думы…
И то говорилось после войны 1904–05 года; говорил человек, коего считали «исключительным государственным умом»!
Всмотритесь в такого Столыпина, и вы увидите – как мало понимали русскую действительность люди, стоявшие далеко от народной жизни!
Жилось им самим хорошо, а остальное – вредная фантазия, либерализм и проч.
На такой основе жили и «благоденствовали» русские верхи.
У нас, слава Богу, нет парламента! – говорил министр-председатель.
Шапками закидаем! – подпевали ему господа «патриоты».
Все обстоит благополучно! – успокаивало военное министерство.
Гром победы раздавайся! Веселися храбрый Росс! – вторили ему военные верхи и середина.
Но когда вместо грома победы раздавались громовые раскаты поражений (1855–56 г., 1904–5 гг.), тогда во всем обвиняли… евреев, масонов, социалистов и всех – кого вздумается, только не самих себя, не свои порядки и свое поведение!
Организованной общественной жизни не было в России; следовательно, не было и того, что принято называть «общественным мнением». Откуда оно могло явиться, когда от «обывателя» требовалось только послушание властям, а всякие рассуждения об общих – государственных делах, и тем более их обсуждение, почиталось вредным либерализмом… «Обыватель» должен был верить, что рачительное начальство обо всем печется, обо всем думает…
Про то начальство знает! – говорил обыватель из низов.
Там, наверху сидят люди не глупее нас, – успокаивал себя и других средний обыватель, поигрывая в картишки или закусывая добрую рюмку «столового» вина. Мы первая Держава в мире! – говорил сановник.
Надо быть «патриотом», а патриот не должен позволять вольнодумства и колебания государственных основ – ни себе, ни другим.
* * *
Россию сравнивают с колоссом на глиняных ногах. Но это сравнение не верно. Россия была организмом, в коем только небольшая часть органов имела применение; все остальное бездействовало и мало-помалу атрофировалось. Это было тело со связанными руками и ногами, со сдавленным желудком и ущемленным черепом.
Ни естественные богатства страны, ни ее живые силы не были использованы должным образом.
Верхи не хотели общего участия в общем деле.
Они хотели управлять всем сами!
Это то самое, что потом случилось в Деникинской и во Врангелевской организациях. Это то самое, что принято называть «лавочкой». «Лавочка» была у Царя. «Лавочка» была и в других организациях после февраля 1917 года; «лавочка» и теперь у большевиков. Всюду – «свои». Дело общее, а управляют только «свои»! И в этом еще нет беды в теории: не всем же быть наверху, у руля; пусть будут на верхах «свои»; но пусть делают хорошо общее дело, именем которого они добрались к власти! Пусть эти «свои» поступают так, как умный или дальновидный хозяин. Он тоже не советуется со своими работниками, не жмет им рук, не говорит льстивых речей, не составляет из них ни «советов», ни парламентов. Но он, прежде всего: знает свое дело и свое хозяйство; он действительно обо всем заботится, обо всем думает; все любит, все бережет, все направляет, всем дорожит – будь то человек, лошадь или вещь. Ко всему он подходит с любовью и умением…
И хозяйство его преуспевает, и все им довольны, все любят его, и даже скот доказывает это, как может.
Почему же наши «лавочки» не уподоблялись такому умному хозяину, почему их психология тянула их прежде всего к актам грубого эгоизма, при полном отсутствии предвидения?
* * *
Потому, что ни в семье, ни в школе, ни на службе – не было надлежащего воспитания.
Все в России исходило сверху – и требования, и указания, и поощрение, и наказание. Царь был земным бгом, по крайней мере по словесной идеологии. Он был «батюшка», и законодатель, и судья, и вождь. Все шло от него и через него. Недаром один из великих князей говорил: «Россия, это – вотчина Романовых». Ему, владельцу вотчины – всякий почет и уважение. Но – на него же падает и ответ за непорядки в вотчине, особенно если он владеет ею давно и самодержавно.
Права и ответственность старшего – есть закон всякой правильной организации. Старший должен все знать, что к его организации относится, все направлять, всех учить и всех воспитывать… К тому же, я полагаю, что при искреннем желании Самодержца – никто не может преградить ему путь к знанию действительности и к Правде. И тогда не нужно было бы защищать Самодержца жалкими словами: «он не знал», а самому ему не пришлось бы записывать в свой дневник запоздалого открытия, что – «все кругом ложь, обман и измена!»
Но в России, по примеру Царя, «не знал» и министр, и всякие другие власти!.. Не знали того, что нужно было знать, и не делали того, что следовало делать.
Великий Император французов Наполеон Первый, вникавший во все государственные дела, находил время – и для бесед с солдатом, и для экзамена офицеру, и для поверки строевой подготовки юнкера, и для знакомства с настроениями парижских обывателей, и для чтения записки о «пароходе», и для личных рекогносцировок на войне, и для поверки там сторожевой службы, и для наблюдения за выходом и размещением войск на позиции, и для ознакомления с настроением войск перед боем, и для воодушевления их в бою! Нельзя, конечно, требовать от всех энергии, выносливости, памяти и знаний Наполеона, т. е. всего того, чем характеризуется гений. Но – кому много дано, с того и много взыскивается. А если шапка Мономаха тяжела, то надо снять ее вовремя!.. Но, увы, власть так гипнотизирует людей, что они не в силах оторваться сами от нее. Самодержавие, как и парламентаризм, имеет свои плюсы и свои минусы, и первые могут доминировать только при соответствующей личности Самодержца!
После Екатерины II-й самодержавие было очевидно не по плечу его носителям. Эта очевидность вытекает из состояния всего государственного аппарата и всего народного хозяйства.
* * *
Но что особенно говорит не в пользу русской власти, это – состояние, подготовка Армии, той самой Армии, которая была всегда любимым детищем русских Самодержцев во все времена!
Армия непрерывно поглощает колоссальные средства и все же постоянная, хроническая «неготовность» тяготеет над нею!
Еще в 18-м веке она кое-как преуспевает, выдвигая и таких военных людей, как Суворов, Румянцев, Багратион, Кутузов (дней Суворова, а не 1812 г.). Но 19-й век в общем является почти сплошным поражением русского оружия! И в этом нет ничего удивительного, если вникнуть в состояние всего русского хозяйства. Если оно не лопнуло раньше, то только благодаря колоссальным природным богатствам страны и невероятному терпению народа, выносившему и своеволие верхов, и их бесхозяйственность.
Но всякой расточительности, невежеству и безумию бывает один конец – крах.
* * *
Главные особенности русского народного хозяйства (государственного устройства) вытекали из всего прошлого России. В России были две расы людей: «барин» и «мужик». Барин – это не только тот, кто был у власти, не только помещик и богатый человек, а всякий прилично одетый человек и притом, конечно, грамотный. В противоположность ему мужик – крестьянин, рабочий, прислуга, все это – темнота, среди которой читавший и пишущий человек – редкость. Барин жил преимущественно в городе, а мужик в деревне, на фабрике, на заводе.
Мужик жил бедно. Земли у него было мало. Но еще хуже были условия землевладения (общинное владение, ежегодные переделы, черезполосица, удаленность земли от жилища). К тому же народная темнота сказывалась и на приемах обработки и пользования землею. Впрочем, в последнем вопросе главную роль играла бедность и малоземельность, а не темнота. Мужик знал, что под озимый хлеб землю надо пахать в июле или августе, а не в сентябре и октябре. Но у него к нужному времени не было свободной земли и свободного инвентаря. Мужик знал, что «стойловое» содержание скота выгоднее «пастбищного» на лугах и жнивьях; но травосеяние требует земли и обработки, а пастбища – или нанимаются по дешевой цене, или… скот пасется где придется, иногда на чужих угодьях. Земледелие – главное занятие русского народа – находилось в плохом состоянии. На юге России, например, в Харьковской губернии – 50 пудов зерна с десятины считается хорошим урожаем, особенно в крестьянском хозяйстве. А между тем при хорошей обработке и при правильном хозяйстве средняя по качествам земля в этой местности может дать 100 пудов зерна, а хорошая земля – до 300 пудов с десятины!
Бедность крестьянская сквозила и во всем их обиходе – жилище, одежда, пища, уход за детьми, содержание самих себя… Всюду грязь, ветхость, невежество, суеверие, беспомощность в случаях болезни или иного несчастья. Вообще жизнь крестьянина была тяжела физически. Конечно, были и богатые крестьяне, и даже очень богатые, но это – единицы среди нуждающейся и грязной массы.
* * *
Еще хуже обстояло дело с духовной стороны. Здесь «поле» крестьянина было еще уже и еще более худосочно. Школ мало: на 20–30 верст одна да и та плохо обставленная. Не удивительно, что грамотность в деревне была редкостью и притом преимущественно в форме «малограмотности». Еще недавно русский мужик ставил на бумаге вместо подписи три креста. Сельские учителя были под подозрением. На них смотрели, как на агитаторов. Школы были крайне бедны всем, даже отоплением; библиотеки были самые жалкие. В довершение всего школа посещалась только осенью и зимою: в остальное время дети помогают родителям в хозяйстве.
О влиянии духовенства я уже говорил. Духовенство скорее плелось по протоптанной стезе серой деревенской жизни – с ее заботами о хлебе насущном и о всяких «достатках», и вообще о всем совершенно земном! Не только духовного экстаза и божественного огня не было у деревенского духовенства, но оно не светилось даже в виде дымных лучинок! «Поп» в устах народа был синоним алчности и олицетворением земных забот.
Исправная бричка, сытые лошадки, румяная и многочадная попадья, обильное хозяйство на церковных землях и чистенький домик при церкви – вот идеалы русского сельского священника.
Если жизнь была скудна, за отсутствием церковных угодий или тороватых помещиков и купцов, то приходилось «нажимать» на требы. А на Украине был даже обычай «линования», т. е. объезда подряд (в линию) всех прихожан; причем священник угощал вином, а крестьяне дарили ему всякий – кто что может: кур, яиц, муку, зерно, лен и т. д. В области священнослужения царила догма и обрядность. Деревенская паства не слышала сильного, вдохновенного слова – проповеди любви и помощи ближнему, проповеди истинной христианской морали. Народные массы были во власти суеверия, предрассудков и грубого невежества. В деревне царил примитивный жизненный уклад и жестокая грубость нравов. Мужик находился на весьма низкой степени развития человеческой культуры.
Интеллигентных сил в деревне было очень мало, да и какие это были силы! Школьный учитель, фельдшер, писарь, «поп» – все это думало только о себе, о своем «достатке».
Если школьный учитель и отходил иногда в область «умствования» и критики, то – только от досады на свое жалкое существование. Будь этот учитель хорошо обставлен и хорошо оплачен – никакая «пропаганда» не полезла бы ему в голову. Фельдшер и писарь слишком были заняты алкоголем и собиранием «дани» от крестьян: им некогда было разговаривать о «высших» предметах. В некоторых больших деревнях были и другие интеллигенты, например: судья, следователи, доктора, купцы, полицейские и иные чиновники, земские начальники, помещики. Но все это влачило жалкую жизнь русского «обывателя», для которого воля начальства – единственный закон жизни, а карты и выпивка – лучшее препровождение времени и даже – главное занятие. Земские деятели сидели в городах на положении чиновников или в своих усадьбах – при своих хозяйствах. Мало кто из них вносил живительную струю в деревенский уклад, мало кто улучшал условия существования вверенных им масс. Большею частью это были разорившиеся помещики или недавние корнеты и поручики. Что могли они «творить», кроме того, что творила вся обывательская Россия, т. е. жила для себя, праздно, непродуманно и даже вредно, так что вызывала справедливые нарекания бедноты, которая вообще таила глухую ненависть к «барам» и ко всему тому, что носило следы «панования». Даже в тех случаях, когда в деревне появлялся деятельный и всем полезный помещик или другой интеллигент, то и тогда крестьяне относились к нему с недоверием. Известно, барин, – говорили они. – Балуется, тешит себя!