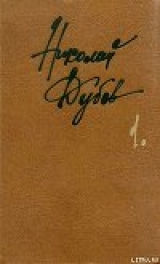
Текст книги "Родные и близкие. Почему нужно знать античную мифологию"
Автор книги: Николай Дубов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Возвращаясь из своих отлучек, Марийка ещё на пороге выпаливала все принесенные новости. Но вернувшись однажды, она не сказала ни слова, избегая взгляда Шевелева, собрала ужин, но сама не ела и сидела молча, глядя в стол.
– Что случилось. Марийка? Плохие новости? Давай выкладывай, что в прятки играть? Все равно сказать придется.
Марийка зыркнула на него, снова опустила взгляд и, закусив нижнюю губу, принялась старательно размазывать пальцем лужицу молока.
– Люди говорят, – сказала она, – что в селе два гада нашлись – заделались полицаями… Мало, что был староста, так теперь и полицаи есть… Так люди говорят, что те полицаи похвалялись, что если кто будет партизан прятать, так и тех партизан и хозяев в гестапо сдадут и хату спалят…
– А что, партизаны объявились? Где? – взволновался Шевелев.
– Да нема тут никаких партизан. Люди бы знали. И где им быть? У нас на хуторе? В селе чи в Тарновском лесу? Там того леса – курячьи слезы, наскрозь всё видать. А партизанам же где-то прятаться надо… То полицаи людей стращают, чтобы никого не прятали, никому не помогали…
– Этого следовало ожидать, – сказал Шевелев. – Я ведь тебе с самого начала говорил: нельзя мне у тебя прятаться. Теперь из-за меня и ты можешь пострадать. Ну, я – солдат, а ты за что?
Марийка исподлобья зыркнула на него и снова опустила голову.
– И то хорошо, что так получилось. Меня ведь могли сразу зацапать и шлепнуть. А ты мне ногу вылечила и вообще выходила.
– Где ж там выходила, когда вы шкандыбаете?
– Шкапдыбать лучше, чем ползать. Доползти я только до твоего огорода смог, а догакандыбать можно далеко… Я уйду, и никакой гад к тебе не придерется. Ничего, если я одежку твоего таты надену? Всё не так буду в глаза бросаться.
Шевелев надел засаленный ватник, который Марийка называла «куфайкой», взял облезлую смушковую шапку.
– Спасибо, милая, за всё. Если выживу, никогда тебя не забуду.
Марийка, исподлобья наблюдавшая за его сборами, внезапно вскочила и, раскинув руки, заслонила собою дверь. По лицу её вихрем пронеслись смятение, страх, отчаяние, и так же мгновенно оно застыло в непреклонной решимости.
– Не пущу! – сказала она, закусила нижнюю губу и с вызовом откинула голову.
– Что значит – не пустишь? Это не игрушки – надо уходить, пока не поздно.
Шевелев взял её руку у запястья, чтобы отвести от двери, но она вдруг ощерилась и крикнула:
– Не чипайте, бо укушу!
Глаза её стали бешеными, и Шевелев понял, что она действительно может укусить его за руку.
– Не дури, Марийка! Всё, что ты могла, сделала.
А бороться с немцами и полицаями – не девчоночье дело.
– Какая я вам девчонка? Мне через два месяца восемнадцать будет!
Шевелев невольно улыбнулся:
– Ну прямо старуха, ничего не скажешь.
Ожесточенное напряжение в лице Марийки не ослабело, от двери она не отошла и рук не опустила.
– Вот я вас слухала, дядечка, а теперь слухайте вы меня… Никуда вы не пойдете, бо я вас не пущу. Для того я вас выхаживала, чтобы вы ото пошли и пропали? Куда вам идти? Некуда вам идти! В Киев? На фронт? Да вы же всю зиму будете шкандыбать и не дошкандыбаете! Да вас первый немец как побачит, так и застрелит! А есть что? А спать где?
– Люди помогут.
– Люди разные бывают. Вот же нашлись такие, что в полицаи пошли?.. А на тех полицаев я плевать хотела! Да я их вокруг пальца обведу! Моя ж хата самая дальняя от дороги: пока они сюда дойдут, я вас сто раз успею в сене зарыть… Так что снимайте, дядечка Михайло, куфайку и шапку, бо никуда вы не пойдете.
– Ну, хорошо, пусть будет по-твоему, – сказал Шевелев и разделся. – Ты поешь всё-таки, а то ведь ни к чему не притронулась.
– У меня всегда так, – сказала Марийка. – Я всегда ужасно переживаю. Как начну переживать, так совсем есть не могу…
– Я давно тебя спросить собираюсь. Что за манера у тебя – чуть что, сразу губу кусаешь?
– Та, – засмеялась Марийка, – отака дурна привычка. С малолетства. Маты и лаяли меня, и по губам били, а всё равно так и осталась.
Марийка принялась за еду, потом вдруг искоса посмотрела на Шевелева.
– А чего это вы вдруг стали такой послушный? То пойду, пойду, то вдруг сразу нет… Ох, вы же и хитрый, дядечка Михайло! Вы подумали: как та дурна дивчина заснет у себя на печи, так я тихонечко оденусь и уйду, а она себе будет спать и спать… Так вот, дядечка Михайло, вы хитрый, а я ещё хитрее. Вот и сделаю так, что никуда вы не пойдете. – Марийка сняла с вешалки «куфайку» и шапку и забросила их на печь. – Вот и всё. Куда вы теперь голый пойдете?
Шевелев обозвал ее про себя чертовой девкой: именно так он и собирался поступить.
– Ну что ты придумала? А если мне выйти понадобится?
– А идите на здоровьечко. Мороза ещё нема, а всё одно без куфайки не засидитесь, – прыснула Марийка.
– Упряма ты, как твоя коза!
– А вы думали, меня обманете? А як же! – торжествуя, сказала Марийка.
Обычно отлучки Марийки продолжались недолго, но через несколько дней она вдруг запропастилась. Шевелев начал тревожиться и, предполагая худшее, оделся, чтобы в случае чего успеть убежать хотя бы со двора, спрятаться в канаву у левады, как тогда, в сентябре. Висячий замок на наружной двери нетрудно было вырвать из тонких колечек. Он даже начал осторожно отодвигать занавеску на окошке, из которого был виден подход ко двору и калитка. И он увидел, как встрепанная, расхристанная Марийка сломя голову бежит к хате. Шевелев встал перед входной дверью, готовый к худшему.
Марийка не вбежала, а ворвалась в кухню, припала к нему, потом схватила за руки и начала кружиться, заставляя и его, неуклюже прихрамывая, кружиться тоже.
– Ой, дядечка, ой, дядечка! – ликуя, закричала Марийка. – Теперь всё! Теперь не надо бояться! И плевать на всех полицаев… И не надо вам больше ховаться, и будете вы теперь, как все люди…
– А ну, давай толком! – оборвал её Шевелев.
От радости и желания сказать все сразу Марийка несколько минут ничего толком сказать не могла, слова сыпались из неё, как горох из лопнувшего мешка. Поуспокоившись, она рассказала, что весь хутор ходором ходит. Галька Кононенчиха, что живет у самой дороги, и соседка её Оксана Демчук поехали в город на базар. А там прослышали, что немцы в бывших конюшнях артполка сделали лагерь для военнопленных. Сколько их там, никто не знает. Много. Сидят они, бедные, за колючей проволокой, а немцы их совсем не кормят и не лечат, а там и раненые, и больные… Ну, люди видят, как наши погибают от голода и всяких болезней, и начали носить, кидать им за проволоку кто что может – кто хлеба, кто картошки… А одна тетечка увидела там не то мужа, не то брата, побежала до начальника и в ноги: отпустите, он же и больной, и раненый… Тот и отпустил. Тогда и другие стали просить. Чего уж они там говорили, неизвестно, только немцы и ещё отпускали…
– Так всех и отпустили? – недоверчиво спросил Шевелев.
– Ну, где там всех! А сколько-то отпустили. Тогда и Галька тоже решила. Она молодица смелая, ничего не боится. Чего уж она начальнику брехала, не знаю, только выпустили того, на кого она показала… Вот Галька и привезла его. Сам бы он десять раз по дороге помер – такой худющий. Одни глаза да кости. Галька говорит: ничего, откормлю. А ещё Галька говорила, что из нашего села ещё одна тетечка тоже выпросила себе пленного и привезла его в село. И староста про то знает, и никто им ничего не говорит и не делает. Значит, можно пленным у людей жить, если их даже из лагеря отпускают. Значит, и вам, дядечка Михайло, можно больше не прятаться… А что? Почему Гальке можно, а мне нельзя? Тому дядьке можно, а вам нет? Вот давайте набрешем, что вы мой двоюродный дядька. У мамы десь за Бахмачем жил двоюродный брат, учителем был в каком-то селе. Тут он сроду не был, бо мамо же не отсюда родом, а из Выровки. А он как поехал учиться, так потом и дома не бывал. А когда началась война…
– Нет, Марийка, лучше не брехать – в брехне легко запутаться. Давай уж как было на самом деле: я приполз раненый, ты помогла, выходила меня, вот и всё. Ты только не спеши рассказывать про меня – посмотрим, как с теми будет…
С теми обошлось – ни бывших пленных, ни приютивших их хозяек никто не преследовал, и Шевелев перестал прятаться. Оказалось, соседи давно уже знали, что Марийка прячет раненого, только молчали об этом. А теперь произошли «смотрины». Под пустяковым предлогом пришла соседка, похвалила Шевелева за то, что он помогает бедной дивчине, которая осталась одна и никакой мужской работы делать не умеет, спросила, откуда он и не встречал ли её мужа, всплакнула о нём, потому что даже неизвестно, живой ли он, а если живой, может, вот так же где-то попал в плен и тоже бедует… С лишними вопросами она в душу не лезла и скоро ушла. Без всяких предлогов прибегали Марийкины подружки. Они вежливо здоровались, но в разговор не вступали, шушукались с Марийкой, а на него только зыркали с жадным любопытством.
– Ну, как на хуторе отнеслись к тому, что ты меня прятала? – спросил Шевелев.
– А хорошо отнеслись, – ответила Марийка. – Говорят, правильно сделала, не дала пропасть человеку. Все люди хвалят, – не без гордости добавила она. – Вот только Кононенчиха-та…
– А что Кононенчиха?
– А плетет, бесстыжие её очи… «Надо было, говорит, как я. Вон какого казака выбрала – и молодой, и здоровый. Откормлю, будет як коняка. А ты какого-то старика подобрала, да ещё и хромого…» Дура она, хоть и двое детей уже имеет…
– Так ведь правильно, Марийка, – улыбнулся Шевелев. – Так оно и есть – и хромой, и старый, толку от меня мало.
– Тю на вас, дядечка Михаиле! Да шо я, выгоды какой искала? Я думала, как помочь, когда вы были такой бедный, шо и ходить не могли… И то брехня – не такой уж вы и старый!
Теперь, уже не таясь, Шевелев стал, насколько умел, приводить в порядок Марийкино хозяйство, а узнав, что у соседки дверь коровника плохо закрывается, а корове скоро телиться и Настя боится, что теленок замерзнет, пошел туда и, провозившись почти целый день, подогнал перекошенную, провисшую дверь. В благодарность Настя протянула ему кусок сала, завернутый в тряпочку.
– Извиняйте, больше у меня ничего нет.
– Я не ради этого приходил, – сказал Шевелев. – Я солдат, а вы жена солдата. У вас вон двое пацанов, как у меня. Что же я, у детей кусок отнимать буду?
Вместо ответа Настя расплакалась.
Повалили снега, у Шевелева прибавилось забот – разгребать сугробы, прокладывать дорожки. Он был бы рад работать тяжелее и дольше, но вся работа кончалась засветло, дни же становились всё короче, а вечера длиннее и мучительнее. Мучительнее всего была неизвестность.
Вот только здесь и теперь Шевелев понял, как много значило то, чему прежде он не придавал значения, о чем даже не задумывался. Никогда он не усаживался с намерением слушать радио, слушал его только на ходу, между делом, не читал газеты от доски до доски, не собирал, не выспрашивал никаких новостей, но изо дня в день, с утра до ночи они наплывали на него со всех сторон. Он знал, что происходит в мире, в стране, в городе, в институте, в кругу его близких и друзей. Не отдавая себе в том отчета, он не только знал, но и был как бы всему сопричастен. Пусть практически сопричастность эта не выходила за пределы узкого круга сослуживцев, друзей и знакомых – она была несомненной и необходимой, создавала полноту жизни, без которой существование было немыслимо.
И вот теперь он вёл это немыслимое существование. В глухом, занесенном снегом хуторе оборвались все прежние связи с жизнью. Он оказался оторванным от всего и от всех, словно оглох и ослеп. Мир потрясала самая ужасающая война из всех, что когда-либо происходили. А он ничего не знал о ней. В страну хлынули полчища беспощадных врагов, они взрывали, жгли, уничтожали и рвались всё дальше на восток, в глубину России. Он не сомневался, что война не на жизнь, а на смерть продолжается, рано или поздно эти полчища остановят и погонят обратно. А он ничего не знал об этом. Остались одни, без его помощи, Варя и дети. Где они, живы ли, а если живы, то как и чем они живут, какие беды и страдания выпали на их долю? А он ничего не знал об этом, и узнать не было никакой возможности и надежды. И, наконец, он не знал, как жить и что делать ему самому. Он не прятался от войны, не бежал с поля боя. Уцелел он чудом, но уцелел, война лишь покалечила его и отбросила в эту призрачную жизнь, которая не жизнь, а выматывающее душу ожидание… Чего? Этого он тоже не знал.
Марийку не терзали мучения, которые испытывал Шевелев. Конечно, война сказалась и здесь, на хуторе. Скучно было без радиоточки, которая раньше непрерывно жундела, что-то бормотала или наигрывала, в селе не стало ни сельпо, ни клуба, некуда было сбегать раз в неделю в кино, негде было купить керосин или что ещё. Но грохочущая машина смерти, которая называется войной, пронеслась мимо, в хуторе и в селе все хаты остались целы. Мужчины и парни ушли в армию, остались старики, бабы да малыши, но жизнь надо было продолжать, а чтобы продолжать её, нужно было работать. И все в меру сил, а то и через силу работали. Работала и Марийка. Похоронив мать и оплакав потерю, Марийка с тревогой думала, как одна-одинешенька она будет зимовать в своей хате на отшибе, но потом появился этот раненый дядечка Михайло. И она принялась за ним ухаживать, как ухаживала за татой, а потом за больной матерью. Или как медсестра на фронте. Ну, не совсем как медсестра, потому что у неё был всего один раненый боец, но всё-таки она его выходила, вылечила, как будто была медсестрой и тоже участвовала в войне. И потихоньку, про себя, Марийка этим гордилась. А кроме того, получилось так, что теперь бояться ей нечего: зимой она будет не одна, перепугавший её своим страхолюдством дядечка оказался обыкновенным и даже симпатичным, вот только не очень разговорчивым – всё время молчал и о чём-то думал. Сама Марийка молчать не умела и говорила за двоих. Никакой другой жизни она не видела и не знала – даже ещё ни разу не была в райцентре – и потому не могла о ней тосковать, жизнь в глухом, заброшенном хуторе не тяготила её, и, если не война, жизнь эта была бы совсем безоблачна. Никто не мог сказать, что будет потом, даже завтра, но пока всё было тихо и спокойно, ничто не угрожало ни самой Марийке, ни её дядечке. Так зачем сушить себе голову над тем, что всё равно не угадаешь и не узнаешь? Надо просто работать и жить. Как ни бедно было Марийкино хозяйство, оно всё-таки требовало целодневного труда. Он был ей привычен и потому не тягостен. А иногда даже приятен. Молчаливый дядечка Михайло нет-нет да и хвалил её за расторопность и уменье. От его скупых похвал Марийка расцветала и старалась ещё больше.
Покончив с делами, они ужинали при каганце, обсуждали новости, если они были, и что надо сделать завтра, потом Шевелев шел в комнату и ложился. Марийка прибирала на кухне, потом стелила себе на печи, раздевалась, но не ложилась сразу, а в одной рубашке становилась перед иконами на колени и шепотом молилась. Подслеповатая лампада освещала лики Спаса, Богородицы и склоненную фигурку Марийки. Извне не доходило ни звука, а в хате стояла такая тишина, что Шевелев довольно отчетливо слышал шепот Марийки. Должно быть, она не знала до конца ни одной молитвы, когда какую нужно употреблять, и из вечера в вечер повторяла затверженную вязь молитвенных отрывков, а под конец просила бога сделать то-то и то-то, напоминала ему о своих прежних просьбах, которые ещё не были исполнены, потом, шлепая босыми пятками по доливке, бежала к печке и взбиралась на неё. Но время всё-таки было раннее, спать ей не хотелось. Она ложилась на живот поперек печки, подпирала подбородок кулаками и пыталась разговорить Шевелева:
– Что вы, дядечка Михаёло, всё молчите и молчите? Хоть бы поговорили со мной. А то будто вы сердитесь.
– За что мне сердиться? Просто я всегда не очень разговорчивый.
– Вот и тато у меня такие были. Мамо, бывало, над ним говорят-говорят, говорят-говорят, а они всё молчат. А потом мамо аж сердились: «Степан, – говорит, – да ты меня слухаешь чи ни?» – «А как же, – говорят тато, – тебя слухать, если у тебя слова впереди тебя бегут, так шо ты их и сама не слышишь?..» От, наверно, и я так. А?
– Похоже, – сказал Шевелев.
– Так вы взяли бы да рассказали чего-нибудь. Шо я? Дурна сельская дивчина. А вы в Киеве жили и с высшим образованием. Сколько всего видели, знаете, Вы, мабуть, и в Москве были, и в Ленинграде…
– Был.
– Вот и рассказали бы, какие они.
Шевелев начал рассказывать о Ленинграде, а так как очень любил этот город, то даже увлекся, описывая его дворцы, соборы, каналы и мосты… И вдруг он явственно услышал зевок.
– Что, Марийка, неинтересно тебе?
– Нет, дядечка Михайло, очень интересно! Только… ну что ж те мосты, если я их не видела и, может, никогда не увижу? А вы расскажите что-нибудь про любовь…
– Ну нет, – сказал Шевелев, – про любовь пусть тебе молодые рассказывают.
– А они ничего говорить про то не умеют. Только и знают, что мовчки лапаться… А оно мне нужно, чтобы меня лапали? Я – по рукам, по зубам и бегом до дому… Да и где они, те молодые? Все на войну ушли. Может, всех уже и поубивало.
– Так уж и всех! Кто-то вернется… А потом подрастут другие.
– Для них я буду уже старая… Вы не думайте, я не как-нибудь там… Я просто хочу понять. Вот говорят, говорят и в книжках пишут – любовь, любовь… А шо оно такое – любовь?
Шевелев помолчал.
– Не знаю, Марийка. Вряд ли я смогу объяснить. Да, наверно, и нельзя это объяснить – у каждого по-своему. Мне кажется, любовь – это когда один без другого не может жить. И главное – это когда хотят и делают всё, чтобы сделать жизнь любимому человеку легче и радостнее.
– Ото и вы так свою жинку любите?
– Да. Старался, чтобы так было.
– Счастливая она! – вздохнула Марийка.
Она давно уже выспросила у Шевелева, где он жил и чем занимался, женат ли и есть ли дети, сколько кому лет и как они живут, какая у них квартира и зарплата и что можно на ту зарплату купить. Все эти вопросы были проявлением простого любопытства к жизни человека, с которым случайно свела её судьба. Сейчас она пыталась выяснить то, что, по-видимому, на самом деле волновало её и спрашивать о чём больше ей было не у кого.
– А расскажите мне про свою жинку. Какая она?
– Разве это можно рассказать!
– А конечно же, можно! Очень она красивая?
– Да нет, пожалуй, нет. Разве дело в этом! У Вари была очень красивая подруга, но полюбил-то я не её, а Варю.
– А за что?
– Да пойми ты, любят не за что-то или почему-то… Любят, и всё.
– То вы просто не хочете сказать. Как это так – встретил дивчину, сразу её полюбил, а за что, неизвестно… Так не бывает! С чего-то ведь началось…
– Не знаю, с чего началось. Может быть, с того, что она показалась мне такой маленькой, такой хрупкой и нежной, что её чуть ли не ветер может переломить…
– И вы её пожалели? – подсказала Марийка.
– Вовсе не нужно было её жалеть! Она была такая живая, веселая и подвижная, как ртуть. Моторная, как ты говоришь про себя.
– Правда? – обрадовалась Марийка.
– Только, наверно, эта живость делала её хрупкость и ранимость ещё очевиднее. И мне всё время хотелось быть с нею рядом, чтобы оградить, охранить её от всего, что могло ранить её… Да ну тебя, хватит об этом. Спи давай!
Вопросы Марийки разбередили давно ноющую рану. Всё так и было, как он сказал. Так с Варей всё началось, так продолжалось все последующие годы до черного июньского дня, когда на окраину Киева упали первые бомбы, а через два часа после объявления по радио он ушел в военкомат… Но до этого так ли бережно хранил он Варю от тягот и всякой скверны жизни? Любовь оказалась незамутненной, но не приглушал ли её чистый голос бытовой шум? И не стало ли многое, что прежде каждый раз было радостным открытием, отдавать привычкой?..
Хуторская жизнь шла заведенным чередом. Вопросов о любви. Марийка больше не задавала, только иногда Шевелев ловил на себе её необычно внимательный взгляд, словно она пыталась что-то в нём разгадать или понять, открыть то, что скрывалось за привычной хмуростью.
– Ты что? – спрашивал он.
– Та, дурныци… – смеясь, отмахивалась Марийка.
Однажды Шевелев, который уже лежал в постели, заметил, что Марийка слишком долго молится – раза три повторила свою вязанку из молитвенных отрывков.
– Ты что так усердствуешь? – спросил он. – Праздник, что ли, какой?
– Может, и праздник, – сказала Марийка. – Не мешайте, дядечка…
Она ещё раз повторила свою путаную молитву, но, вместо того чтобы пробежать к печке, подошла к кровати, нерешительно переступила с ноги на ногу, потом поспешно перекрестилась, перекрестила его и юркнула к нему под одеяло. Её била дрожь, как в жестоком приступе лихорадки.
– Ты что это выдумала?
– От шо надо, то и выдумала. Подождите, дядечка, я сейчас перестану труситься и всё скажу…
– Иди на печь, там согреешься и перестанешь трястись.
– Не пойду! – сказала Марийка. – От хоч убейте, не пойду!.. Как же вам не совестно, дядечка Михайло, вы такой разумный, такой образованный, отак хорошо про любовь рассказываете, а сами про неё ничего не понимаете… Как же вы не видите, шо я вас люблю?
– Ты что, сдурела? Какая любовь?! Да я тебе в отцы гожусь! Соплюха! От горшка два вершка, а туда же – любовь… А ну, марш на печь без всяких разговоров…
Он нарочно грубил, чтобы обида отрезвила Марийку, даже пытался вытолкнуть её из постели, но Марийка обхватила руками его за шею и изо всех сил прижималась к нему.
– Не пойду! От хоч лайте, хоч побейте, всё равно не пойду… Дядечка Михасю, ну что я могу сделать, если так дуже вас полюбила? И какая я соплюха, если я совершеннолетняя?.. И что из того, что вы старше? Разве любят по метрике?.. Я сначала сама не понимала, я только недавно поняла, как вас люблю. Так что, я должна брехать и притворяться? Вы сами всегда говорили, что брехать не годится. И разве это стыдно – любить? Я же ж вас люблю, любимый мой дядечка Михасю… Так люблю, что и сказать неможно…
Давясь словами, Марийка горячо шептала ему в самое ухо и дрожащим телом всё прижималась и прижималась к нему. Шевелев не был ни святым, ни железным. Голод истосковавшегося мужского тела оказался сильнее доводов разума и совести.
Он проснулся перед рассветом, Марийка не спала и, стараясь не разбудить его, тихонько всхлипывала.
– Ну вот, – сказал Шевелев, – добилась своего, а теперь ревешь.
– Ах, дядечка Михасю, да разве я о том плачу?.. Я с перепугу плачу. Я за счастье своё испугалась. Ото только теперь поняла, какую беду едва сама не наделала… Какая же я была дурацкая дура, что тогда рассказала про полицаев, что будут они искать всех чужих, и вы собрались уходить… Ну, тогда я вас не пустила, так вы же потом всё равно могли уйти! Ушли бы как-нибудь потихоньку. И пропали… И получилось бы, что я сама и вас, и счастье своё погубила, из дома выгнала…
Марийка уткнулась лицом ему в плечо и заплакала в голос. Шевелев, как маленькую, поглаживал ее по голове и успокаивал. Постепенно Марийка затихла, потом сказала:
– Ну ладно, хватит плакать по тому, чего не было. Пора за хозяйство приниматься.
Шевелев не сожалел о том, чего не было. Достаточно того, что случилось на самом деле. Теперь, когда схлынула волна возбуждения, ему было мучительно стыдно. Ну, она девчонка, несмышленыш, что с неё взять. А он-то хорош, старый козел! Пробудившуюся в ней жажду любви она приняла за любовь, а он, как последний подлец, воспользовался… Она спасла ему жизнь, а он отблагодарил тем, что искалечил её жизнь.
Шевелев вышел в кухню, сел за стол. Марийка хлопотала у печки. К досаде на себя начало примешиваться и раздражение против неё. Она-то как на это решилась? Действительно, не такая уж маленькая, в её возрасте замуж идут, а то уже и рожают. Стало быть, она не может не понимать, какие последствия влечет за собой происшедшее. Так кто же она – недоразвитая, блаженная дурочка? Или, может, маленькая хитрая бестия, которая готова добиваться своего любой ценой?.. Этой мысли ему стало стыдно. В конце концов, какой бы она ни была, меньше всего оправданий он находил для себя. Их просто не было, этих оправданий…
– Ой, дядечка Михасю, – сказала Марийка. – Чего это вы такой сердитый?
– Нечему радоваться, Марийка. Давай поговорим всерьез. Что случилось, то случилось, назад не воротишь. А что будет дальше?
– А шо должно быть дальше? Так и будет.
– Пока, допустим. А потом? Ну, война не кончилась, кто жив останется, неизвестно. А когда кончится и если мы будем живы? Я ведь Варю и ребят не оставлю. Никогда!
Прикусив нижнюю губу, Марийка некоторое время молча смотрела на него, а когда заговорила, это был уже не обычный девчоночий щебет, а речь женщины, которая умом или сердцем видит дальше и понимает глубже.
– Ах, бедненький вы мой дядечка!.. Так вы, значит, испугались, что когда война кончится, так я кинусь вас разыскивать и начну доказывать свои права? Плохо вы обо мне думаете, дядечка Михасю! Не бойтесь, не стану ни разыскивать, ни права требовать. Бо никаких прав у меня нема. И не такая я подлая, чтобы отбивать мужа у жены, а детей оставлять без батька. Ничего мне от вас не нужно, и никаких прав не нужно. У меня только одно право – любить вас, а его отнять никто не может. Вот и всё! – заключила Марийка и уже своим обычным голосом сказала: – Давайте завтракать, дядечка Михасю, бо картошка остынет…
– Какой уж я теперь дядечка? – сказал пристыженный Шевелев. – Называй по имени, без всяких дядечек…
Называть Шевелева дядечкой Марийка перестала, но говорить ему «ты» привыкла не скоро.
Только через два года лавина огня, рвущейся стали и смерти прокатилась в обратном направлении. И снова она миновала стоящий на отшибе хуторок. Но как только в селе вместо бежавшего с немцами старосты появился уполномоченный из райцентра и объявил об обязательной явке всех мужчин призывного возраста, Шевелев, не ожидая назначенного дня, ушел. До райцентра было около тридцати километров, на транспорт рассчитывать не приходилось, и он не знал, как скажется переход на раненой ноге, в которой так и остался кусок рваного железа. Марийка показала ему тропу, которая, минуя хутор, выводила на дорогу к селу, откуда к райцентру шел проложенный до войны грейдер. Провожать себя он не позволил, опасаясь за неё – она была на сносях.
Весть о беременности Марийки ударила его, как обухом. Возрастная разница между ними была слишком очевидна, и только злые языки могли судачить о возможной их связи, доказать её было нечем. И вот теперь доказательство появилось, оно будет расти со дня на день, и на хуторе, где жизнь каждого у всех на виду, ничего скрыть не удастся. Его, конечно, осудят. Но мужчин в таких случаях судят не так уж строго, к тому же он солдат, все понимали, что придет время и он неизбежно уйдет отсюда. Вся тяжесть осуждения и даже злоба отчуждения обрушатся на молоденькую девчушку, которая стала полюбовницей чужого, старого человека и прижила с ним ребенка. В таких случаях сельское общественное мнение беспощадно. И тут Марийка снова удивила его. Она не только не испугалась, не встревожилась, а обрадовалась случившемуся и легкомысленно, как ему казалось, отмахивалась, когда Шевелев говорил о будущем и о том, как трудно ей придется. Оказалось, что это не легкомыслие, а твердая, обдуманная позиция.
– Плевать я хотела на бабские пересуды, пускай брешут, шо хочут. Дытына – то ж счастье, когда она от любви. И то ж твоя дытына, Михасю. Вот ты уедешь, а она останется. Значит, и ты всегда будешь со мной.
При расставании Марийка не рыдала, не причитала. Она исцеловала ему всё лицо, а потом, кусая нижнюю губу, только смотрела и смотрела на него. Слезы текли у неё по щекам, они мешали смотреть, она нетерпеливо смахивала их ладонями и снова смотрела, смотрела, пока он не скрылся из виду…
Без малого ещё два года Шевелев воевал, трижды попадал в госпиталь и снова возвращался в строй. Чего только за это время не наслушался и не насмотрелся. И сколько раз довелось ему слышать то бесшабашный, а то и просто бесстыжий припев всякого рода негодяйству – «война все спишет»! Шевелев не вступал в споры, но знал – с совести ничего не может списать даже война.
Увидев Варю, Шевелев почувствовал почти физическую боль. Его руки сошлись за её спиной, будто он обнял что-то почти несуществующее и невесомое, настолько она была худа. У неё было изможденное лицо девочки-старушки со скорбными складками у губ. Она и весила, как подросток, – всего сорок четыре килограмма. Шевелев чувствовал не только боль, но и жгучий стыд. Он не был в том виноват, но виноват не виноват, а всё равно, когда Варя с детьми первых два года самой тяжкой разрухи, неустройства и нищеты голодала и работала на износ, он был сыт, одет и, в сущности, бездельничал: не мог же он считать тяжелой работой возню в убогом Марийкином хозяйстве. А потом? Да, во время боя каждую секунду его могли убить, но он всегда был сыт и одет. Случалось всякое, бывало и очень тяжко, но ведь он был здоровым мужчиной в расцвете сил, а она, и прежде хрупкая, тщедушная женщина, работала сверх всяких норм, голодала изо дня в день, отрывая от скудного пайка лишний кусок для детей, и уже почти стала дистрофиком. Не раз после войны доводилось ему слышать, как хваставшие своими воинскими доблестями трепачи с презрением говорили о тех, кто «воевал в Ташкенте». Дураку и подлецу ничего доказать нельзя, а послать его в Ташкент военного времени на голодный паек, бездомную жизнь и непосильную работу, чтобы на своей шкуре узнал радости ташкентского рая, было уже невозможно…
Сережа и Борька быстро вошли в норму, но Варя медленно и с трудом возвращалась к своему прежнему облику и состоянию. Шевелев соглашался на любые сверхурочные, не чурался никакой работы на стороне, лишь бы прибавить несколько десятков рублей к своим семистам. Пройдя специальную комиссию при поликлинике, он, как язвенник, получил УДП – «усиленный дополнительный паек». Злые языки тут же расшифровали эту аббревиатуру по-своему – «умрешь днем позже». Для злословия были основания, так как весь «усиленный дополнительный» состоял в том, что в диетической столовой раз в день выдавали крохотный ошметок омлета из яичного порошка или котлетку из манной каши, политую буроватым киселем совершенно неопределимого вкуса. Шевелев приносил УДП домой и надеялся, что съедать его будет Варя, но его тотчас заглатывал Борька.
Потом появился Устюгов. Он вернулся в Киев ещё в апреле сорок четвертого, начал работать в газете и регулярно наведывался по шевелевскому адресу, который разыскал с неимоверным трудом, так как никакого адресного бюро и справочных ещё не существовало. До войны они друг друга не знали, в июле оказались в одной части, узнав, что земляки, держались вместе. Вместе они были всего два месяца, но иной фронтовой день оказывался весомее многолетней дружбы в обычной жизни. Истекающего кровью, почти бездыханного Устюгова Шевелев дотащил до медсанбата. Клещи окружения ещё не замкнулись, и после перевязки и помощи на скорую руку тяжелораненого Устюгова отправили в глубокий тыл. Немецкая мина так нафаршировала его железом, что ему пришлось перенести несколько операций, к дальнейшей службе он оказался негоден, был демобилизован и осел в Уфе, откуда с одной из первых партий возвращенцев выехал в Киев. Шевелев ни о чём не просил его, но Устюгов сам всё увидел и понял и каждый раз, возвращаясь из командировки, в которые часто отлучался, приходил с тяжелым пузатым портфелем. В нем оказывалась то картошка, то капуста, а то даже творог и сметана. Сначала это было принято как большое одолжение, потом Варя восстала:








