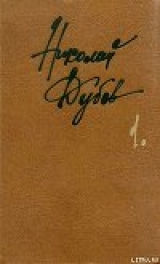
Текст книги "Родные и близкие. Почему нужно знать античную мифологию"
Автор книги: Николай Дубов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Раз так, – сказала Варя, – с домашним сидением кончено. Незачем приносить себя в жертву. Будешь теперь каждый год ездить отдыхать.
– Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным, – повторил затрепанный дурацкий каламбур Борис, уминая привезенный отцом виноград.
– Жаль, что мне нельзя с тобой поехать, – сказала Варя. – Я ведь ни разу не была в Крыму, не видела моря.
– А почему, собственно, нельзя?
– Там жарко.
– Не обязательно ехать в Алушту, можно в другое место.
– Я спрашивала у врача. Категорически запретил: нельзя резко менять климат.
– Если мне нельзя, это не значит, что и ты должен сидеть в Киеве. На будущий год поедешь снова.
И в следующем году он поехал снова. И затем снова…
Марийке исполнилось тридцать четыре года. Миловидная, привлекательная и прежде, теперь она вступила в пору расцвета женственной прелести, о которой расхожая мудрость гласит, что в сорок лет баба – ягода. И Шевелев не один раз задавал себе вопрос: как могло случиться, что Марийка до сих пор остается одна? Веселая, красивая, свободная женщина – и никого… Мужики вокруг неё ослепли, что ли? Дочь? Дочь в таких делах не помеха…
О том, чтобы спросить у самой Марийки, не могло быть и речи. Во всяком случае, не ему о том спрашивать… Объяснение пришло неожиданно. Однажды, когда после купанья они легли на гальку, чтобы обсохнуть, Люба вдруг засмеялась.
– Ты что?
– А вспомнила… Что у нас летом было!.. Жених к нам приходил.
– Ну да?
– Ага… К маме и раньше всякие разные подходы делали. Она же у нас красивая, правда?.. Как идет, так на неё то тот, то другой оглянется. А когда мы с ней в дом отдыха на киносеанс пойдем, так кто-нибудь обязательно потом говорит: «Погода, мол, хорошая, луна светит на всю катушку, не желаете ли прогуляться?» А мама говорит: «Нам с донечкой спать пора!» – «Тогда, в крайности, разрешите проводить? Дочка спать пойдет, а мы на луну и на морской вид полюбуемся». – «А я, – говорит мама, – каждый день на него любуюсь с утра до ночи». Они-то думают, что я девчонка, ничего не понимаю, а ведь я всё понимаю, чего они добиваются… Бывало, что и женатые подъезжали, так тем мама напрямик говорила: «А ты иди, серденько, до дому, бери свою жиночку под ручку и гуляй на здоровье…» А тут мама приходит и смеется: «Держись, донечка, завтра жених придет, сватать меня будет». Как? Кто? «А наш новый агроном. Ты ж его знаешь – староватый такой, спереди весь лысый, так он с затылка волосы одалживает, наперед зачесывает…» В воскресенье приходит. «Здрасьте вам в хату, Мария Степановна». – «Заходите, гостем будете, Петро Левкович». Он садится, вытаскивает из кармана здоровую такую бутылку с белой наклейкой и ставит на стол. «А это зачем, – говорит мама, – когда мы совсем непьющие?» – «Так это не для питья, – говорит он. – Для питья идет водяра. А это называется «Кокур». Идет исключительно для разговору», – «Ну, всё равно закуска нужна. Я сейчас…» – «Нет, – говорит агроном, – под эту святую водичку закуски не требуется. Вот если бы яблочки…» – «А есть, – говорит мама, – белый налив уже есть. Вы, значит, отдыхайте пока, а я сейчас принесу…» Ну, он сидит, оглядывается. «А что, – говорит, – это за личность?!» И показывает на твой портрет. «А это, – говорю я, – мой папа». – «Он что же, на войне пал смертью храбрых или своей смертью помер?» – «А он не помер, живой и здоровый, только живет в Киеве». – «А почему же он там, а вы тут?» – «У него там семья». – «Так что же получается – там семья и тут семья? Выходит, он разложенец? Такого не на стенку вешать, а на помойку выкидать надо!» А тут мама входит с яблоками. «Чего это вы, Петро Левкович, выкидать собираетесь?» – «А вот этого типа, – говорит, – что вы зачем-то на стенку повесили да ещё рушниками украсили. Он же разложенец!» – «Кто-кто?» – спрашивает мама, а сама так побледнела, что мне аж страшно стало. «Разложенец, говорю, аморальный тип…» – «Это он аморальный? А кто ты такой, чтобы про него рассуждать? Да ты его подметки не стоишь!» – «Как это вы себе такие выражения позволяете? – говорит он. – К вам, понимаете, по-хорошему, с серьезным предложением, несмотря на ребенка, прижитого побочным порядком…» Тут маму аж затрясло, и она все яблоки, что у неё в вазе были, как шарахнет ему прямо в рожу. «Вот тебе, – говорит, – побочный и вот тебе прижитой… А ну, иди из моей хаты под три черты, пока я рогач не поломала об твою плешивую голову…» Тот вскочил и в дверь. А мама увидела ту бутылку, схватила её и следом, «Эй, – кричит, – жених недоделанный, забирай свое приданое…» И как пульнет в него! Не попала, – вздохнула Люба. – Я потом осколки собирала, чтобы кто не порезался…
– И что, мама сильно расстраивалась? – спросил Шевелев.
– Пхи, – точно, как мать, сказала Люба, – совсем не расстраивалась. Она, как бутылку запустила, вернулась в комнату и как начала хохотать. «Вот, – говорит, – донеча, как мы жениха наладили». Мы прямо до слез смеялись…
– А он потом не пакостил? Агроном ведь, начальство…
– Не… Наверно, побоялся, что мама его на смех поднимет. Разве бы мама смолчала? Она ведь никого не боится… Да он скоро и уволился, уехал куда-то. На него исполнительный лист пришел. Он сам оказался аморальный тип – от алиментов бегает… Только ты меня маме не выдавай, она сказала, чтобы я тебе про то сватовство не рассказывала…
Шевелев посмеялся вместе с Любой, хотя история эта вовсе не показалась ему смешной. Она воочию показала то, что давно не давало ему покоя. В жизни Марийки он сыграл скверную роль. Попросту изуродовал ей жизнь. Ну, тогда так сложились обстоятельства… Но ведь и потом, теперь он продолжает её уродовать. Не будь его, Марийка, быть может, так или иначе примирилась бы с судьбой, рано или поздно встретила бы человека, с которым у неё могла сложиться нормальная жизнь. А теперь ни вдова, ни мужняя жена… Сейчас хороша, привлекательна, да ведь надолго ли?.. Финал незадачливого сватовства тронул Шевелева. Значит, она любит его по-прежнему, ради него готова на всё. А отвечает ли он ей такой же любовью? Если по-честному, то ведь нет… Благодарность, нежная привязанность и если не врать себе, то и влечение тоже… Все это есть. Но ведь это не любовь. Человек живет ожиданием и надеждой. Чего может ожидать Марийка, на что надеяться?.. А он своими приездами поддерживает её любовь, бесплодное ожидание и беспочвенные надежды. В общем, как ни крути, он играет подлую роль. И не пора ли прекратить эту подлую игру?
Она оборвалась быстрее и совсем не так, как он хотел бы. Дома, как всегда, его встретили радостным оживлением, восхищались его загаром, всем видом хорошо отдохнувшего человека и наслаждались привезенным виноградом. Во время ужина он вдруг заметил, что Варя смотрит на него каким-то странным, не то изучающим, не то вопросительным взглядом.
– Ты что, Варя? – спросил он.
– А? Нет, ничего, просто задумалась.
Когда разошлись, Шевелев обнял Варю за плечи.
– Ну, рассказывай, как вы тут жили?
Варя мягко высвободилась.
– Подожди, я постелю. Жили, как всегда. Обыкновенно… А у тебя ничего не случилось?
Варя опять смотрела на него своим странным взглядом, и Шевелев благословил загар: он почувствовал, что лицо его вспыхнуло, как вспыхивало когда-то в мальчишестве
– У меня? – почти натурально удивился он. – Что могло случиться, если я вел совершенно растительный образ жизни?
– Ну, может, не сейчас, вообще?
– А что могло случиться вообще? Я не понимаю, о чём ты говоришь!
– Не знаю. Знать это можешь только ты.
– Но это же абракадабра какая-то! Ты спрашиваешь о том, чего не знаешь, а я должен отвечать то, чего не знаю?..
– Ну что ж, – помолчав, сказала Варя. – Раз так, значит, так и будет… Ложись, я пойду мыть посуду.
В смятении, почти панике Шевелев лихорадочно перебирал все возможности. Варя узнала? Но что, как, от кого? Проболталась Зинаида? Исключено. Кто-нибудь из знакомых? Не было во Фрунзенском ни одной знакомой души. Увидели, когда Марийка и Люба провожали его в Алуште? Он прилетел раньше, чем кто-либо мог рассказать… Да и вообще всё это вздор! Если бы Варя знала, она не стала бы задавать наводящих вопросов. Она всегда говорит прямо, в открытую. За всю их совместную жизнь не было ни одною исключения. Значит, это не знание, а только предположения, догадки, подозрения? Тогда ничего страшного: так или иначе их удастся рассеять…
Шевелев успокоился – и заснул. Сквозь сон он услышал, как «кукушка» – подарок Матвея – прокуковала восемь, отрыл глаза и ужаснулся: на дворе стоял белый день, Вари рядом не было, подушка её была не смята. Заснуть в первую ночь после месячной разлуки! Если возникли подозрения, то лучшего подтверждения не придумать… Он вскочил и, как был, босиком, пошел в кухню. Варя готовила завтрак.
– Что это значит? Ты не спала всю ночь?
– Нет, спала: я прикорнула на диванчике.
– Но почему ты не легла в постель?
– Жалко было будить: ты так сладко спал…
– Ни черта бы мне не сделалось! Что это за сон – крючком на диванчике… Вон веки припухли, круги под глазами.
– Ничего, сегодня наверстаю, отосплюсь.
Ночью, когда они легли и Шевелев потянулся к Варе, она отстранилась:
– Не надо, Миша. Я больше не могу…
– Не можешь или не хочешь?
– Не хочу. И значит, не могу.
– Но почему?
– Рано или поздно это ведь происходит с каждым… Вот произошло со мной.
– Да что произошло?
Он тронул рукой её лицо, чтобы повернуть к себе, – лицо Вари было залито слезами.
– Ты плачешь?
– Неужели я должна радоваться, узнав, что оказалась старой?
Шевелев долго и горячо оспаривал и разубеждал. Варя молча слушала, потом сказала:
– Да, ты прав, конечно. Все это глупости. Бабья дурь… Спи, тебе завтра на работу.
На следующее утро круги под глазами у Вари стали ещё темнее. Шевелев был уверен, что она не спала и эту ночь, но промолчал. Он побоялся, что этот разговор, если он его начнет, может оказаться последним. Все его повторные попытки восстановить близость Варя отклоняла.
Так они перестали быть мужем и женой.
Когда на следующий год подошло время отпуска, Варя спросила, что подготовить ему в дорогу.
– Ничего не нужно, никакой дороги не будет. Ни в Алушту, ни вообще. Отъездился.
И он слово в слово повторил то, что в свое время сказал ему профессор, только приписал его слова поликлиническому врачу и мифическому консультанту, который оказался при медосмотре.
– Так что буду теперь жить по завету: сиди, Ерёма, дома.
– Конечно, – сказала Варя, – раз так опасно… А жаль: после каждой поездки ты словно молодел.
Ни в интонации, ни в выражении Вариного лица Шевелев не уловил никакого скрытого смысла – она просто повторила то, что говорила и прежде.
Сестру Шевелев попросил написать Марийке о приговоре врачей и о том, что больше он приезжать не сможет.
В шестьдесят первом году Зинаида получила письмо, подписанное Марийкой и Любой. В нем мать и дочь писали, что Люба поступила в Крымский мединститут, получила стипендию и место в общежитии, они ни в чём не нуждаются и ему не следует больше посылать никаких денег. Пусть дорогой тато и любый Михасю больше не надрывается, не работает сверхурочно. Должно быть, оттого, что он так через силу работал, у него и появилась эта болезнь. Пусть он спокойно отдыхает и думает только о том, чтобы вылечиться, тогда, бог даст, он сможет приехать и к ним, потому как они его по-прежнему любят и очень о нем скучают. А если он станет снова посылать деньги, Марийка будет отсылать их обратно, так что из этого всё равно ничего не получится, кроме трат на пересылку переводов…
Посылать деньги Шевелев перестал, но «халтуру», хоть и в уменьшенном объеме, пришлось продолжать. Димка ещё учился в школе, а состояние Вари настолько ухудшилось, что после долгих споров удалось уговорить её уйти с работы. Время от времени подрабатывать приходилось и потом, после ухода на пенсию. В институте его уважали и ценили, в предпенсионный год дали возможность выработать максимум. Пенсии не хватало, но просить у сыновей Шевелев не хотел, а им не приходило в голову помогать родителям: они слишком привыкли к тому, что родители всегда помогали им. Только Сергей написал, что вот-вот должен получить прибавку и всю её будет высылать. Шевелев ответил, что, поскольку у Сергея прибавление семейства идет сдвоенным порядком – в это время как раз родились Петька и Пашка, – прибавка пригодится ему самому. Они с мамой пока обходятся, а будет круто, он напишет. И, конечно, не написал.
Возвращаясь из булочной, Шевелев столкнулся в подъезде с Зинаидой. В руках у неё был полиэтиленовый мешочек с какой-то едой.
– А, благодетельница! Ты бы перестала дурака валять, веселить дворников своей принципиальностью. Ну-ка, давай поднимемся, есть дело! Ты Марийке о смерти Вари не писала?
– Н-нет, – с запинкой ответила Зина. Запинка объяснялась тем, что писать она начала, но ещё не закончила письма.
– Так вот, не вздумай писать. Ни сейчас, ни потом.
– Почему?
– Чтобы не пробуждать надежды, которые не сбудутся никогда.
Зина помолчала.
– Конечно, сейчас рано об этом говорить… Но кто может знать, что будет потом? Время – лучший врач. Утраченного не вернешь тем, что будешь длить несчастье другого. А разве Марийка, хотя бы под конец жизни, не заслужила свою долю счастья?
– Ну, бабы! – вскипел Шевелев. – Ещё венки, наверно, не осыпались, а у тебя уже своднические идеи! Какое счастье получит Марийка? Я ей изуродовал жизнь, а теперь вот он я, старая развалина, ухаживай за мной… Как тебе не стыдно, моралистка?
Зине стало стыдно, она растерянно оглянулась по сторонам и тут же пришла в ужас:
– Господи! Ну и свинство ты развел за несколько дней!
– Наплевать! – отрезал Шевелев.
– Что значит – наплевать? Допустим, тебе нравится жить в грязи, но к тебе же люди ходят!
– Никто ко мне не ходит.
Зина, уже не слушая, принялась за уборку. Когда сестра ушла, Шевелев обошел квартиру. Только теперь он, по контрасту, понял, что свинство действительно было изрядным. «Чертова кукла» постаралась – всё сверкало. Но зачем, для кого? Он вернулся к непроизвольно вырвавшейся фразе: к нему на самом деле никто не ходил…
Так сложилось давно. Все его дружеские, приятельские связи образовались в институте, с сослуживцами. Сначала и он с Варей бывал у друзей, время от времени собирались у них. По правде говоря, такие сборища не слишком радовали Шевелева. Они сводились к тому, что гости мялись и маялись в ожидании ужина. За столом наступало краткое оживление, направленное главным образом на еду и напитки. После трех-четырех поспешно заглотанных рюмок начинали пьянеть, тогда и вовсе кончался осмысленный разговор – начинался галдеж обо всём и ни о чём, тыканье окурков в еду, споры, в которых каждый слушает и слышит только себя. Ещё хуже было, если, окончательно окосев, затевали хоровое пение. Особенно старались те, кто, будучи трезвым, рта не открывал, так как не имел ни голоса, ни слуха… Когда Шевелеву пришлось прирабатывать, пьяные застолья отпали, а вместе с ними отпала большая часть бывших друзей: оказалось, бутылка была единственным, что их связывало и объединяло. С остальными дружественные отношения сохранились, но взаимные визиты стали крайне редкими. Они не стали чаще и потом, когда большинство из друзей вышли на пенсию. Раньше их объединяли работа, общие интересы, теперь общими остались лишь воспоминания – связь не слишком прочная и мало-помалу угасающая.
Единственным из всех друзей, с которым отношения не разладились и не охладели, был Устюгов. С самого начала он, по его выражению, «прикипел» к дому Шевелевых и появлялся там чуть ли не каждый вечер. К нему привыкли и привязались, он стал своим, почти членом семьи. Даже когда его ждала большая срочная работа, он забегал хотя бы на полчаса, рассказывал что-нибудь смешное или забавное, потом говорил: «Ну всё, я убедился, что вы здоровы и относительно благополучны, зарядился эмоциями, теперь поволоку свой живот на алтарь отечества», – и убегал. Его присутствие никому не мешало и никого не обременяло. Иногда он исчезал на неопределенный срок, потом сообщал, что был в командировке. Каким-то необъяснимым образом Варя угадывала, если это было неправдой. Однажды она понудила Шевелева поехать к нему. Устюгов предупредил, что уезжает в командировку, но оказался дома. Шевелева он не впустил, а через узкую щель приоткрытой двери объяснил, что в командировке подхватил грипп, поэтому пусть Шевелев уходит, иначе он заразится сам и заразит всю семью И пусть не беспокоятся – ему, Устюгову, ни черта не сделается, а всем необходимым его снабжают студийные ребята. Когда он, изможденный и осунувшийся, появился снова, Варя стала его упрекать за то, что он в трудную минуту прячется от друзей, отказывается от их помощи, что так с друзьями не поступают.
– Напротив! Я считаю, что во мне заложен здоровый животный инстинкт. Это люди придумали противоестественное обыкновение досаждать окружающим своими несчастьями и болезнями. У животных всё происходит несравненно благороднее. Заболевшая особь отделяется от стада и забивается куда-нибудь в глушь. Она или выздоравливает и возвращается в стадо, или умирает в одиночестве, не надрывая видом своих страданий сердца окружающих, которые всё равно не в состоянии ничем помочь. Говорят, у слонов даже есть своеобразные кладбища, о которых молодые и здоровые не подозревают, но предчувствующие свою смерть старики каким-то образом отыскивают их и уходят туда в гордом одиночестве… Не мешайте мне хотя бы иногда и хотя бы мысленно чувствовать себя слоном…
– Непременно слоном?
– Ну, не сусликом же или ещё каким-нибудь грызуном!
За все годы Шевелев считанные разы был у Устюгова. Тот к себе не зазывал и не очень привечал, если к нему приходили. В комнате у него всегда было чисто, но для стороннего глаза царил ужасный беспорядок, хотя на самом деле это был продуманный, строгий и удобный порядок, но только для самого хозяина. Не говоря уже о битком набитых стоячих и висячих полках, книги были всюду – на столе, на стульях, на тумбах выносных динамиков «Симфонии». Они не просто лежали, а были в работе – одни утыканные закладками с какими-то пометками, другие открытые с отчеркнутыми и подчеркнутыми местами. Время от времени одни убирались, на их месте появлялись другие. И повсюду лежали заметки, записи на небольших листках бумаги. Они тоже не были разбросаны как попало, а лежали в определенном порядке, понятном только самому хозяину. Каждый приход постороннего разрушал этот порядок, так как гостю негде было сесть и приходилось освобождать для него место…
И вот завсегдатай, непременный участник всего происходящего в их доме исчез. Он не приходил со дня похорон уже больше двух недель. Борис и Димка тоже не приходили. Понятное дело, обиделись. Что же, Устюгов тоже обиделся? За что ему-то обижаться? А может, он просто болен и следует его навестить? Тоже ведь не мальчик, даже года на два старше, только держит хвост пистолетом, не распускается. Да, надо проведать, мало ли что… Ближе друга у него не было и уже, конечно, не будет. Каких-нибудь тридцать лет с гаком не перечеркнешь, особенно если дружба эта родилась под огнем, в первые дни войны…
Устюгова дома не оказалось. Значит, околачивается у себя на студии или в командировке. Шевелев даже обрадовался. Разговора о смерти Вари не избежать, а он не мог сейчас вынести никаких сочувственных, сострадательных слов. Пусть и самые искренние, они только саднили бы душу, не принося облегчения.
Шевелев механически сел в троллейбус и, когда позади осталась клумба площади Толстого, понял, что едет на Байково кладбище. Он опасался, что не сумеет найти могилу – в таком тумане находился во время похорон, но оказалось, что скорбный путь врезался в память. Оборотистый сынок престиж обеспечил: ограда была из десятимиллиметрового квадрата и сверкала на солнце свежей серебрянкой. На скамеечке внутри ограды, опершись локтями о колени, сидел сгорбившийся Устюгов. Шевелев растерянно остановился.
– Не топчись сзади, – не оборачиваясь, сказал Устюгов, – всё равно я тебя уже видел.
Шевелев подошел, сел рядом и покраснел. Венков, как видно, давно уже не было, на прибранном могильном холмике лежали три свежесрезанные розы.
– Ты вот цветы принес. А у меня всё из головы вон… Впрочем, ей это уже не нужно.
Устюгов обернулся к нему, и Шевелева поразили черные круги у него под глазами и провалившиеся щеки.
– Нужно не ей, а мне. Теперь ей ничего не нужно. И никто не нужен. Однако ты вот пришел?
– Наверно, культура чувства, как ты говорил…
– Я говорил о другом… Любить умершего нельзя – его уже нет. Остается любить воспоминания о нём. И поклониться местам встречи с ним. Могила – последнее место нашей встречи.
– Ты любил Варю?
– Ну, братец, ты толстокож, как буйвол…
– И всё время молчал? Из благодарности за прошлое или из чистого благородства?
Устюгов сжал кисти рук так, что кожа на суставах побелела.
– Знаешь, – перемогаясь, сказал он, – если два старика подерутся возле могилы любимой женщины, это будет даже не смешно, а просто противно. Так что ты думай прежде, чем говорить… Увести можно дуру, кусок мяса с глазами. Или похотливую бабенку, которая привыкла ходить по рукам. А Варя была Антигоной, человеком бескомпромиссного чувства и долга… Восхищаться Антигоной хорошо, сидя в зрительном зале. Быть мужем Антигоны хлопотно и трудно. Не всякий выдержит. Ты – не выдержал.
– Ты бы выдержал?
– Не знаю. Надеюсь, что да.
– А Варя знала? Ты ей говорил?
– Нет, не говорил. Женщины всегда сами знают, когда их любят. Ей было не до меня. Рушился её мир, вместе с ним погибала она сама.
– Она что-нибудь рассказывала?
– Нет. Но я знал. Я видел, как она проходила через это. Не всегда нужно говорить, когда любят, видят и так. Впрочем, однажды она сказала. Это было в пятьдесят восьмом, когда ты в третий раз поехал в Крым. Я видел, что она в мучительной тоске, и попытался отвлечь – уговорил поехать пообедать в «Кукушку»… Вот с тех пор и ведется ваша «кукушечная» традиция, – усмехнулся Устюгов. – Я лез из кожи, чтобы как-то позабавить, развеселить её. Варя слушала и смотрела на Заднепровье. И я увидел, что по лицу её текут слезы. «Что с вами, Варенька?» – «Кажется, я скоро умру. Мне стало нечем жить». Она сказала это так просто и спокойно, как говорят при твердом, уверенном знании. Я заболтал всякую утешительно-развлекательную чепуху. Варя снизошла к моим усилиям и улыбнулась, мы выпили шампанского и потом дружно притворялись, что это была случайная обмолвка в минуту слабости. Больше она никогда об этом не говорила, но я видел, что она угасает. Димка был её последней опорой и надеждой…
– А я?
– Ты отпал давно. Ещё тогда.
– Она тебе сказала?
– Плохо же ты знал свою жену. Впрочем, ты был счастливым мужем, а счастливые не только часов, они вообще ни черта не наблюдают и не замечают…
– Но если ты видел, почему не сказал мне?
– Что бы это изменило? Ты бы начал объясняться и своими объяснениями доконал её ещё раньше… Отремонтировать можно табуретку, чувства нельзя реставрировать… Это было катастрофой для неё, но она выстояла, у неё была последняя вера и надежда – Димка. Оказалось, что ему и в него верить тоже нельзя… А она никогда не жила, не умела жить для себя. Потому ей и стало нечем жить.
– Вот тебе и ложь во спасение…
– В чье спасение? Ложь во спасение спасает только того, кто лжет. Впрочем, и его не спасает. Это всего-навсего отсрочка расплаты. Обмануть любимую женщину нельзя. Не знаю, каким образом, но рано или поздно, даже не зная, она угадывает, что перестала быть единственной…
– Черт его знает, затянула меня какая-то проклятая петля… Если тебе рассказать…
Устюгов поднялся.
– Нет уж, избавь меня от мазохистского смакования деталей предательства… Бывай, я пошел.
– Пойдем вместе, – встал и Шевелев.
– Нам в разные стороны. Пока, во всяком случае… Наверно, со временем я привыкну, притерплюсь…
Нескладно размахивая руками, ссутулившись больше обычного, Устюгов ушел.
Каждое утро опрятный, хотя и не очень ухоженный, ещё бодрый старик идет по асфальтовой дорожке к молочному магазину и терпеливо ждет, когда привезут кефир. Если его привозят, он берет две бутылки, потом в булочной покупает четвертинку украинского хлеба. Поднявшись к себе на двенадцатый этаж, он неумело, но старательно прибирает в комнате и на кухне. Покончив с уборкой, Шевелев спускается вниз за почтой. Письма от Сергея редки, больше писать некому, и в ящике всегда лежит только «Правда».
Мир, который во времена его молодости представлялся необъятным, оказался маленькой и уже тесной планетой. Почти всегда где-то идет или вот-вот начнется маленькая или большая война, происходят восстания тех, кто хочет есть, против тех, кто жрет в три горла, или тех, кто жаждет свободы, против тех, кто эту свободу душит. Мир потрясают политические катаклизмы и физические катастрофы, в которых гибнут тысячи людей. На испещренных типографским набором страницах соседствуют примеры величия духа и низости, самопожертвования и трусливого прятанья в быт, во что угодно, лишь бы отгородиться от других, от всего остального. И всё это – человечество. Но невообразимая множественность – как представить себе миллиард или четыре миллиарда? – из которой слагается человечество, распадается на слагаемые. Их непрестанно точат, травят свои проблемы, потрясают свои катаклизмы. Микро? Да, конечно, для других микро. Но для них-то они макро! И ужасающие тайфуны и ураганы с нежными женскими именами, извержения и землетрясения, которые происходят где-то далеко, – разве могут они заслонить, умалить его горе?
В доме скопилось изрядное количество книг. Варя всегда много читала, в последние годы, когда оставила работу, читала запоем. Теперь Шевелев тоже пытается читать, но огонь страстей книжных героев не похож на пламя, в котором корчится и задыхается он сам, и книги валятся у него из рук.
Иногда Шевелев включает телевизор. Долго он не выдерживает. На экране, сменяя друг друга, но с неизменной соской микрофона возле рта, певцы и певицы лалакают, что-то лопочут с придыханием или истошно вопят. Ещё чаще он натыкается на футбол. Двадцать два здоровых лба бегают по полю и пинают мяч, а при случае и друг друга. Вокруг ревут и беснуются болельщики. Десятки тысяч. Хорошо поставленными голосами комментаторы артистично симулируют увлеченность и даже страсть, подогревают болельщиков ещё больше. В Италии болельщиков называют «тиффози». Их следовало бы назвать «психозы»… Не случайно, кажется, между Гондурасом и Сальвадором даже началась самая настоящая война из-за проигранного футбольного матча… Или современные гладиаторы в пробковой броне гоняют палками по льду круглый кусок резины. Стадионы поставляют ревущей толпе иллюзорные драмы, суррогаты эмоций и вышибают все человеческие чувства и мысли. Что приобретают болельщики, что остается у них в душе после двухчасового беснования на скамейках стадиона или ледовой площадки?..
Шевелев с остервенением выключает телевизор и выходит на балкон. Как всегда, расстилается перед ним неохватный глазом город. Сколько в нём – два или уже больше двух миллионов? Впрочем, какое это имеет значение – больше или меньше?.. Все поглощены своим делом, работой, заботами. Конечно, они радуются достижениям и успехам, гордятся ими, даже хвастают. И, наверно, среди них много счастливых, как был когда-то счастлив он… Но рано или поздно к каждому приходит беда, горе и утраты, которых ни предотвратить, ни отвести, Шевелеву жаль их, но он не может им помочь, как и тем, кого где-то настиг ураган или землетрясение. И, должно быть, немало среди них и таких, как он, у которых всё позади, и остается только подбивать бабки…
В далеком детстве учитель закона божьего рассказывал пугающую сказку о Страшном суде, который ожидает в будущем всех, живых и мертвых. Загремят серебряные – или, может, золотые? – трубы архангелов, восстанут из гробов все мертвые, предстанут все живые. И некуда, негде будет спрятаться, скрыться от этого грозного зова, от судилища, которое воздаст каждому за все дела его, праведные и неправедные. И всех настигнет неизбежное, неотвратимое возмездие…
Сидя в скрипучем плетеном кресле, Шевелев всё время мысленно возвращается к этой пугающей сказке далекого детства. Она должна была устрашить, предостеречь людей – и их, тогда лопоухих мальчишек, – от неправедной жизни, нечестных поступков, вольных или невольных злодеяний… Кого предостерегла эта сказка, кого остановила?..
Человек во многом определяет своё настоящее, в какой-то степени может не предвидеть, но предопределить своё будущее. Он беспомощен и бессилен только перед своим прошлым – в нём ничего нельзя изменить.
Беззвучно гремят трубы невидимых архангелов, возвещая Страшный суд, и так же бесшумно рушатся стены шевелевского Иерихона – крепости, созданной им из надежд и лжи, иллюзий и самообмана, за которыми он пытался укрыться, спрятаться от прошлого. И он остается перед самым нелицеприятным судьей – совестью. Он уже слишком стар, чтобы на что-то надеяться или пытаться её обмануть.
Так из вечера в вечер Шевелев смотрит на распростертый город, в котором бурлит уже сторонняя ему жизнь, вершит над собой беспощадный суд совести за всё, что сделал, за всё, чего не сделал. И ждёт заката.[12]12
Впервые опубликована в журнале «Наш современник» № 1 за 1980 год. В 1981 году вышла в «Роман-газете» № 7. Первое издание отдельной книгой – в 1982 году в издательстве «Советский писатель».
[Закрыть]









