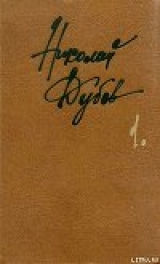
Текст книги "Родные и близкие. Почему нужно знать античную мифологию"
Автор книги: Николай Дубов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Вот где, по убеждению Дубова, начинается та раздвоенность, тот разрыв между словами и делами, за которыми следует моральная деформация не только отдельных людей, но и общества. И когда писатель перейдет от повествования о детстве и отрочестве героя «Горе одному» к рассказу о начале его юношеской, «взрослой» жизни, он развернет перед читателями неприглядную панораму жизни, где бюрократы, рвачи, равнодушные чиновники создают видимость деятельности. И любая попытка назвать то, что происходит, своим именем наказуется со всей безжалостностью, на какую эти люди способны. Конечно, не этим чинушам определять ход жизни. Работают заводы и фабрики, засеиваются и убираются поля, миллионы честных людей трудятся осознанно, не теряя своего человеческого и рабочего достоинства. Но с какой же силой тормозится продвижение вперед нашего общества!
Читателю нашего времени легче ответить на многие жгучие вопросы, поставленные в произведениях Дубова. Они обладают историческим опытом, они живут в такое время, когда гласность и демократизм, когда перестройка всей нашей жизни, в том числе и в науке и литературе, объяснили природу и причину застойных явлений, нарушение социалистических принципов в жизни советского общества. Не в характере Дубова было самоуверенно давать рецепты исправления подмеченных ошибок, нарушений, даже преступлений «Мы не врачи – мы боль», – говорил некогда Герцен о своей литературной деятельности. Но мы-то сегодня достаточно грамотны, чтобы знать: боль – одна из главнейших защитных функций организма. Произведения Николая Дубова так же, как произведения Федора Абрамова, Валентина Распутина, Юрия Трифонова и других советских писателей, обладают сильнейшей болевой реакцией на несовершенство нашего общества, на негативные процессы, происходящие в городе и деревне. В сочетании с серьезным исследованием проблем воспитания это качество прозы Дубова делает её современной и важной для читателей разных поколений.
Родина высоко оценила творческий труд писателя – в 1980 году он был удостоен Государственной премии СССР.
Лев Разгон

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ
Светлой памяти
Веры Мироновны Дубовой посвящаю
Автор
Шевелёв грохнул кулаком по столу.
Стало так тихо, что безмятежное тиканье будильника показалось зловещим стуком метронома во время воздушного налета. Теперь все отвернулись от Димки и смотрели на него, Шевелева, а он молчал и смотрел на сына.
– Так уже было… однажды, – с трудом проговорил он. – Только ты, недоучка, этого не знаешь. Однажды отец, которого звали Ноем, собрал урожай на своем винограднике, выпил вина и заснул в шатре… А его сын указывал братьям на спящего отца и глумился над ним…
Шевелев поднялся. Идти ему было ещё труднее, чем говорить, однако медленно и грузно он пошел к Димке.
– Ты… ты что? – Димка отступил на шаг.
Шевелев подошел к нему вплотную.
– А звали этого сына Хамом, – сказал он и, не размахиваясь, резко хлестнул его по щеке так, что голова Димки дернулась. Шевелев ударил по другой щеке, и голова снова дернулась.
Глаза Димки округлились, лицо залилось краской.
– Ты сошел с ума… – проговорил он.
– А теперь пошел вон… Вон, я говорю!
Он снова шагнул к Димке. Тот дико метнул взгляд на сидящих за столом, выбежал и с громом захлопнул дверь.
– Ну, знаешь, – сказал Борис, – это переходит всякие границы…
– Ага… Границы переходит? Уходи и ты!
– Так нельзя, отец! Мы же не маленькие дети! И в такой день…
Шевелев распахнул дверь и стал у косяка, ожидая. Первой, стуча своими платформами, выскочила холеная Борисова кобыла. Для неё и траур был поводом расфуфыриться. Следом за женой пронес себя оскорбленно надувшийся Борис.
– Извини, Матвей, – сказал Шевелев.
Устюгов понимающе кивнул и, уходя, тронул его плечо рукой, не то успокаивая, не то прощаясь.
– Надо посуду помыть, – сказала Зина, – я сейчас.
– Не надо! – с нажимом сказал Шевелев.
Стекла Зининых очков брызнули ледяными искрами.
– Ну и сиди здесь как сыч один, – негодуя, сказала она и прошмыгнула мимо.
Сергей тоже встал:
– Мне что, ночевать к Борису поехать?
– Как знаешь.
– Ладно, видно будет. Пока пойду пройдусь.
Затворяя дверь, Шевелев увидел, что у него трясутся руки. Следовало всё убрать, хотя бы отнести на кухню грязную посуду с остатками поминального ужина, но он не стал ничего убирать, только сорвал с зеркала простыню – она раздражала, как бельмо. Дурацкий предрассудок… Это Зинаида всё старалась, чтобы было как у людей, чтобы всё как полагается…
Ему стало душно. Он вытер вспотевший лоб и открыл балконную дверь. В комнату ворвался всегдашний гул.
Этот гул с самого начала раздражал Шевелева, и однажды он пожаловался Устюгову. Тот осклабился своей улыбкой сатира, отчего по лицу его привычно зазмеились глубокие морщины.
– Ну, дорогой мой, это ты напрасно! По моему мнению, звук весьма назидательный. У меня на шестнадцатом он ещё явственнее. Вероятно, правильнее всего было бы сказать, что сама природа освистывает бетонные коробки, дело рук своего незадачливого венца творения. Но это было бы похоже на бесплодное критиканство… Поэтому, следуя за журналистами, которые любят выражаться красиво и торжественно, считай, что ты слышишь поступь НТР, величавый ход самого времени. Хотя, признаться, сам я тоже не чувствую ничего величавого в этом довольно противном завывании…
Раздражал Шевелева не только гул. Ему вообще не нравилась новая квартира на двенадцатом этаже. Конечно, здесь были все удобства, всё по-современному – горячая вода, мусоропровод и всё такое. И всё-таки «там» было лучше. Не только потому, что «там» был дом, где он родился и вырос, где прошла большая и, наверно, лучшая часть жизни. Это само собой. «Там» вокруг жили люди, которых он помнил и знал, сколько знал и помнил самого себя. «Там» был большой общий двор для нескольких домиков таких же ремесленников и работяг, каким был отец. Когда-то их разделяли заборы, в гражданскую войну все заборы пошли в топку, а больше их уже не ставили – привыкли обходиться так. Поэтому двор был огромен, как пустырь, по нему носилась горластая ватага ребятишек. Случалось, и дрались, и безобразничали, но они всегда были перед глазами, всегда можно было их хотя бы на время утихомирить, загнать домой, в крайности тут же, не сходя с места, поучить уму-разуму. Как ни были заняты хозяйки своими заботами и нескончаемой женской работой, всегда находилась минутка, чтобы пожаловаться на нехватку того или сего, осудить соседа, который начал слишком часто заглядывать в рюмку, похвастать редкими обновами. По вечерам двор служил клубом для отцов. Безмозглый «козел» тогда ещё не был в таком ходу, люди предпочитали разговаривать друг с другом, а не стучать костяшками.
Двор даже казался красивым, хотя, в сущности, ничего красивого в нём не было. Пустырь и пустырь. Три беспорядочно разбросанных дерева, самодельные, на врытых чурбаках, скамейки – вот и все радости. Зимой наносило сугробы, весной и особенно осенью стояла липучая, вязкая грязь, летом каждый порыв ветра вздымал пыль, окурки, всякий сор кружил по двору и швырял в окна.
Здесь до двенадцатого этажа сор не достигал. Здесь не было и двора, а большие промежутки между домами были безлики и пусты – их сплошь занимали одинаковые газоны, аккуратно разлинованные асфальтовыми дорожками. Дети здесь не играли и не бегали – дворники ругали и гоняли их, чтобы не топтали газонов, пока не отучили. Да всё равно с шестнадцатого или даже девятого этажа своего Алешку или Витьку не разглядишь, до него не докричишься, следом за ним не побежишь. И дети постепенно уходили из-под родительского надзора – где-то бегали, играли, и у них начиналась своя, отдельная жизнь. И у взрослых тоже.
Им ещё повезло. Весь их квартал объявили подлежащим срочному сносу, чтобы освободить место для постройки института. Горевать в общем-то не стоило. Старые, неказистые домики и домишки места занимали много, а жилья было мало. Тесно жили. Сначала никаких норм площади на человека не существовало, потом нормы появились, но жилплощади от этого не прибавилось, прибавлялось только население – женились, плодились и ютились как придется. Однако кое-кто пытался протестовать, жаловаться. Не помогло. Решение было спущено свыше, стройка института была срочной, и квартал снесли. Всех жителей скопом переселили в только что отстроенные дома на Русановке. Так и получилось, что бывшие соседи и на новом месте оказались соседями, иногда даже более близкими – через лестничную площадку, через этаж или подъезд. Только это не сблизило, а отдалило друг от друга. Не стало двора – места постоянных встреч и неторопливых бесед. Теперь сталкивались только случайно, на ходу – в гастрономе, булочной, у подъезда. С грузом в руках или в скоростном лифте много не наговоришь. «А, сколько зим!» – «Как жизнь?» – «Нормально». – «Ну, привет!» И каждый спешил в свою сторону, в свою теперь уже не коммунальную, а отдельную клетку. Так постепенно отчуждались, отдалялись соседи от соседей, друзья от друзей, дети от родителей…
Единственное здесь хорошо – неоглядный простор. Он разверзался сразу за балконом, через всю Дарницу, левобережную низину островов и протоков вплоть до высокого коренного берега, который отсюда не казался ни крутым, ни высоким. Десять-пятнадцать лет назад с Петровской аллеи здешние места виделись перемежающейся песчано-зеленой пустошью, которая пепельной дымкой уходила за горизонт. Теперь всё пространство было аккуратно выложено бесчисленными белыми кубиками, прямоугольничками домов. Кварталы, как шеренги, выглядывали друг из-за друга, и даже горизонт стал ломаной линией многоэтажных и высотных силуэтов. По вечерам все шеренги вспыхивали мириадами, сплошным половодьем огней до пределов, каких никогда не достигало настоящее весеннее половодье. Впрочем, после того как выше Киева зачем-то построили электростанцию-перевертыш, не стало и прежних половодий. Водохранилище то накапливало воду, то выпускало…
Шевелев вдруг ужаснулся самому себе. Что это такое?! Только что схоронил жену, набил морду сыну… Черт с ним, с сыном, от него не убудет… Но ведь умерла Варя! Варя умерла!.. А у него в голове какая-то собачья труха – старый двор, соседи, дома, огни, до которых ему нет никакого дела, будь они прокляты… И вообще – до чего может быть сейчас дело, если умерла Варя! Умерла!.. А он, старая скотина, стал бесчувственным поленом или, может, просто спятил?
Сердце будто споткнулось, дыхание перехватило. Ну вот, пожаловала родимая… И почему такое гнусное название – грудная жаба? Неужели люди на самом деле верили, что в груди сидит какая-то жаба и душит человека? А в груди ничего нет, даже сердце не болит, только горло сжимает всё туже и дышать всё труднее. Должно быть, при этом от натуги округляются, вытаращиваются глаза, и Варя всегда ужасно пугалась: ей казалось, да и все так считают, что это от страха смерти. А он никакого страха не испытывал. Просто становится всё труднее дышать, вот и всё…
Вцепившись в подлокотлики плетенного из лозы кресла, он широко открытым ртом с натугой, со стоном и хрипом втягивал воздух. Глотки становились всё меньше и короче. Ещё минута-другая, и не хватит больше сил ни вдохнуть, ни выдохнуть… И нет рядом Вари, нет никого, кто бы заметался в панике, бросился вызывать «Скорую»… Может, и лучше, что никого рядом нет, никто не увидит?.. В конце концов, днем раньше, днем позже – когда-то ведь это случится… А тогда будет почти как в красивой сказке, читанной в молодости: они жили долго, счастливо и умерли в один день… Если по правде, то не так уж долго и не слишком счастливо. Ну, хотя бы последнее условие будет почти соблюдено. Почти… Всегда и во всём только «почти», ничего полностью и до конца…
В кармане лежали тубы с валидолом и нитроглицерином, но он не сделал попытки достать их. И всё равно не состоялось даже последнее условие сказки – дышать стало легче. Всё тише стали хрипы и свист при вдохе, пока не исчезли совсем. Сами собой расслабились пальцы, судорожно сжимавшие подлокотники. Всё. Пока пронесло…
Вот только страшно пересохла глотка. Шевелев ощущал, что горло и даже язык стали шершавыми от сухости, но сил, чтобы подняться и выпить воды, не было, и он сидел в оцепенелом бездумье, глядя на бесчисленные мережи освещенных окон, которые начали уже заметно редеть.
Нет, он не спятил и не превратился в полено. Так уже бывало прежде, когда раздражалась катастрофа. Солдат на войне всё время под прицелом. В любой миг – шальная пуля, снаряд, осколок, и человек переставал быть, не успев ничего почувствовать и подумать. Совсем другое, когда не внезапно, вдруг, а явственно и отчетливо ты видишь свою смерть, знаешь, что от неё не увернуться и не скрыться, она неотвратимо надвигается на тебя, и каждый твой шаг – шаг ей навстречу… Так было в злосчастном сорок первом, потом в сорок четвертом. И тогда тоже охватывали, наступали не страх, не паника, а какое-то оцепенение чувств, душевная немота. Черт его знает, должно быть, это какая-то защитная реакция организма, что ли?.. Потом приходили и ужас, и отчаяние, боль обо всём, что было, и обо всём, чего не было и уже никогда не могло быть, не будет, потому что не будет его самого… Но это потом, а сначала думалось не об этой неизбывной, непоправимой беде, а о чём-то несравненно менее важном или даже совсем неважном, чтобы – пусть на самое короткое время – отодвинуть, заслониться от того, на что обречен и от чего спасения нет и быть не может…
В комнате послышалось осторожное звяканье посудой. Вернулась Зина? Вряд ли, у неё коротких обид не бывает. Недели две теперь будет разжевывать оскорбление… Значит, вернулся Сергей. Молодец, к Борису всё-таки не поехал. Ну что ж, хотя бы один из троих…
Верхний свет в комнате потух. Шевелев посидел ещё, чтобы дать Сергею время уснуть. Однако в комнате Сергея не оказалось. Значит, поставил себе раскладушку в кухне. Постель на тахте была приготовлена, над ней у изголовья горела настенная лампочка. Рядом, на тумбе, стоял стакан чая.
«И об этом не забыл», – растроганно подумал Шевелев и жадно выпил холодный чай. Может, в самом деле лечь? Двое суток без сна и всё время на ногах… Но он тут же понял, что сна не будет, а начнется невыносимая мука воспоминаний, и снова вышел на балкон.
Погасли аккуратные мережи окон в жилых домах, исчезли сдвоенные светляки автомашин, остались только поредевшие пунктиры уличных светильников. В их зеленоватом холодном свете безжизненные прямоугольники кварталов напоминали какой-то нелепо громадный макет. Да, именно макет, какие так любовно лепят теперь они, проектанты. Виды с птичьего полета… А люди смотрят на дома не с птичьего полета, а с земли, по которой пока не разучились ходить. Должно быть, поэтому такие красивые в макетах проекты превращаются в унылые, наводящие тоску коробки, когда становятся домами…
Господи, да что ему до этих коробок и проектов?! Ага, дело не в них, конечно. Дело в предположениях, ожиданиях и в том, во что они обращаются потом. О коробках пускай думают архитекторы. С него хватит сыновей. Вот три сына. Сколько было радости, восторгов, какие были чаяния и надежды! Сбылись? Нет. Ни одна. Начать с того, что ни один не похож на него самого. Ну, это, положим, беда небольшая… Не такой уж он образец для подражания. В юности, как водится, были планы и мечтания. Не то чтобы честолюбивые – кет, честолюбцем он никогда не был… Тщеславие? Пожалуй, случалось. И его ненадолго хватало. В общем, мира не потряс и пороха не выдумал. Заурядный инженер в заурядной проектной конторе. Вот и всё. Только, может, и достоинств, что никогда не пыжился, не корчил из себя фигуру, какой не был. В общем, как принято говорить, обыкновенный, средний человек. Не всем быть гениями и даже талантами. Они редки, таланты-то. Много ли он встретил талантов за свою жизнь? Раз, два и обчелся… Так что ребятам он не был примером и образцом. И что вообще за чушь, будто дети должны повторять своих родителей, быть на них похожими?! Но как могло получиться, что они и друг на друга не похожи? Если б не фамилия и некоторое внешнее сходство, можно подумать, что они вовсе и не братья – ничего общего, ничего похожего. Как, почему это произошло?
– Ты так и не прилег? – Сергей стоял в распахнутой двери уже одетый, с еще мокрыми от душа волосами.
– Не могу. Я, должно быть, тут сидя подремал.
Он видел зарождение и разлив утреннего света, первые отблески солнца на Лаврской колокольне, первые игрушечные автомобильчики, побежавшие по игрушечно-макетным улицам, а потом уже непрерывные их вереницы Он видел и не видел ничего… Прошлое – и давно минувшая юность, и наступившая потом зрелость, все мимолетные радости, все беды, несчастья, по каким волокла его судьба, характер или обстоятельства, и прошлое совсем недавнее – всё это обступило сразу, отодвинуло и заслонило то, что было перед глазами.
– Пойдем позавтракаем. Я там соорудил из остатков.
– Ты ешь, мне не хочется. Я чаю только выпью.
– Ну хоть что-нибудь проглоти. Нельзя при такой язве оставаться с пустым желудком.
– Ладно, пойдем кормить язву…
Кусок холодного мяса был похож на лепешку из отрубей, какие довелось есть в детстве во время голода.
– Я – в Аэрофлот, – сказал Сергей, – попробую взять билет на завтра. И на почтамт зайду.
– Уже на завтра?
– Надо. И чем я могу тебе помочь?
Шевелев покивал:
– Ничем, разумеется. Ты только долго не шатайся. Надо бы всё-таки поговорить.
– У меня к тебе тоже разговор есть. Я по-быстрому.
Вернулся Сергей с кастрюлей в авоське и, улыбаясь, поставил её на стол.
– Это ещё что?
– Тётя Зина. Говорит, стояла в подъезде не меньше часа, ожидала соседей, чтобы передать. Бульон или что-то в этом роде. Для твоей язвы. А ты заботницу топчешь.
– Такую затопчешь… Засунь этот язвенный харч в холодильник, и поехали.
Они спустились в метро, вышли на станции «Днепр» и свернули по Петровской аллее вправо.
– Когда все вы разбежались и мы с мамой остались вдвоем, то изредка – раз или два в год – устраивали себе такой мини-праздник. Мама ничего не готовила, и мы ехали обедать в «Кукушку». При тебе она уже была или ещё нет?
– Не знаю, я тогда в рестораны не ходил.
– Ресторан не ахти какой, но маме нравилось, что на открытом воздухе.
Павильон не переменился, над круглой конусной крышей его, как всегда, торчала неуклюже изогнутая неоновая трубка, отдаленно напоминающая птицу, сидящую боком.
Через павильон они прошли на открытую площадку над самым обрывом, и Шевелев досадливо помянул черта.
В эту пору дня посетителей всегда было мало, но последний столик в левом углу площадки – любимое Варино место – был занят. За ним, подперев скулу кулаком, сидел лысый мужчина.
Шевелев подошел ближе, чтобы глянуть на столик – может, посетитель уже пообедал и скоро уйдет? Тот отнял кулак от скулы и оглянулся. Это был Устюгов. Он несколько секунд отчужденно смотрел на них, словно не узнавая, и только потом сказал:
– А… Привет, привет!
– Ты-то как здесь оказался? – удивился Шевелев.
– А что, нельзя?
– Придумал!.. Просто у нас это, можно сказать, семейная традиция, а ты – как-то неожиданно…
– Считай, голос сердца, – усмехнулся Устюгов. – Телепатия теперь в моде, вот я и шагаю с веком наравне… Кстати, не секрет, когда вы её завели, свою традицию?
– Где-то в шестидесятых.
– М-да… – усмехнулся Устюгов. – Приоритет неоспоримый. Ну что ж, не буду нарушать ваш семейный ритуал, празднуйте свою традицию.
– Да чем ты можешь нарушить? И традиция-то была у нас с Варей.
– Не уходите, Матвей Григорьевич, – сказал Сергей, – может, меня поддержите.
– В чём?
– Не сразу, потом.
– Ты что это, – сказал Устюгов, увидев, что Шевелев налил себе водки, – «эй, гусар, пей вино из полных чар»? А потом?
– Потом будет видно. Пока мне хоть что-то надо проглотить – двое суток в глотку ничего не лезет… Когда у тебя самолет?
– Завтра, в двенадцать сорок, – сказал Сергей.
– Уже? – спросил Устюгов. – Почему такая спешка?
– Пользы от меня здесь никакой. А там – дело.
– А чем ты, собственно, занимаешься? Вообще-то я знаю, ты биолог, но это настолько общо, расплывчато…
– Я изучаю моллюсков, точнее, цефалоподов, то есть головоногих. Наука эта называется теватологией.
– Моллюски, головоногие… Должно быть, иметь с ними дело не слишком приятно? Это всегда что-то мокрое, скользкое и холодное?
– Вы думаете, иметь дело с мокрым, скользким и теплым приятнее? А этим ведь постоянно занимаются хирурги, копаясь в человеческих внутренностях. Дело привычки и пристрастия.
– Привычки, я ещё понимаю. Ну и потом – любознательность, научный интерес, но пристрастие к головоногим?
– Даже привязанность. Тем более что они на неё отвечают взаимностью.
– Представляю – нежно привязанная каракатица! Ты, оказывается, юморист. Какие могут быть привязанности у безмозглых тварей?
– Вы ошибаетесь, Матвей Григорьевич… И вообще, извините, но, кажется, у вас на этот счет больше предрассудков, чем познаний… Вы знаете, что они мокрые, скользкие, потом детские сказки из «Тружеников моря» Гюго, из Жюля Верна о гигантских спрутах, которые нападают на людей, даже на корабли, и утаскивают их в пучины моря… Вот и всё, если не считать консервированных кальмаров, которыми у нас безуспешно пытаются подменить крабов.
– М-м… Пожалуй, да. В тавтологии я ещё разобраться смогу, а в теватологии не силён, нет.
– Вы говорите – «безмозглые». А это совсем не так. У них большой и развитый мозг. Интеллект и совершенство их организма так велики, что некоторые исследователи считают головоногих приматами моря, подобно тому, как приматами суши считаются человек и человекообразные. У них великолепная память, они способны учиться и очень быстро, конечно, не читать философские трактаты, но, скажем, различать геометрические фигуры, играть с человеком, испытывать к нему – иначе это не назовешь – род привязанности. У них огромные глаза, пугающе похожие своим выражением на человеческие. Наконец, осьминоги поддаются гипнозу, а больше на это не способно ни одно морское животное. Попробуйте загипнотизировать рыбу, например…
Шевелев механически жевал и глотал, солил и перчил еду, но она всё равно не имела никакого вкуса. Всё было не то. Не тем было и всё окружающее. Неузнаваемо изменилось застроенное Заднепровье, через реку перемахнули новые мосты, и сама река стала словно меньше, такая теперь была на ней буксирная, баржевая и лодочная толчея. Голоса сына и Устюгова звучали в отдалении. Он слушал и не слушал, о чём они говорили.
– М-да, – сказал Устюгов, – чудеса в решете, или ещё одна иллюстрация к душеспасительному завету: век живи, век учись…
– Это ещё не самое удивительное, – продолжал Сергей. – Осьминог вообще поразительное животное. У него три сердца. И не метафорически, как говорили об аристократах, а на самом деле голубая кровь. У них самый совершенный движитель – реактивный. Однако самое примечательное, должно быть, – как они оберегают потомство. Отложив яйца, осьминожица остается охранять их и уже не покидает ни на секунду. Она все время подгоняет к ним свежую воду, свирепо набрасывается на всех, кто пытается приблизиться, и в этих заботах перестает есть. Даже если ей подсовывать пищу, она отбрасывает её как сор, который может повредить яйцам. И когда маленькие осьминоги появляются на свет, мать уже настолько обессилена и дряхла, что ей остается только умереть. И она умирает. Оказалось, это не сознательное самопожертвование и не генетически унаследованный инстинкт. Исследователи установили, что возле глаз у осьминога находится особая железа. Она воспринимает свет независимо от глаз и, когда интенсивность света и, стало быть, все прочие условия становятся самыми благоприятными для размножения, выделяет какой-то гормон, который приводит в действие весь механизм размножения. Но одновременно он убивает у осьминожицы самый сильный животный инстинкт – стремление утолить голод. Так, условно говоря, гормон продления жизни в потомстве оказывается для матери гормоном молниеносной старости и смерти. Профессор маленького университета в городке Вэлдхэм в штате Массачусетс удалил у осьминожицы глазную железу сразу после того, как она отложила яйца. И произошло чудо. Не стало рокового гормона, осьминожица, как и полагается, о яйцах заботилась, но есть не перестала. Более того, она перестала стареть!.. И когда детеныши появились на свет, она вернулась к обычному образу жизни. Вэлдхэмский профессор продлил ей жизнь.
– А всё это не из области ненаучной чепухи, которая выдается у нас за научную фантастику?
– Вот, – сказал Сергей и положил перед Устюговым телеграфный бланк.
Устюгов прочитал вслух:
– «Киев. Почтамт. Востребования. Шевелеву Сергею Михайловичу. Сигма начала есть. Пермяков». Ничего не понимаю.
– Я, как и вы, усомнился и решил повторить вэлдхэмский опыт. Сигмой я назвал свою подопытную осьминожицу и оперировал её за три дня до телеграммы о смерти мамы. А Пермяков мой помощник.
– Выходит, опыт удался?
– Окончательно выяснится позже, но, по-видимому, удался.
– С успехом тебя!
– Не надо преувеличивать. Успех не мой, я только повторил чужой опыт. Но и это полезно. Сделанное своими руками всегда дает больше пищи для размышлений.
– Теперь понятно, почему ты так рвешься домой… А ну-ка, вот так, положа руку на сердце, – ты счастлив?
Сергей улыбнулся. Устюгов думает о Сигме. Сигма – это, конечно, важно, очень важно… Закинув сплетенные пальцы на затылок, он смотрел, как осторожно идет «Ракета» мимо Труханова острова, как, миновав пляжную россыпь тел, набирает скорость, приподнимается над водой и от стоек подводных крыльев взлетают сверкающие на солнце косые фонтаны. Он смотрел на летящую в радужном ореоле «Ракету», но видел не её, а Ингу… Изо всех сил она бежит от крыльца к калитке палисадника навстречу ему, струится и трепещет её платье, вьются волосы, солнце светит ей в затылок, и вся она, и платье, и волосы в ореоле света. Она не бежит, а летит – и кажется, что её несет этот сияющий ореол, – подбегает и, потеряв дыхание, припадает к нему. На мгновение. Только на мгновение отстают от неё катящиеся кубарем Пашка и Петька. Вот уже каждый хватает его за ногу, молотит по ней кулачишками, и, задрав конопатые мордасы, они кричат:
– Папа! Ну, папа же!
Они требуют ритуального «колеса встречи». Портфель и чемоданчик отбрасываются в сторону. Он хватает одного и, положив животом на руку, переворачивает так, что голова и ноги делают полный круг. Потом второго. Они визжат от притворного ужаса и восторга. Потом краткая, но крайне воинственная стычка за право нести портфель, пока он не командует: «Вместе!» Портфель велик, им с трудом удается нести его, не чиркая по земле; сопя и напыжившись, они волокут его к дому и поминутно оглядываются – не исчез ли он, не растаял ли вдруг и видит ли, как они стараются… Он обнимает Ингу за плечи, и они идут следом за близнецами… Сколько? Уже восемь лет женаты, а всё – как в первый день… Разве это расскажешь?
– Да, – сказал Сергей. – Наверно, да. Счастлив.
– Стучи скорей по дереву, поскольку мы уже преодолели все родимые пятна проклятого прошлого, а также предрассудки… – Устюгов постучал по столу и приподнял скатерть. – Ну, конечно, теперь и дерева не найдешь – всюду железо или чертова пластмасса… Ничего не попишешь: тебе действительно придется полагаться на научное мировоззрение… И что – всё безоблачно, никаких неприятностей?
Сергей засмеялся:
– Ну, какое может быть счастье без неприятностей? Англичане говорят, что в доме у каждого в шкафу свои скелеты… У меня, к сожалению, не скелет, а цветущего здоровья мужчина – номенклатурный дурак, назначенный к нам начальником. Его распирают энергия и жажда славы.
– Он мешает работать?
– Как раз наоборот: он жаждет помогать. Но это, в общем, одно и то же. Он жаждет всё организовать и превратить в мероприятия, приуроченные к датам или ещё к чему-либо. Поставить исследования на поток, запланировать открытия и перевыполнить план выпуска научных трудов.
– Ну, и как вы?
– Пока справляемся. Слушаем его пламенные призывы, с неизменным подъемом голосуем, принимаем обязательства и – занимаемся своим делом. А он ездит по форумам и симпозиумам.
– М-да, фигура знакомая. Как говорится, носить не переносить… Слушай, Сергей, а зачем, собственно, нужно, чтобы каракатица жила долго?
– Никто не собирается превращать каракатицу в долгожительницу, – улыбнулся Сергей. – Биологи хотят познать причины и весь механизм старения живых организмов. Если удастся его узнать, быть может, откроется возможность и управлять этим механизмом, отодвигать старость. У головоногих обнаружили железу, выделяющую гормон старения, потому ими и заинтересовались.
– То есть ты полагаешь, что эта самая железа ускоренного старения заложена не только в твоих каракатицах, но и в других организмах? Что ж, вполне возможно. Природа – штука беспощадная: исполнил свою функцию и марш-марш на удобрение… Тогда, может, и в человеках заложена такая хреновина, которая заставляет их слишком поспешно стареть?
– Не знаю. Пока этого никто не знает. Но – не думаю… Человека старит не железа, а обстоятельства жизни. Люди так умеют отравить друг другу жизнь, что укорачивают её себе и другим без всяких специальных желез…
Шевелев поднял голову, в упор посмотрел на сына:
– Вот, ты сам заговорил об этом… Ты меня осуждаешь?
– Ты о чём?
– О вчерашнем. И вообще.
На скулах Сергея обозначились бугры. Он снова посмотрел в сторону моста Патона – «Ракеты», конечно, и след простыл, от моста, буравя тупым носом воду, вверх по течению шла самоходная баржа.
– Я не судья тебе, отец, – ответил Сергей. – Что касается этого балбеса Димки, я, наверно, сам бы его вздул. Только раньше и основательнее.
– Ты за домострой? – спросил Устюгов. – Его ещё до революции считали допотопным.
– Я за дом. Дом должен оставаться священным. В доме вырастают, из него уходят – это закономерно. Ты вырос – создавай свой дом. Но прежний, в котором ты вырос, нельзя превращать в заезжий двор, в свалку для своего душевного мусора… Впрочем, Димке никакая выволочка не поможет, пока жизнь не трахнет его мордой об стол… Только тогда будет поздно. Их много развелось, таких любителей приятной жизни. Иной поседеет, облысеет, а всё порхает, всё порхает. Эдакие седенькие, лысенькие мальчики…
– Надеюсь, ты не о присутствующих? – осклабился Устюгов и нежно погладил свою просторную лыину.
– Так ведь вы не порхаете, Матвей Григорьевич… А судить тебя? За что? О твоих отношениях с мамой я не знаю ничего. И вообще в этом не могу быть судьей. Ты сам? Ты всегда был для меня образцом. Ты воевал, я гордился этим и хвастал твоим орденом и медалями. Вы же не знаете, как мальчишки хвастали друг перед другом заслугами своих отцов… Когда ты вернулся из армии, сколько я помню, ты всегда работал как вол, чтобы обеспечить семью. Этим я тоже гордился и старался стать на тебя похожим… За что же мне судить тебя? Если на то пошло, я сужу не тебя, а себя. За то, что был мало внимателен к маме. Это не только моя вина, а, кажется, общая и неизбежная беда – дети уходят, у них появляется своя любовь, другая, отдельная жизнь, и она заслоняет, отодвигает прошлое. Всё меньше остается времени, чтобы вспомнить о матери, которая помнит о тебе всегда, дать ей почувствовать, что её тоже помнят и любят. В этом я виноват, как многие. Но не только в этом. Я не дал ей сделать живительный глоток молодости. Внуки – это ведь для бабушки возвращение в молодость, когда её собственные дети были такими же маленькими и беспомощными. И она как бы заново проходит тот счастливый промежуток жизни, который уже когда-то прошла…








