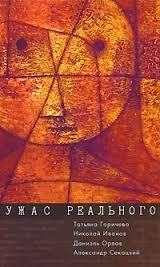
Текст книги "Ужас реального"
Автор книги: Николай Иванов
Соавторы: Александр Секацкий,Даниэль Орлов,Татьяна Горичева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Т. Г.: Я не во всем могу согласиться с тем, что говорил Николай. Главным образом, я не согласна с мыслью о том, что ужас ущербен Скорее прекрасное ущербно, к сожалению Во всяком случае, на понятийном языке современной философии и культуры дело обстоит именно так
109
Ужас реального
Конечно, американские фильмы про вампиров и прочие ужастики – все это просто смешно для нас, русских людей, которым достаточно выйти на улицу, чтобы увидеть гораздо более ужасные, в самом деле страшные вещи, от которых можно потерять не только сознание, но и разум Переулок, в котором я живу в Петербурге, даст сто очков вперед любой улице Вязов. И заметим, что здесь мы будем иметь дело не с символическим порядком ужасного, выдуманным специально для того, чтобы хоть как-то развеять скуку повседневности, всю эту бессобытийность и глубокую конформность современного западного мира, а соприкоснемся с самой что ни на есть реальностью, и как раз в ее измерении ужаса.
Теперь я хотела бы откликнуться на то, что говорил Александр и что, как мне представляется, имеет отношение к гегелевской диалектике господина и раба. Кожев много раз повторяет мысль, что господин становится господином в тот момент, когда испытывает ужас перед смертью. Можно сказать, что смерть имеет смысл, поскольку опыт собственной конечности превращает человека в существо, способное нечто важное понимать в своем бытии. Скажем, у сюрреалистов смерть уже не имеет смысла. Бретон со свойственным ему вызовом пишет в манифесте: иди и расстреливай толпу. Если для Кожева смерть несет символический смысл, поскольку человек обретает себя как личность, которая не боится перед ее лицом заявить, что она есть в мире и что у нее достает решимости быть (а ведь это и означает, что она является господином, а не рабом), то у сюрреалистов этого символизма нет. У них возникает бессмысленность, абсурдность смерти. Надо сказать, что одна из проблем философии, с которой я часто сталкиваюсь во Франции, Германии и других странах мира (почему тематика ужаса мне и показалась интересной), – это проблема непосредственного Еще знамени-
110
Беседа 5
тая полемика вокруг фигуры маркиза де Сада, идущая от Батая и Бланшо, остро поставила эту проблему.
Речь идет о том, каким образом можно теперь прорваться к подлинным переживаниям, как испытать ужас или другое интенсивное состояние, мобилизующее человека до самых глубин. Недавно я прочла много литературы о сексуальной революции 68-го года. Когда на социальном уровне были сняты все запреты, табу, то вместе с тем исчезли эрос и ужас. В некотором смысле они исчезли одновременно, потому что, как показал еще Фрейд, эрос и та-натос связаны. Но об этом говорил не только Фрейд. Даже святые православные отцы считали, что без любви, без эроса невозможно ни одно настоящее человеческое действие. Современной европейской культуре пришлось поставить совершенно неожиданный вопрос: как снова найти табу, чтобы возбудиться, чтобы зажить хоть какой-нибудь жизнью, ужасной или прекрасной, это уж как получится. Наиболее интересные, на мой взгляд, современные мыслители много внимания уделяют теме риска. Получается, что человеческое существо раскрывается и начинает понимать себя через поступок, а поэтому нужно рисковать.
Но оказалось, что рисковать уже просто нечем. Ничего подлинно существенного не происходит. Хотя еще Ницше говорил: дайте случаю прийти ко мне. Я уверена, что ужас – это не вторичная проблема, не проблема эстетики и американских фильмов. Это духовная проблема. Живя на Западе, видишь, что люди больше вовсе не чувствуют ужаса и не знают, что это такое. Ужас выродился в пошлый страх, скажем, страх того, что какой-нибудь налог может вырасти на один процент. Это просто смешно. В православной же традиции, например у отца Павла Флоренского, ужас и семантически, и онтологически связан с усией, сущностью. Усия в «Столпе и утверждении истины» понимается как страх Божий. И при этом как самое
Ужас реального
111
непосредственное. А мы усию гипостазируем, делаем личностной. И таким образом приводим в нашу жизнь и ужас, который преследует нас всегда, в каждый момент жизни. У меня масса знакомых живет в полном ужасе, но они мне совершенно не интересны. Это в основном западные люди. Они живут в ужасе, но сами этого не знают. Единственный, кто мне однажды признался, что ощущает ужасность человеческого бытия, был крупнейший богослов Ханс-Урс фон Бальтазар. Он сказал, отвечая на мой вопрос о Западе: «Очень скучно, Татьяна». Скука связана с ужасом и усией, но это проявление усии, которую человек не смог гипостазировать.
Н. И.: Я хотел бы сразу откликнуться и пояснить тезис об онтологической ущербности и паразитарности ужаса, – тезис, который я, собственно говоря, не признавал за собственный, но раз уж он оказался таковым признанным, тогда и мне ничего не остается, кроме как принять его за таковой. Сначала я выдал его за обыкновенную позицию рассудка, которая безупречна, на мой взгляд, с точки зрения логики, а сейчас хотел бы добавить, что и онтологии. Итак, с точки зрения рассудка, апелляция к ужасу никогда не будет апелляцией к субстанции, к более или менее предельному основанию. За ним всегда будет зиять бездна, которую может осветить только человеческий разум. А осветить он может только то, что будет для него – для света – лицеприятным. Я повторяю эту мысль, на этом стояла вся классика, и это старая человеческая истина, с которой невозможно спорить. Есть, однако, еще другой нюанс, который подтверждает мой тезис. И в данном случае я уже сам хотел бы на этом настаивать. Ситуация ужаса своеобразна не только в том смысле, что он является предметом единственно внутреннего опыта, но и в том, что предмет этот трансцендентально невменяем, туп. Такие
112
Беседа 5
пространства внутреннего опыта – чуть ли не всеобщие его пространства, – как ad и рай, оставляют это состояние по ту сторону себя. Штука в том, что ужаса человек не испытывает не только в раю, но и в аду. И прежде всего в аду его и не испытывает. Там сколько угодно скуки и тоски, но не ужаса. Говорят, ад и рай – ноуменальные «фантазии». Возможно. Но если все на свете происходит онтологически только наяву, то все онтологически ужасное – во сне. Теперь я хотел бы коснуться другого момента, а именно того, что нам готовит и обещает, что называется, грядущее. А обещать оно может нам только здесь, пока надежда еще с нами. Мне когда-то приходилось говорить об оборачивающейся перспективе, которая психологически читается довольно легко: когда мы смотрим на картину художника, то замечаем, что задний план становится все более и более неопределенным, и в конечном счете почти все вещи исчезают в тумане (если это не картина Брейгеля, конечно, но и у него в итоге берет свой верх некая синева). Где-то вдалеке мы различаем синеву, а за ней мерещится что-то серое, бесцветное, и вот когда перспектива оборачивается, когда она ломается и рушится горизонт, тогда мы внезапно оказываемся лицом к лицу с тем, что еще минуту назад казалось нам стертым в недостижимой дали. Прямая перспектива реальности вселяла в нас уверенность, что все близкое – это большое, а все далекое – маленькое, но вдруг перспектива становится обратной. А что находится в самом конце для нормального человека? Там – Страшный суд. Однако в какой-то момент перспектива оборачивается, и мы оказываемся перед фактом, о котором раньше даже думать не могли, – выясняется, что платить по счетам ты будешь не когда-нибудь потом, и даже не завтра, а прямо сейчас, так что собирай вещички, потому как в другой комнате тебя уже заждались. И за все твои грехи, за все случайные, самые мелкие греховные поползновения,
113
Ужас реального
-за какую-нибудь мысль, которая была почти чиста (в некотором контексте, конечно), сейчас тебя припечет, и гореть тебе вечно в огне. Я полагаю, что мое рассуждение психологически верно, а вот онтологически даже оно неверно. И если уж говорить по существу, то сам себя я мог бы опровергнуть, если бы продолжил движение оборачивающейся перспективы сквозь самого себя, то есть если бы научился говорить так, будто наконец понял, что дурят нашего брата и Страшный суд уже позади. Другими словами, мы сидим в нашей действительности, как в тюрьме, и разыгрываем роли, вот ты будешь судья, чистый разум; ты – свидетель, практический разум; ты у нас чего-то натворил, и значит, – разум поэтический; и мы ввязываемся в долгое разбирательство. А ворота уже захлопнулись у нас за спиной. Мы разыгрываем театр, будь то в духе Хайдеггера, будь то в духе Бланшо, и если сможем это разглядеть, то тем самым только освободимся. Понятно, что разрушать тюремные стены бессмысленно, потому что в результате мы попадем просто на кладбище. Разрушая стены, на свободу не вырываются. Зато можно вырваться на свободу отказом от самой игры, в которой уже поделены все роли. Есть достойные люди, которые находят в себе силу духа отказаться от этой игры, а философия – та дисциплина, которая должна (потому что только она и может) найти в себе силу ума сделать это.
А. С : Со многими вещами, которые говорил Николай, я согласен, но одно у меня вызывает некоторое недоумение. А именно: я совершенно не уверен, что только лицеприятность субстанциальна, в отличие от ужаса, который онтологически вторичен. Я думаю, что дело обстоит прямо противоположным образом. Ведь когда мы говорим, например, о прекрасной кобылице и прекрасном горшке, то упускаем очень странную вещь, состоящую в том, что красота мо-
114
Беседа 5
жет существовать лишь в форме дефицита Грубо говоря, кто-то позаботился, чтобы не все горшки были прекрасными И только поэтому мы говорим о прекрасном горшке. Точно так же не все кобылицы прекрасны. Эта непонятная дефицитность красоты, данная нам изначально, взывает к той самой «усии», к ужасу того, что именно так случилось. Безусловно, ужас избыточен Однако неравномерно распределенная лицеприятность подвигает нас к исходной тайне творения, к тому, что в хасидской традиции называется «цим-цум», а в христианской – «кенозис», – к тайне, скрывающей некое самососредоточение Бога, который оставил мир без присмотра, чем впервые дал возможность автономизирования и гипостазирования своему творению. Бог как бы предопределил дефицитность прекрасного, и в этом смысле определил прекрасное как таковое. Хотя в качестве первичной онтологической процедуры все-таки выступает ужас, в котором Хайдеггер кое-что понимал Ужас оказывается первичным и избыточным постольку, поскольку связан с самыми первыми результатами творения.
Н. И.: Именно что только с результатами, Гегель бы сказал – с «трупами, оставившими после себя тенденцию», хотя, определенно, и «избыточную». Только одно уточнение, субстанциально не лицеприятное,субстанциально – прекрасное Именно оно не бывает ни реактивным, ни реакционным, ни паразитарным Прекрасное как таковое, а не как особенная «редкость», делающая честь горшечнику. Да и какая разница вообще, что реже, а что чаще встречается на свете? Совершенно ясно, что во всяком случае не этим ужасное отличается от прекрасного И я буду по-прежнему настаивать на том, что речь идет вовсе не о дефиците в бытии и не о качестве, которое мы приписываем объектам, – качестве восхитительного или отвратительного. Речь идет о слове, которое вещи говорят разуму
115
Ужас реального
А ничего плохого и ужасного это слово не содержит в принципе Даже если вещи скажут моему уму, что я – безумец, мой ум будет очень рад, поскольку это лишь удостоверит его действительность
Д О Предметный разговор об ужасе – это разговор, при котором вопрос об основании мира в целом, о почве, на которой учреждается сущее как сущее, даже не может быть надлежащим образом поставлен, не говоря уже о том, чтобы решен Однако подобное положение дел не означает, что мы не можем ставить вопрос об основаниях в каком-то другом аспекте, – в горизонте не сущего как такового и в целом, а, скажем, отдельных родов сущего, его отдельных предметных областей или даже отдельных вещей. Здесь не заключено никакого противоречия, потому что онтологическая дифференция, касаясь различия бытия и сущего, затрагивает одновременно разницу в способе обоснования одного и другого. Поэтому то, что предметно в отношении сущего (скажем, ужас как некоторое переживание или состояние), не является таковым за его пределами Хайдеггер позаимствовал из лексикона немецкой мистики понятие Ungrund, означающее «бездну» или «без-основность», однако семантически это делающее крайне двусмысленно, поскольку приставка «un-» в немецком языке является не только отрицательной, но и усилительной, фактически исполняя одинаковую функцию с приставкой «all-» To есть безосновное в себе самом оказывается основанием для всего остального Отсутствие почвы у сущего в целом, у бытия выступает условием укорененности каждого сущего в отдельности. Это близко к тому, о чем Александр говорил как о самососредоточении Бога, оставившего мир без присмотра и позволившего тем самым обосноваться разным родам сущего Для человеческого присутствия поиск основания был и остается не только пробле-
116
Беседа 5
мой существования в мире, от которого Бог отвернулся, но и специфической ситуацией самоопределения на фоне полной, тотальной неопределенности, бесприютности, несокровенности Спрашивается, на каком неколебимом утесе стоит человек, раз уж мы выяснили, что основание в теологическом смысле всегда нелегитимно? Нет неколебимого утеса, – на его месте провал, из которого в нас глядится «светлая ночь наводящего ужас Ничто». А мы, в свою очередь, пристально всматриваемся в эту ночь, но как ни стараемся, не встречаем ни одного знакомого образа.
Существенно затрагивающим суть дела представляется вопрос Татьяны о возможности вновь обрести табу. Для себя я это называю проблемой вторичной символической разметки. Как возобновить смысл слов? – вот в чем вопрос. Отсутствие святых имен, о котором говорит Хайдеггер, легко обращает попытки истолковать существенные вещи в досужие толки. Ведь нам не просто приходится говорить об ужасе или реальном с позиции нашего о них знания или их экзистенциальной достоверности. Скорее наоборот, рассуждая о подобных вещах, мы фиксируем почти стертые границы фундаментальных различий, которые некогда непосредственно затрагивали область сакрального, а теперь не значат практически ничего. Тут-то и возникает потребность во вторичной символической разметке, – вновь появляется необходимость найти способ отделить существенное от несущественного, подлинное от поддельного, а надуманное от действительного. Если вспомнить пример Татьяны, касающийся сексуальной революции, то совершенно очевидно, что когда были уничтожены последние табуированные зоны в общезначимой конфигурации эроса, то сразу же была утрачена и большая часть его внутреннего напряжения. Рыхлая среда эротического была мгновенно оккупирована размытой сексуальностью, с которой подлинный эрос всегда сохранял огромную дистанцию
реального
117
Я полагаю, что приблизительно то же самое однажды произошло и с ужасом. До тех пор, пока человек испытывал великое изумление и трепет перед непостижимой тайной сотворенного мира и пока умел видеть в созданном им то, чего никогда не сможет понять до конца, он знал не понаслышке, что такое ужас. Однако со временем святые имена пришли в забвение, фундаментальные различия стерлись, и первоначальное отношение к миру, в котором бесконечное удивление смешивалось с безмерным ужасом, утратило напряжение и растворилось в смутных переживаниях души, с которыми поначалу не имело совсем ничего общего. При этом осталась, как мне кажется, сущностная связь ужаса и смысла, о чем я уже отчасти пытался говорить. Согласитесь, ужасно вовсе не то, от чего теряют рассудок, бегут сломя голову или лишаются чувств. Это принято называть, скорее, «животным страхом». Ужасно также и не то, что обусловлено наличной опасностью и что Фрейд обозначал понятием Realangst. Существует странная вещь иного порядка, все время выбивающая нас из обычного времяпрепровождения, часто заполненного приятными и бессмысленными делами. Что-то постоянно сталкивает нас с выхоженной колеи, отбрасывая к попытке самопонимания. Что-то вынуждает приостанавливать жизненный проект, создавая лакуны, заставляющие искать большего, чем способен предложить окружающий мир. Это большее – и есть смысл, а прерывы нашего привычного существования – следы изначального ужаса. Будут ли они и впредь сохраняться системой символических запретов, оттеняющих реальность реального, или временно растворятся в стратегиях индиффе-ренции, вопрос, в общем-то, вторичный.
Александр Погребняк– Продолжить наш разговор следовало бы с замечания, что ни с кем из предыдущих Участников беседы я принципиально не согласен. Правда,
118
Беседа 5
тогда эта речь будет произноситься не от имени моего «я», а от имени Я как такового. Любой, кто говорит о себе «я», когда его просят сказать что-то об ужасе, вдруг понимает, что беспросветно одинок. Психологически ужас – это ситуация, в которой все хотят взяться за руки, но онтологически никто никого за руку не берет, потому что оказывается один. Начиная говорить об ужасе и понимая, что ты говоришь в полном одиночестве, даже не перед собственным лицом, а вообще перед отсутствием лиц, ты должен признаться, что о сущности ужаса абсолютно нечего сказать. Почему у ужаса нет сущности? Потому что в нем нельзя отделить существенное от несущественного. Если ужас – это на самом деле ужас, то в нем существенно все. А если в нем обнаруживаются какие-то акциденции, атрибуты или знаки, то не так он и ужасен, потому что есть за что зацепиться взгляду, есть кого взять за руку. Что касается имени Хайдеггера, которое совершенно неслучайно здесь прозвучало первым, то Хайдеггер в этой связи оказывается очень интересным персонажем. За то, что он сказал об ужасе, перед ним стоит снять шляпу. Но когда снимаешь шляпу, то если ты снял ее всерьез, после этого должно просто «сорвать башню». От ужаса должно «срывать башню». А ты зачем-то, едва сняв шляпу, надеваешь ее, как Шеллинг, надевавший шляпу, отправляясь читать лекцию, хотя лекторий был в том же помещении, в котором он жил. И спокойно идешь читать лекцию об ужасе у Хайдеггера или об ужасе вообще, сравниваешь Хайдеггера с Лаканом или с кем угодно. Все получается наилучшим образом, безопасно и благополучно.
Можно задаться вопросом: что значит онтологическая выдвинутость человеческого бытия в Ничто? Только одно: еще большую задвинутость в нечто. Расхожие разговоры о философии Хайдеггера часто ведутся приблизительно следующим образом: Хайдеггер намечает плацдарм для
119
Ужас реального
рассуждения о бытии, ужасе или истине, избирая такой модус, как повседневность. Почему? На первый взгляд может показаться, что с точки зрения повседневности легче всего говорить о том же ужасе по контрасту, потому что ужас разрывает повседневность. Однако порядок слов и мыслей у Хайдеггера другой. Чем более ужас отрефлек-тирован, чем более он понятен, тем явственнее выдает погруженность в нечто, в повседневность. Ужас – это то, что конституирует повседневность, что живет в повседневности, плодит эти бесчисленные «и т. д.», о которых говорил Александр, и все наши разговоры о себе превращает в болтовню. По сути дела, человек, прочитавший Хайдеггера и понявший его либо сам ставший Хайдеггером и понявший, что такое ужас, понимает только одно: если до этого момента он говорил, или писал стихи, или вещал, или думал, то теперь ему не остается ничего иного, кроме как болтать. Если верить Батаю, Гегель, прежде чем создать окончательную систему, пережил какой-то онтологический ужас. После этого он и создал свою систему, где фигурируют не какие-то мифологические персонажи, вроде господина и раба, а бытие, ничто, качество, количество и т. д. Мне вспомнилось, как в самом начале «Страха и трепета» Кьеркегор говорит: каждый из нас тысячу раз по воскресеньям слышал в церкви рассказ об Аврааме, но кто после этого потерял сон? А если даже кто-то потерял и захотел повторить подвиг Авраама, то его обвинят в безумии, преступлении, гордыне, сговоре с дьяволом.
Итак, ужас лишь в том, что все наши разговоры с определенного момента гарантированно превращены в болтовню и любое слово, чем точнее оно будет, тем сильнее станет забалтывать ситуацию. Если комически представить эту ситуацию, то мир делится на две категории – на прочитавших Хайдеггера и на не прочитавших Хайдеггера. И эти две совершенно неравные стороны будут ожесточенно воевать.
Беседа 5
120
Мы, предположим, принадлежим к той (самой большой) половине, которая читала Хайдеггера, и мы будем утверждать, что мы-то понимаем, что все – болтовня, но как это можете понимать вы – те, которые только болтовней и занимаются. Вы даже Хайдеггера не читали, а только болтаете. А вот мы понимаем, что ничего другого делать просто не в силах, то есть они лишь болтают, а мы преподносим их болтовню как нечто необходимое и существенное. Да, но эта ситуация зеркальная – у них есть свой Хайдег-гер. И таких хайдеггеров миллионы. Как и ужасов миллионы. И завершается эта ситуация тем, что возникает сю-жет «Скучно на этом свете, господа». Потому что прочитавший и не прочитавший Хайдеггера – это Иван Иванович и Иван Никифорович. Просто один уверен, что правда на его стороне и он знает, в чем всеобщность и необходимость положения дел, а другой не знает этого, но не знает именно с точки зрения первого. Каждый знает эту правду для себя. И в этом смысле ужасно то, что война – нормальное состояние дел. Почему? Потому что любой знает имя Хайдеггера и понимает, что ужас правит миром, но когда кто-то из нас хочет сказать другому слово «ужас» или слово «Хайдеггер», то мы не слышим друг друга. Мы пишем жалобы в суд, говорим о свинье и двух мешках овса, о ружье, и не более того. Отсюда мир имеет вид бесконечного торга или бесконечной войны за обладание правом сказать другому, что это ты болтаешь. При этом я знаю, что ты болтаешь по преимуществу, и раз и навсегда будешь болтать. Идет борьба за это последнее слово.
Спрашивается, почему такое абсолютно привычное состояние мира называется именно ужасом? Потому что ужас – не самая редкая вещь, достаточным основанием для ужаса может стать любая вещица, повседневное событие, любой пустяк. Мы прекрасно знаем, что причиной невроза может быть любое случайное событие. Проблема заключа-
121
реального
етея в том, что нечто «подлинно уникальное» мыслится нами исключительно как повод для бесконечной болтовни с психоаналитиком. Ибо каждый из нас – психоаналитик друго-го, и пациент у другого в роли психоаналитика. Александр говорил о том, что красивая лошадь появилась потому, что какая-то другая лошадь, которую, возможно, никто никогда не видел, радикально подпорчена. Существуют миллионы, табуны прекрасных лошадей, но где-то прячется одна, быть может, фантазматическая, уродливая лошадка, лакановское маленькое «а», то, на что все хотели бы посмотреть. Более того, проблема заключается даже не в том, существует она или не существует. Просто если взять двух совершенно одинаковых лошадей, то для двух человек одна из них – все равно какая – окажется красавицей, а другая уродиной. Договоренность между ними будет иметь характер бесконечного торга или вечной войны.
Марина Михайлова: Вы все начинали с Хайдегге-ра, а я начну с анекдота про ужас. В бордель приходит какой-то человек, приглашает девушку в комнату, та через пять минут выбегает и кричит: «Ах, ужас, ужас!» К нему посылают другую девушку, постарше и позакаленнее, но через пять минут и она выбегает с криком: «Ах, ужас, ужас!» Тогда сама мадам, подтянув корсет и затянувшись беломо-риной, идет в комнату. Через час она выходит и говорит: «Ну, ужас. Но ведь не ужас, ужас!» К чему я это рассказала? К тому, что ужас, который поддается измерению, градации, о котором можно сказать, что одно – ужас просто, а другое – ужас-ужас, на самом деле вовсе не является Ужасом. Прежде всего, как мне кажется, нужно различать страшное и ужасное. Это совершенно разные вещи Страх содержит невротический момент, он может быть включен в ткань символической реальности и постоянно преследовать человека. С религиозной точки зрения страх – это
122
Беседа 5
один из компонентов падшего существования. Он обладает определенной цикличностью, то есть человек остается в пределах самого себя, испытывая страх или страхи. Они могут меняться или оставаться одними и теми же, но в любом случае здесь имеет место пребывание в определенном круге. Тогда как ужас, о чем говорили и Даниэль, и Александр, обладает свойством исторжения человека в иные порядки бытия. Ужас таков, что в тот момент, когда он переживается, человек перестает присутствовать в символических порядках реальности. Он вдруг обнаруживает себя в диком одиночестве, в котором совершенно не на кого опереться. При этом он вынужден как-то воспринимать себя в этой ситуации – в ситуации полного несовпадения с привычными сетками значений.
У Бальтазара есть работа про Angst. Angst – это и страх, и тревога, и ужас, и все это вместе. Так вот, Баль-тазар замечает, что современный человек все время пытается вытеснить страх и тревогу из своей жизни. Он стремится к тому, чтобы ничего подобного не испытывать, а ужасаться лишь незначительным вещам, вроде отсутствия горячей воды. Но на самом деле ужас – это чувство, которое нормальный человек должен ценить, ибо ужас вводит его в пространство божественного. Если мы посмотрим на священные или литургические тексты, то увидим, что ужас является необходимым состоянием, которое испытывает душа перед Богом. Не потому, что Бог страшен или требует от человека, чтобы тот ужасался, предстоя Ему в богослужении или молитве, а потому, что в каком-то очень странном преломлении ужас сопрягается с радостью. При выходе, при исторжении с помощью ужаса в иную реальность человек действительно испытывает необыкновенную радость. Получается, что на своей предельной глубине ужас соединяется с радостью. Это, к примеру, хорошо знал Пушкин. Помните его строки: «Есть упоение в бою, и без-
123
ужас реального
дны мрачной на краю неизъяснимы наслажденья. .»? Можно сказать, что из стадии страха, поддающегося измерению, человек попадает в неизреченный ужас и там, за гранью ужаса, оказывается в пространстве божественного. Самый настоящий ужас, который нас преследует всю жизнь, – это ужас смерти. Все остальное – из области страхов, более или менее сильных. Я вспоминаю замечательный фильм Бергмана «Седьмая печать», в котором разные люди встречают смерть и вступают с ней в разные отношения. Один персонаж говорит смерти, что еще не готов умереть и ему' нужно подготовиться. Другой персонаж, романтический рыцарь, играет со смертью в шахматы. Он заключает со' смертью пари. Если он выиграет, то смерть отступит от него, а если проиграет, то заберет его с собой. И рыцарь проигрывает, причем в тот момент, когда уже добирается до дома из долгого своего путешествия. И есть третий персонаж, точнее, целый ряд персонажей. Это комедианты. Они реализуют совершенно особый тип поведения: они просто убегают всякий раз, когда чувствуют, что дело может кончиться плохо. Хватают своих детишек и бегут прочь.' И спасаются. Когда в конце фильма смерть красиво уводит' на небеса всех персонажей – рыцаря, жену рыцаря и всех остальных, – то комедианты в это время наблюдают шествие и вспоминают о том, как ели землянику. Я хочу сказать, что мы можем ценить ужас и не бояться его. Потому что для человека, а тем более для человека православного, нет ничего такого, в чем он не встретил бы Бога. Есть Господь и в ужасе. В этом смысле ужас и есть, быть может, наиболее в реальности подлинное.
А. С.: Обращаясь к тому, что сказал Александр Пог-ребняк, я бы заметил, что он продемонстрировал опреде-ленную мощь диалектического аттракциона, на котором все присутствующие умеют хорошо работать и развлекаться Эта
124
Беседа 5
мощь частично объясняется красотой риторических переходов, а частично тем, что мы неизбежно задеваем какие-то существенные вещи. Тем не менее она вновь и вновь приводит нас к неким простым утверждениям. В частности, к утверждению, что порядок слов является значимым. Когда Кант заявляет, что существует совершенно непознаваемая вещь в себе, и больше ничего о ней не говорит, то, с одной стороны, вроде бы оправдана ирония Гегеля, замечавшего, что нет ничего легче, чем знать эту вещь в себе. Просто скажите, что это – ничто, и отбросьте ее.
Но с другой стороны, так поступать нельзя, поскольку все наши вещи для нас, весь наш дискурс имеет смысл и продолжается только потому, что существует невидимая вещь в себе – как тот контраст, благодаря которому сама реальность становится реальной. Она представляет собой нечто неименуемое. А в силу правильного порядка слов, который мы пытаемся воспроизвести, мы каким-то образом обозначаем топос этого неименуемого, и иного пути у нас нет. Потому что человек – существо, одаренное словом. Мы можем сто раз подозревать, что наша речь сфальси-фицирована и насыщена ложью, у нас все равно нет другого выхода: мы вынуждены произносить слова, и все зависит только от порядка слов. Чем правильней будет этот порядок, чем он будет ответственней, тем точнее мы обозначим топос неименуемой вещи в себе, за которой, кстати, и скрывается ужас как таковой – ужас неименуемос-ти, ужас того, что как бы мы ни были одарены, образованны и умны, но не в нашей власти поименовать неименуемое. Мы можем лишь оттенить его контраст по отношению к реальности. Здесь выявляется структура ужаса как того самого «и т. д.», ибо невозможно бесконечно перечислять, уточнять и отвечать на все вопросы, зато можно выстраивать порядок слов и, одновременно, порядок бытия. Можно, наверное, обвинять Хайдеггера в том, что он
125
Ужас реального
прожил жизнь, ничего внятного не сказав про Аушвиц или Майданек, хотя был прямым свидетелем творившегося ужаса, но все равно никто точнее его не выстроил на сегодняшний день правильный порядок слов. Наш разговор об ужасе реального, сколь бы он ни был для нас подозрителен и как бы мы ни выходили из него с помощью диалектического аттракциона, все же необходим. Ведь ничем другим мы не располагаем.
Н. И.'. Да, вопрос в каком-то смысле действительно заключается в порядке слов. Однако, к счастью, а может, к сожалению, не существует критерия, по которому с ходу можно было бы отличить достойный порядок слов от такого, который иначе как болтовней не назовешь. Мне кажется, что проблема состоит в том, что сколь бы ни казалась естественной апелляция к реальности, когда мы говорим об ужасе, эта апелляция все равно окажется обманчивой. Видите ли, ужас реальности, вообще говоря, совершенно тождествен реальному ужасу. При этом я то же самое могу сказать обо всем на свете – о восторге, о любви, о вере, надежде, отчаянии, да о чем угодно. Мы невольно попадаем в очень жесткий и совершенно «непродуктивный» тавтологический круг. И проблема выхода из этого круга связана с тем, чтобы было что сказать, а не с тем, как это упорядочить и передать словами. Когда утверждается, что «всё» болтовня, то разве это далеко ушло от мысли, что все есть суета сует? В конечном счете, что бы мы ни говорили, какие бы порядки ни выдумывали и ни демонстрировали, они никогда не обретут тем самым онтологического алиби в смысле Бахтина или «подвешенности» в смысле Хайдеггера. Если отгородиться от того характера дискурса, на который нас как будто бы заставляет идти сама тема Ужаса, как, впрочем, и любая тема, то можно достаточно строго ограничить ее рамки Ужас того слова, которое








