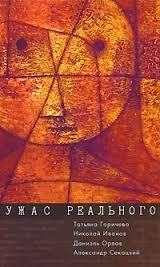
Текст книги "Ужас реального"
Автор книги: Николай Иванов
Соавторы: Александр Секацкий,Даниэль Орлов,Татьяна Горичева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
75
Terra terrorum
"ваются. Полагаю, что подробная расшифровка была бы здесь излишней, достаточно сокращенного варианта.
Н. И. Возможно, дело тут не столько в скорости из-менений, о которой говорила Татьяна, сколько в том, что реактивен их масштаб: чем мгновенней реакция, тем она беспомощней, и чем беспомощней, тем реакционней.; А вообще, едва ли можно спорить, что утопия и терроризм плоть от плоти друг друга Места – топоса – террору, его предметам и его субъектам просто нет на этом свете. Террор не имеет своего аутентичного пристанища Но парадоксальным образом он обладает своей территорией. Есть некоторая земля террора – terra terrorum, – и когда начинаешь ее обозревать, она предстает практически безграничной. Чем сильнее тенденции глобализма, тоталитаризма или фундаментализма, тем явственней становится и эта безграничность. На любом макро– или микроуровне террорист способен заявить о себе, о собственном всем миром отрицаемом достоинстве, и взять на себя то, что не решается взять никто. В частности, ответственность за ту самую утопию, плоть от плоти которой он собою представляет. Источник всей сложности размышления о терроре кроется в том, что мы не слишком понимаем, как можно сорваться с теплого, насиженного жизнью места без шанса на то, чтобы на него вернуться. Не то чтобы всякий террорист – смертник, но ценность возвращения, ценность самосохранения настолько явным образом устремляется к нулю, что обыкновенно оказывается вовсе не востребованной Такое впечатление, что если бы террорист не взорвался в самолете, в автобусе или в магазине, то он сделал бы это сегодня же ночью у себя в спальне. Обидно и страшно-размышлять о мире, в котором продемонстрировать собственный покой по отношению к личной жизни и смерти мы оставляем в качестве удела террористу Но поскольку
76
Беседа 4
террор всюду найдет себе место – и в большой, и в ма– ленькой политике, и в макро-, и в микроэкономике, популярной, и в сколь угодно элитарной культуре, и в част– ной, и в общественной жизни, – то менее всего мы его сможем уловить, если попробуем обозреть поля его фактического распространения. И вовсе не только в силу того, что они необозримы, но прежде всего потому, что странным образом это априори бессмысленное обозрение идеальным образом впишется в ту перформативную картину, которая душит сегодня не только террориста, но и любого нормального человека. Ту картину, которая вызывает террориста на историческую авансцену и раскрывает в нас не так, как когда-то – то ли божественное, то ли земное начало, а начало вовсе безотносительное к полям реального и символического, – начало специфически виртуальное, выглядывающее на тебя не из зеркала, а из компьютерного монитора и экрана телевизора. Совсем не случайно, я полагаю, террорист сегодня предстал у нас в качестве того, кто разбивает бесчисленные зеркала, в которые мы привыкли смотреться по утрам в полном покое в поисках, как принц Гэндзи, «новой утонченности» на своем лице. Да, культура для современного самосознания находится если и не в состоянии самоуспокоенности, то в состоянии странного поиска самозабвения, – поиска встречи в некий знойный, ясный солнечный день с богом Паном на лесной лужайке. Не с тем, чтобы он вселил в тебя древний, собственно панический ужас, а с тем, чтобы забыться сном, который хоть сколько-нибудь напоминал бы реальность, – хоть сколько-нибудь отличался бы от того, что мы видим собственными глазами. Во времени мы легче можем обнаружить искомую территорию ужаса, нежели в пространстве. Для меня подлинный ужас – это единственно ужас древний, тот, который живописуют Бакст и Вячеслав Иванов, тот, с которым мы лично сталкиваемся едва
77
Terra terrorum
ли не только в собственных снах, – там, где ответствен
ность за созерцаемое положение вещей сведена к нулю,
как она сведена к нулю, когда мы беспрестанно переклю
чаем каналы телевизора. Сегодняшняя ситуация в связи с
терроризмом и глобализмом мне не представляется даже
исторически уникальной. Навскидку можно найти целый
ряд принципиальнейших аналогий в истории. Например, в
истории бедного бога Пана, который «умер» еще во време
на Тиберия, о чем вспомнил в свое время Ницше. Смерть
Пана померещилась Тиберию, когда он возвращался после
одного из своих походов в Рим, вслед за чем был издан
нелепейший в истории указ, гласивший: «Великий Пан
умер». Надо полагать, что Тиберий ошибался ничуть не в
большей степени, чем Ницше, возвестивший смерть Бога
в «Заратустре», и хотя философом он не был, но он видел
то, что творилось на его собственных глазах так же ясно
как это видел Ницше.
Древний ужас является собою потому, что его пред-
мет – судьба. То есть потому, что его предмет абсолютен,
безотносителен к тому, какова его природа и как мы будем к
ней относиться. Даже если мы конституируем вслед за фило
софами сущность, безотносительную к судьбе, – скажем, эй-
дос, – то мы лишь подтвердим особенную судьбу нашего
новорожденного концепта А поскольку обобществление
жизни и мысли всегда связано с ее саморазвитием, то перво
начальные мифологические времена сознания очень быстро
умудрялись исчезнуть в далеком мистагогическом тумане.
Человек очень легко научался идентифицировать себя с си
лами, сущими по ту сторону хтонических божеств, – ужас
перед судьбой сменялся богочинностью и богопочитанием,
тем же страхом Божьим. Уже у древних греков, с их олим
пийским каноном, судьба как будто бы вовсе потеряла для
себя место – свою терру в поле по ту сторону Олимпа Более того, в известном смысле Зевс – это вполне трансценден-
Беседа 4
78
тная величина. Конечно, он не трансцендентен миру как Сущее с большой буквы, или первосущее. Он и мифологически не первосущий, однако есть элемент трансцендентности даже в мире классического гомеровско-гесиодовского мифа. Зевс не просто сохранил ужас перед лицом судьбы, он единственный, кто его сохранил. Он как бы взял на себя ответственность за огромную структуру, состоящую из богов, полубогов, героев, наконец, самих эллинов, самосохранение которой было залогом пусть и недолгого торжества человека над судьбой. Человек, постепенно научившись мерить Олимп собственными мерками, сделав олимпийских богов прозрачными для самого себя, обнаружив их злокозненность и безнравственность, совершил страшное дело – он заместил Бога или богов, в данном случае это одно и то же, оберегающей и сохраняющей самого себя стихией. Боги стали для него покрывалом – утепляющим, сохраняющим и защищающим. Он, иными словами, идеализировал бытие, превратил сущего Бога в дух, который с любой горы заставлял речки стекать вниз, а не вверх – в буквальном смысле в симулякр. «Симулякр», как мы понимаем, вовсе не новейшее словечко. Произошло переключение мысли с Бога на его изваяние. Мы знаем, как разрушился этот по-своему глобализированный и терроризированный изнутри мир, достаточно вспомнить Герострата. Разве он не супертеррорист, просто ради идеи, – и я думаю, не столько идеи попадания в анналы истории, сколько ради самой идеи, «из принципа», – сжегший величайшее из чудес света? Наше время подготавливалось длительно, но мы знаем ступени, знаем элементы подготовки, в которых постепенно вырастал глобализированный мир.
Смерть Бога имеет свои эквиваленты – смерть автора как творца с маленькой буквы и смерть трансцендентального субъекта(как творца «точек» над обездоленными «i»). Мы спокойно ко всему этому отнеслись, а сейчас
79
Terra terrorum
понимаем, во что нам обошелся энтузиазм, с которым вырастала современность. Эти три смерти – цена за высокое Просвещение. При этом мы умудряемся платить дважды, и трижды, и десятирижды, потому что, не заметив эти смерти, прочитывая их «метафорически», мы совершаем, может быть, нечто еще более страшное, нежели то, что привело к ним. По смерти Бога ты превращаешься в онтологического невидимку и оказываешься решительно никем и ничем. По Ницше, Бога убил тот, кто не вынес Его свидетельства. Бог – свидетель, вот в чем штука. А самый безобразный человек в «Заратустре» не мог вынести, чтобы видели все, что творится в его душе, точнее – чтобы видели его насквозь. Это обернулось тем, что женщина теперь носит нижнее белье обыкновенно только для того, чтобы ее раздели, а мастер больше не выгравировывает сложнейшие узоры на внутренней стороне замка, потому что все равно их никто не увидит. Все стало либо напоказ, либо вовсе исчезло из поля зрения. Ситуация с автором никак не менее радикальна для пространства нашего существования в целом, хотя как будто бы гораздо более локальна. Потерял, конечно, автор свое живое лицо, он перестал быть тем, кто вносит контекст своей эпохи в собственный текст. Но что же это означает? Это означает существо человека, который принял весь мир за текст, – кажется, Деррида прав и другого шанса у разума попросту не остается, – но когда он начинает в этот текст вчитываться, то видит, что он писался мертвым человеком. Дело не просто в том, что Пушкин потерял свои бакенбарды, тросточку и все, что делает его персонажем своего времени. Это тот Пушкин, который ни для кого всем не является, – настолько, насколько «всем» не является еда в каком-нибудь национальном ресторане.
И смерть трансцендентального субъекта – наиболее Щемящая тема для современной метафизики. Именно он,
80
Беседа 4
внеположный истине субъект, ответствен за покой, хранимый нами перед лицом конституированного им мира. Если мир конституирован субъектом, а это утверждает вся классическая теоретическая философия, то по своему собственному существу он действительно зеркален. Либо мы смотрим в свою рациональность и видим за всем самих себя, либо мы просто лишены разума. Но что демонстрирует в этом смысле террорист-художник, выступая на трансцендентальном поле? Он предлагает всмотреться в это будто бы человеческое лицо, скрывающееся за творениями современной науки, рациональности, обобществленной культуры, демонстрируя, что на самом деле именно открывшееся чистому разуму человеческое лицо за конституированным им миром вполне автономно по отношению к собственному хозяину. Однажды ты не то что не заметишь «новой утонченности», но обнаружишь, что твое отражение не слишком тебе принадлежит. Оно обладает мерой автономии по отношению к тебе самому. Ты поднимаешь руку, а оно нет, ты улыбаешься, а оно плачет, ты начинаешь присматриваться, а у тебя на глазах в зеркале вырастает некоторое начало, вполне безотносительное к человеку, – то ли рога, то ли хвостик крючком. Через секунду ты превращаешься в существо, не похожее ни на что, – в полнейшего монстра, в экран, залитый кровью. В этой ситуации террорист оказывается аутентичным действующим лицом. Если представить все эти территории, порождающие ужас изнутри своей собственной структуры в качестве сцен не сознания, а самой экзистенции, на них будет господствовать в качестве вечно ожидающегося и едва ли не добивающегося аплодисментов террорист.
Николай Грякалов: Откликаясь на разговор о терроре, мне бы тоже хотелось высказать ряд соображений, отчасти известных, но не успевших нам еще окончательно
81
Terra terrorum
надоесть Их вряд ли можно центрировать в каком-то едином проблемном поле, хотя несомненны и линии пересечения с уже предлагавшимися к обсуждению темами типа глобализма, политкорректности, разрушения инстанции другого и т. д. Очень близким и симпатичным кажется сюжет Даниэля о том, что объектом террористической активности являются не политические режимы и экономические порядки, но инстанции гораздо более фундаментальные – первичный раскрой мира, гарантирующий саму возможность его социо-политического структурирования. Однако выступает ли это следствием терроризма, или же сам терроризм является лишь одним из эффектов спонтанной девальвации этих гарантий?
Как мне кажется, вопрос может принять такую форму: что в нашем сообществе приводит к непрерывной распечатке диспозитива терроризма, естественный негативизм в отношении к которому ни в коем случае не является критерием его рациональности, в чем нас пытаются убедить социологические или политологические дискурсы. Пытаясь освоить его в терминах отчуждения (психологического, социального, экзистенциального – в зависимости от теоретического ангажемента), они оказываются на порядок ниже его имманентной логики. Логики катастрофической, развернутой на территориях трансполитической психоделии. Именно поэтому, кстати, провалились все медиальные попытки синтезировать «чужака» (которого, однако, можно было бы успешно идентифицировать в виде, скажем, «арабского террориста» или каком угодно еще). От– и о-чужденного. Его постоянно сдвигающееся, номадическое распределение следует расценивать не как «промах нашего чудесного интерфейса», по выражению Вирильо, но как развитие его собственной логики. Как симптом его аннигиляции под тяжестью соб-ственной монструозности. Неспособность к встрече с
Беседа 4
82
чужаком, его диффузный, ускользающий облик говорит о радикальной девальвации жеста, означивания, инвестиций власти в социальное тело: медиа-шаман сталкивается с иррадиацией своего поля в пустоте.
Разговор о медиа-шаманизме инициирован сменой стратегий апроприации террора социумом. Различие между «молчаливым» насилием и «словоохотливым» террором ставит вопрос о его риторическом измерении. Другими словами, речь идет о том, чтобы зафиксировать не столько террориста-«практика», сколько тот оператор, что производит трансмиссию терроризма в социальном теле. «Конец социальности», проявляющийся в провале всяких попыток замкнуть ее в те или иные дискурсивные рамки, невозможность ее репрезентации в терминах социально-исторических или политологических дисциплин знаменует собой и конец «традиционной» тематизации негосударственного террора, который понимался как форма политического волеизъявления нелегитимных социальных групп, отсеченных от нормативных практик делегации. Каждая террористическая практика предполагает определенный «идеальный тип», который не столько ее формирует, сколько выступает как условие возможности ее коллективного понимания. Историческая модификация практик террора предполагает и модификацию их человеческого носителя (не столько, повторюсь, террориста-«практика», сколько той фигуры, которая позволяет сообществу описать террор в том или ином дискурсе и тем самым освоить). Скажем, для террора французской революции таким концептуальным персонажем выступает либертен (и его alter ego – моралист), доводящий до логического завершения демарш «естественности» (естественного права, естественного света и т. д.), для русской революции и революционного террора – авангардный художник, синтезировавший единый политически-эстетический проект переустройства мира.
Terra terrorum
Можно сказать, что и постсовременные манифестации террора также имеют своего концептуального персонажа. ЭТО – масс-медиальный шаман, пустая форма медиа-опе-ратора, распределяющего насилие по социальному телу и формирующего экзистенциал «аудитории» – симулятив-ную форму сообщества. «Что-то случилось», отыграл реквием по спиритуальному спецназу «левых», оставив лишь социологически гнусное тело тотального пофигизма «молчаливого большинства». Одновременно инертное и сверхпроницаемое образование («черный ящик невостребованной референциальности»), в которое проваливается социальность. Массы всасывают всю энергию политического, не предоставляя ничего взамен, «социальное электричество» поглощается ими безвозвратно. Эффектом масс-ме-диальной эвокации «молчащих масс» выступают «свободные радикалы» («свободные» в структурном смысле нефункционального остатка), активность которых расположена вне и по ту сторону возможного диалектического («революционного») снятия или либеральной «гуманизации». Прятаться – поздно, не прятаться – поздно.
Терроризм следует рассмотреть как один из эффектов системы (формации), наряду, например, с элиминацией раз-чичия между массовой культурой и китчем, точнее – оккупацией этим различием каждого культурного знака, его де-генерализацией. По принципу: когда все стало сексом, сам секс растворился и куда-то исчез. В этом же ряду и смерть фантазма о преодолении отчуждения (как, впрочем, и самого отчуждения). Поэтому прав Гройс, проводя различие между модернистским тоталитаризмом и постмодернистским фундаментализмом, если модернистский проект политизирует базовое различие (расовое или классовое), то фундаментализм должен впервые это различие учредить.
Отсюда и различие в тактиках вместо глобальной Универсальной власти возникает стремление к альянсу
84
Беседа 4
между локальным фундаментализмом и глобальным плюрализмом. Эта культурная матрица генерирует и различия террористических манифестаций, и следует признать, что линейная генеалогия терроризма скорее запутывает ситуацию, чем позволяет ее прояснить: сравнение современных террористических групп (да и где они? Естественнее предположить, что «Хезболлах», «Алькайда», да и сам Бен Ладен существуют только в модусе медийной фикции, по принципу «войны в заливе не было») с «Народной волей»... да даже и с «Красными бригадами», «ФКА» или группой Баадер-Майнхофф, означает полную потерю самоотчета в стратегиях генерации терроризма современным социальным телом. Прав Фуко: бессмысленно сравнивать средневековую казнь и новоевропейскую тюрьму, редуцируя их к абстрактному источнику власти. Так и тут, просто в случае с терроризмом происходит не менее абстрактная редукция к протесту нелегитимных (в этническом, экономическом или религиозном отношении) социальных групп.
Терроризм, как это пытались показать Ги Дебор или Жан Бодрийяр, есть прежде всего зрелище. Используя ситуационистские концепты, можно говорить о стратегиях сосредоточенной и рассредоточенной театрализации. Если первая – относимая обычно к «тоталитарным» сообществам – собирается вокруг «центральной клетки» (например, мифологической драматизации «тысячелетнего Рейха»), то вторая функционирует на микроуровне социального тела, воспроизводя различие между насилием hard и насилием soft. Тотальной созерцательности (зрелищно-сти) мира сопутствует радикальное купирование действия. Недавние события в Москве, связанные с захватом мюзикла «Норд-Ост», примечательны в том отношении, что они обнаруживают взаимное притяжение терроризма и современного искусства, присутствие которых в социальном теле равным образом задано мерой их позиционированности в
85
Terra terrorum
масс-медиальных ландшафтах. Рассматривая, по аналогии с Бурдье, эти культурные территории в терминах поля, остается констатировать их совершенную идентичность.
Терроризм необходимо включает в себя два на первый взгляд противоречивых момента: он одновременно медий-ный аттракцион, стимулирующий воспроизведение системы (формации), и ее мертвая точка (тема «свободных радикалов»). Терроризм балансирует между этими моментами, будучи настолько же вызовом эквивалентной логике, насколько и ее возвышенным апофеозом. Один из знаков апокалипсиса взрывных сообществ (наряду, например, с кло-нированием – этим финальным аккордом эквивалентного обмена), необходимое следствие и случайная катастрофа дигитальной культуры. Гипертрофия различий в мульти-культурализме привела к радикальному уничтожению «градуса» со всеми возможными последствиями, как их описывает Жирар в своей книге о Шекспире и в «Насилии и священном». Однако насилие жертвенного кризиса, возникающее в результате устранения различий, кажется не единственным возможным эффектом. Симулированные различия оказываются саморазрушительным процессом, что мы и видим на примере терроризма. Подобный ход в чем-то близок структурной аналитике, которая уже не пытается гипостазировать некоторое измерение (экономическое или ли-бидинальное) в качестве инфраструктуры. Грубо говоря, нет смысла спрашивать, что первично – стоимость или фаллос. Мы присутствуем при эскалации системы (формации) всеобщего эквивалента, одним из порождений которой оказываются вирулентные «свободные радикалы». Диалектика замещается эквивалентной логикой клонирования, оборачивающейся своим собственным катастрофизмом.
Еще одно замечание, которое хочется сделать, возможно, и не слишком связано формально с темой террора. Это конец эры другого Не секрет, что другой исчезает с
86
Беседа 4
горизонта мысли. Может быть, не столь помпезно, но, видимо, настолько же неотвратимо, насколько – еще совсем недавно – с него исчезал субъект. Приходится еще раз «утирать слезы». Современные теории, причем совершенно по разным основаниям, «сливают» другого. И это хорошо. Одним из следствий этого процесса стал и закат дискуссий о мультикультурализме. «Неправильные пчелы», о которых любит говорить Александр, ставят нас лицом к лицу с радикальным отличием, одним из блокираторов которого выступала именно безудержная тематизация другого и его права на различие. Причем нужно иметь в виду, что речь не идет об отличии от нас китайца, араба или инопланетянина, но об отличии нас от самих себя.
Современная культура настойчиво пытается имитировать другого: в моде, искусстве, политике,сексе. Но как только мы начинаем воспроизводить некий феномен, его всегда уже нет фактически. В этом плане есть основания предполагать, что настойчивая тематизация другого инициирована его реальным исчезновением. Мы находимся в ситуации, когда со сцены уходит другой. Поэтому и терроризм менее всего выступает манифестацией другого – классового или религиозного, – будучи имманентным катастрофизмом нашего «интерактивного сводничества».
«Страны-изгои» – трансполитическая маска другого – находятся не снаружи, а внутри мировых гегемонов как место отсутствия, как их нефункциональные вирулентные остатки. «Внутренний Ирак» или «внутренняя Корея». Медиа-шаман, как и его архаический прототип, производит возвратную сборку «страны-изгоя» как жертвы отпущения, которая, однако (и в этом отличие архаической и медийной боли), уже не вызывает жертвенной центро-стремительности сообщества. Его замещает чистая психоделия зрелища. Итак, приходится констатировать почти полную исчерпанность такого экзистенциального и социаль-
87
Terra terrorum
ного ресурса, как другой. Подобно гибнущим месторождениям, поддержание символической ликвидности другого затребует больше символического капитала, нежели производит. Другой становится очередной фантазматической1 референцией, какой еще недавно была эмансипация (желания/производства и его субституций: женщин, негров, гомосексуалистов, инвалидов, животных...). Вот так. Мягкое насилие, общество без боли, стерильные отношения, диктат доброй воли... Двигаться прямо в отчаянное забытье – безопасность. Наша интрига состоит в том, что терроризм – это никакой не голос другого, который может быть в этой его эффективности выслушан. Если «другое» в террористическом акте способно нести какой-либо урок, то это лишь урок его собственного отсутствия. Не «содержание» террористического «сообщения» подвергается масс-медиальным трансформациям: форма социального эксцесса задана спектакулярной формой сборки социального тела. Терроризм – это путешествие по «заданной карте значений», и его мир (как и мир постсовременного «туризма») оказывается полностью аутичным.
Д. О.: Когда мы воображаем себе картографию террора, пытаясь набрасывать контуры его территории, то мы, как мне кажется, упускаем из виду, что всякая территориальность оказывается эпифеноменом производимого террористами акта. Существует простой и часто задаваемый вопрос: чем являлся бы террор без средств массовой информации? Имеет ли вообще терроризм какую-либо территорию, за исключением той, которую уделяет ему информационное поле, – а внутри себя оно отводит территорию в высшей степени привилегированную, являющуюся местом наибольшего резонанса и усиления первоначального эффекта? Другая сторона этого вопроса: почему именно террорист оказывается самым успешным взломщиком ко-
88
Беседа 4
дов доступа в ячейки и каналы масс-медиа, почему он так легко и просто становится господствующим персонажем информационного поля, захватывающим и поглощающим его чуть ли ни целиком? Я полагаю, что терроризм в том виде, в каком он существует в наше время, – есть эхо-эффект самой информационной среды, мгновенно распространяющийся вирус, с помощью которого эта среда проникает во все новые и новые слои бытия, заражает их виртуальностью и оплетает имманентной поверхностью тотальной коммуникации.
Терроризм – вброс антивещества, производящий расширение черных дыр на месте человекоразмерного сущего и обеспечивающий эфемерную тотальность информации. Нет более безошибочного способа, с помощью которого можно было бы столь же незаметно виртуализиро-вагь мир для нашего собственного взора, обращенного уже не к естественному горизонту вещей и событий, а к искусственной, слабо мерцающей горизонтали телекоммуникационных экранов. Можно рассуждать приблизительно следующим образом: как замечательно, что я в любой момент могу получать самую свежую информацию – следить за развитием экономического кризиса в Латинской Америке, наблюдать за разгулом стихии на Дальнем Востоке, чуть ли не в прямом эфире видеть падение самолета, узнать температуру в городе Париже... Это ли не подлинная свобода, это ли не воплощенная мечта о всеведении? Однако подобная хитроумная уловка срабатывает и держит нас в зачарованное! и лишь до определенного момента – пока мы не почувствуем, что этот мерцающий экран, это святилище анонимного бога никого просто так не отпускает, что никакой свободы нет и в помине, что оно и его жрецы терроризированы изнутри самих себя. И здесь мы понимаем – гипердостоверность, с которой сопрягается наше восприятие картинок с экрана, уже больше не освещается
89
Terra terrorum
естественным светом разума или общим чувством, она светится изнутри каким-то странноватым чуждым мерцанием, рассеянным свечением, в котором произведенные вещи и произошедшие события обретают призрачные обличья, утрачивая свое подлинное измерение. Террорист в этом отношении наиболее последовательно лишает нас достоверности, укорененной в разуме и в чувствах, он доводит мир не просто до абсурда, но до полной и необратимой потери смысла.
Т. Г.: Со времен Просвещения человечество живет под лозунгом «ничего нет запретного, запрещено запрещать». С отсутствием табу и запретов человечество так и не смогло справиться. Террористы наносят удар по самой этой невозможности человечества справиться с принципом «запрещать запрещено». Оно уподобилось детям, которые вдруг решили стать взрослыми, но не доросли до взрослости Об этом писали Кант и Фуко Это хитрые дети, опирающиеся исключительно на хитрость разума. Террористы чувствуют их слабые места и бьют в те точки, где люди беззащитны, но претендуют на абсолютную власть. Вирильо в одной книжке рассказывает, как одна его знакомая искусствовед приехала в Аушвиц, где она увидела кости, волосы и золотые зубы замученных людей, и решила, что это музей современного искусства. Мы живем в особенный момент, когда инфантильность, поднявшаяся до уровня гигантомании, должна быть разрушена самым непосредственным способом Собственно, это и делают исламисты Я, разумеется, против всякого насилия, однако следует признать, что непосредственность, с которой действуют террористы, это настоящая непосредственность Непосредственность, с которой действует телефон, поддельна Чем меньше мы имеем сказать, тем больше пользуемся техническими опосредующими сред-
Беседа 4
90
ствами, Интернетом, сотовым телефоном и т д Террористы действуют по законам онтологической непосредственности, которую пора уже попытаться осмыслить Они напугали весь мир и вызвали ответную реакцию Какова она. Мы видим глупую, опосредованную реакцию на прямую непосредственность, тщетные попытки защититься простым усилением барьеров Другой реакции и быть не может, ибо собственная жизнь исчезла Умер Бог, умер великий Пан, умер человек, который все время моргает, последний человек по Ницше, и каждую из этих смертей по-своему воспроизводит террорист
Н И Любопытно, что терроризм плоть от плоти и кровь от крови самого глобализма На что является откликом террор? На безудержный, тотальный террор глобализма – на то, что на самом деле глобализм не имеет разумной альтернативы Как бы мы его ни клеймили, какие бы фундаментальные иррациональности и бездарные пустые мифы ни обнаруживали в его основании, тем самым мы его никак не поколеблем Он будет работать и работать, будет переть, как танк, с которым ничего не сделаешь, разве что ляжешь под него Но верно и обратное Ведь террор внутри себя глобалистичен Нет другого такого поля, в котором бы сошлись все идеологии, все мифологии, все жизненные установки, устои и символы веры В группе террористов вы найдете вовсе не только арабов или интеллектуалов из Сорбонны, – там встречается кто угодно, потому как там действительно есть принцип Эгот принцип, если его называть принципом непосредственности имеет, в частности, следующую отрицательную величину ты должен отречься от своих отцов и матерей, неважно, откуда ты пришел, христианин ты, мусульманин или иудей Террористов почему-то часто причисляют к какой-либо конфессии, не понимая, чго им дела до этою не слишком много и бьются они совсем за другое
91
Terra terrorum
Если терроризм и глобализм плоть от плоти друг друга и если хотя бы одному из них – как будто глобализму – нет разумной альтернативы, то логически получается, что нам следует то же самое признать за терроризмом Я полагаю, тут все дело в «Зевсе», то есть в разуме, раздающем собственные атрибуты без должного честного разбора Он еще боится своей судьбы, почему и ведет войска в Югославию, в Афганистан, совершает акты возмездия, – он знает, что иначе может быть идентифицирован и – как файл, возомнивший о себе лишнее, – уничтожен Выход из этой ситуации виртуального абсурда следует, по-видимому, искать не в совершенствовании когнитивных стратегий социальной идентификации, фискальных и косметических по преимуществу, а, говоря языком экономистов, в переструк-турализации герменевтического опыта, демистифициру-ющей социокультурную разницу потенциалов между его предметным и смысловым содержанием, – в том, элемен тарно говоря, чтобы подумать наконец, как мы будем отдавать сущему долги – драгоценные анаксимандровские «пени», а не бесконечные кантовские «талеры», которых, как известно, к тому же никогда ни у кого не было У нас в распоряжении – единственно мы сами, под видом тяжбы глобализма с терроризмом разыгрывающие перформа-тивный акт возмездия судьбы над собственным трансцендентальным существом








