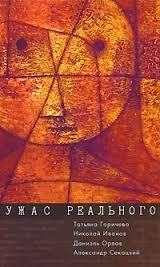
Текст книги "Ужас реального"
Автор книги: Николай Иванов
Соавторы: Александр Секацкий,Даниэль Орлов,Татьяна Горичева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
А С Тезис об особой территориальности террора Дает нам возможность провести различие между собственно террором как стихией аннигиляции хороших форм, стирающей четкую распечатку эйдосов, и терроризмом как неким вторичным подражанием, когда хаос заполняет опустевшие ячейки организованной социальности, принимая, тем самым, вид целесообразной деятельности Сейчас все политики говорят о разветвленной сети международного
92
Беседа 4
терроризма, о прекрасно налаженной инфраструктуре, позволяющей решать любые финансовые и визовые проблемы, и в этом есть некая доля истины, – но есть и желание во что бы то ни стало иметь дело с четко идентифицированным противником, которого можно было бы запеленговать и нанести точечный удар. А попытка выдать желаемое за действительное лежит в основе слишком человеческого. Николай Грякалов справедливо обратил внимание на интернациональный состав любого террористического движения, прекрасно сочетающийся с «принципиальностью» поставленных задач. Здесь характерна фигура Ильича Рамиреса Санчеса, небезызвестного Шакала, ко-торый с легкостью переходил от одной враждующей организации к другой, не теряя своей принципиальности. Среда террора лишена жестких перегородок именно потому, что дискретность терроризма носит заимствованный характер. Подобно всякому вирусу, вирус террора лишен соб-, ственного ДНК, он обретает свою телесность, внося искажения в инструкции организма-хозяина – инфицированного социального тела. Вот почему террор как таковой не распадается на дискретные террористические акты, он подступает стихийно как зыбление незыблемого. Страх обывателя – такая же манифестация террора, как и взорванный дом или захваченный самолет. Бытовое выражение «он меня затерроризировал» очень точно отражает суть дела. Это в нашем случае означает, что границы субъект-ности подверглись разрыву и размыву – и вот уже мы живем под собою, не чуя страны...
БЕСЕДА 5
РЕАЛЬНОГО
(с участием Марины Михайловой и Александра Погребняка)
Д. О.: Существуют вещи, сопротивляющиеся опре
деленности представления, налагаемого на них здравым
рассудком. Дабы они обнаружили свою подлинную приро
ду, их следует оставить на кромке ночи и наблюдать, как
сгущаются и расцветают их причудливые тени. Тот, кто
неосмотрительно стремится поместить их в предметное
поле, попадает в нелепое положение, – у него практичес
ки нет шансов не взять фальшивую ноту либо не перебрать
пафоса. Безусловно, к таким вещам относится и ужас ре
ального, обозначающий самое крайнее в ряду возможнос
тей нашего экзистенциального опыта, и даже не столько
крайнее, сколько заокраинное. То, что, выражаясь в духе
Хайдеггера, перекрывает вершины всякой завершенности
и пересекает границы всякой ограниченности. Форма вы
ражения, сколь бы удачной она ни выглядела, оставляет
суть дела невысказанной – под покровом, – и чем форма
выражения более удачна, тем плотнее и непроницаемее
ткань этого покрова. Ткань, которую в своей исходной эти
мологии обозначает латинское слово «textus».
94
Беседа 5
Рассуждая об ужасе реального, мы пытаемся удержать в собственных руках и связать воедино нити, разорванные в клочья самим выступающим существом ужаса, сущност-но характеризующим реальность. Связность отходит в об-
ласть иллюзорности или, вернее, самообмана, в который ввергается пародирующий себя трансцендентальный субъ-
ект, – этот идеальный манекен, оживающий в исключительные моменты ясного и достоверного сознания. Такое существо не обладает неповторимым лицом, во всяком случае до тех пор, пока не испытало подспудно подступающего изнутри всеохватывающего ужаса. Чтобы пережить заокра-инный опыт, вовсе не нужно уходить за край самой далекой дали, по ту сторону которого мир, знакомый нам исходя из его представленности в качестве внешней данности, разомкнет свои тугие кольца. Кольца, смыкаясь в которые он обнаруживает себя в форме представления, а сомкнувшись окончательно превращается в картину мира.
Перешагнуть горизонт можно, обернув даль глубиной и посмотревшись в ночь, о которой как о хранительнице говорит Гегель «В фантасмагорических представлениях – кругом ночь, то появляется вдруг окровавленная голова, то какая-то белая фигура, которые так же внезапно исчезают. Эта ночь видна, если заглянуть человеку в глаза – в глубь ночи, которая становится страшной; навстречу тебе нависает мировая ночь»1. Нам прекрасно знаком обратный расклад – когда мы созерцаем вещи, удерживая их перед собой на некотором отдалении в форме предметности и конституируя их в поле сознания. Этот расклад освещен изнутри естественным светом разума и представляет собой, очевидно, день мира. А что произойдет, если некое сущее, которое пробуждено к существованию, к своим дням брошен-
Гегель Г В Ф Работы разных лет В 2 т Т 1 М , 1970
реального
95
ным на него взглядом, каким-то невообразимым образом вдруг увидит сам этот взгляд, более того, обратит его внутрь его самого? Пусть даже таким сущим оказываюсь я сам в тот момент, когда вглядываюсь в глаза небезразличного мне человека. В смысле Гегеля раскрывшиеся горизонты мира схлопнутся в пустую точку чистой самости Но остается неясным, почему ночь мира страшна и зачем Гегель особо заостряет на этом слове внимание? Проблема в том, что когда я – как конечное существо – вдруг проваливаюсь в ночь мира – как в исток своей конечности, – я будто бы невзначай заглядываю в глаза собственной смерти. И именно здесь обретаю позицию Господина, ибо лишь тот, кто способен посмотреть в лицо своей смерти, по-настоящему свободен. Совершенно прав Александр Кожев, утверждавший, что для Гегеля смерть есть лишь одна из составляющих свободы. Если мне как некой «большой вещи» («Groz dine» в терминологии немецких мистиков) удается хотя бы на мгновение обернуть конституирующий меня всевидящий взгляд в него самого, отменив тем самым определенность собственной формы бытия и приостановив работу негатив-ности, то я лишаюсь всех прочных основ, оказываюсь в ситуации онтологического ужаса. Но эта ситуация абсолютно необходима для того, чтобы человек в полной мере обрел свое присутствие, подлинность и судьбу.
В гегелевском понимании ночь мира тождественна пустому ничто, являющемуся первым определением человека, даваемым еще до какой бы то ни было определенности В том числе до определенности сменяющего бездонную ночь солнечного дня, в котором вещи принимают привычный облик, и ты видишь, что окровавленная голова является всего-навсего причудливо расцвеченной тенью, отброшенной стоящим на столе бюстом Гегеля. Мир тут же облачается в узнаваемые формы – обретает прямую перспективу, необходимую для взгляда, линию горизонта,
96
Беседа 5
разделяющую небо и землю; стороны света, дающие направления. Однако если завернуть все эти широко раскинувшиеся дали внутрь человеческой души, сущее вновь погрузится в ночь мира, в которой царит исконный мифологический ужас. Именно настоятельная реальность этого ужаса, этой на мгновение возникающей окровавленной головы впервые конституирует некое сущее, к примеру, бюст Гегеля, а вовсе не наоборот
У Хайдеггера существует любопытное высказывание, напрямую касающееся нашей темы. Оно гласит: ужас размыкает мир как мир. Я подумал, от чего защищают и хранят нас душные коридоры наших внешних забот, обязанностей, представлений и самообольщения, почему мы с таким упорством всю жизнь ходим одними и теми же кругами? Быть может, просто из боязни, что если действительно решимся заглянуть в себя, нас сразу накроет «светлая ночь наводящего ужас Ничто», по выражению Хайдеггера. Другими словами, наше обычное существование предстает как своеобразная форма малодушия. Я подозреваю, что в этой догадке есть правда, но не вся. Ведь ужас в таком случае оказывается имманентен порядку душевной жизни, делается одним из ее проявлений. Получается, что рассуждать об ужасе – это то же самое, что и вести речь о ком-то, испытывающем состояние ужаса. Однако ничто сущее, строго говоря, не способно повергнуть в ужас, только – само Ничто. Различные вещи при известной неточности высказывания могут быть названы «ужасными», а переживание этих вещей – «ужасными» переживаниями. Но здесь на самом деле проявляется едва заметная инфляция понятия, которая на другом своем конце имеет выражения типа «ужасно красивая». Я бы сказал, что у ужаса, особенно в специфическом смысле Хайдеггера, совсем не ужасная, т е. не вызывающая ужас, природа Мир размыкается, он перестает быть миром как тотальностью всего не-
реального
97
посредственно существующего, но одновременно обнаруживает принципиально иное и до того скрытое, – он обнаруживает возможность собственного смысла.
Если ты нашел смысл хотя бы одной вещи, это поистине ужасная находка. Я бы добавил – и реальная также. Для знающих ей цену она перевешивает самые блестящие и притягательные сокровища мира. Демокрит прекрасно знал, о чем говорил, когда соглашался предпочесть ее персидскому трону. Он решал вовсе не шуточную задачку – как вырваться из круговой поруки, определяющей отношения между различными сущими? Да и можно ли прервать реактивные ряды причинности, не размыкая мира? Его кольца прочно спаяны в единую неразрывную цепь, в жесткую взаимообусловленность пассивных толчков, идущих от одного следствия к другому. Повседневное человеческое существование устроено именно таким образом – мы кружимся целыми днями по очень ограниченному числу орбит, где можем реализовывать какие-то жизненные проекты, что-то изменять в окружающей действительности, с нами могут случаться различные вещи, однако все это входит в допустимую погрешность работы анонимной машины производства мира для нас. Мы не являемся причиной собственных действий, то есть не поступаем свободно, поскольку любое наше действие реактивно, заранее задействовано в наличном порядке вещей и ему подчинено.
Но повседневность не исчерпывает весь горизонт нашего возможного опыта, она лишь задает его низшую планку. В смысле Ницше это порядок, в котором господствует ressentiment, – имплозивное поглощение иерархических различий, нейтрализация силы сильных слабостью слабых, моральный террор и разъедающее душу чувство вины. Мы можем лишь догадываться, последствиями чего они являются – первородного греха, падения, заброшенности,– но достаточно уже одного того, что именно как последова-
98
Беседа 5
тельности последствий они и структурируют облик повседневности. Ужас в принципе не из этого ряда. Подступая изнутри глубочайшей ночи мира и нанося раны своим беспощадным клинком, он разбивает вдребезги зеркала нашего самообольщения, оставляя мелкие осколки, в которых внезапно возникают и окровавленная голова, и белая фигура, и призрак отца... Что это вообще за странные частичные объекты, которые отнесены в некое зияние и должны оставаться отсутствующими, дабы могла устояться каждодневная обыденность? Есть ли это забвение, которого требует наша душа, или, напротив, внезапное опамятование, никогда не доходящее до завершенности? Сумерки бытия сгущаются пепельными тенями на кромках строго выстроенной предметности, безвидные и безымянные призраки приближаются вплотную и незримо проходят сквозь нас. Вот здесь, в точке наивысшей неопределенности, негарантированности и непод-твержденности человеческого существования, впервые обретается известная ясность, просветляется мировая ночь. Реальный до ужаса смысл нашего бытия не в мире, а где-то между мирами, не в очерченном бытии, а в смещении и становлении, не в обустройстве домашнего, а в беспочвенном странничестве. Следует оговориться: речь вовсе не идет о том, что наконец довелось добраться до истины, удалось лишь вывернуть наизнанку покров майи и взглянуть на вещи с обратной его стороны – не с той стороны, которой он убаюкивает и вселяет успокоение, а со стороны Ничто, обнаруживающей и собственное наше жизненное присутствие как «выдвинутость в Ничто».
А. С.: Я тоже оттолкнусь от интуиции Хайдеггера, обозначенной Даниэлем, но при этом отдельно остановлюсь на мотиве бесприютности. Что означает для Хайдеггера понятие брошенности и в целом вся ситуация бытия-к-смер-ти? Как мне представляется, здесь наиболее существен-
99
Ужас реального
ным мотивом является то, что ужас конституирует саму реальность, по крайней мере, реальность человеческого типа, Dasetn, аутентичность бытия от первого лица. Бес-предпосылочный ужас обнаруживается в той же самой точке, где обретается достоверность Я: нет его, нет и меня. А есть, скажем, вполне благополучное анонимное существование, обладающее физической экземплярностью, но? лишенное экзистенциальной и психологической обособленности. Мы возвращаемся к мысли, высказанной Гегелем и даже еще Декартом, которая в формулировке Гегеля гласит: если сознание не испытало настоящего ужаса, полно-; ты неудержимого трепета, а испытало только легкий ис–пуг, который не проник до самых глубин, то о разумной самости говорить еще нет никаких оснований. Именно этот трепет, пронизывающий нас до глубины души, конституирует реальность Я-присутствия. Нет никаких гарантий свыше, и поэтому я есть сам по себе и поэтому вообще Я есть.' По сути дела, у Декарта мы обнаруживаем то же самое. В его размышлениях предельным моментом концентрации Я-присутствия оказывается состояние ужаса в том смысле, что Господь, возможно, нас обманывает. Обманывает в отношении реальности реального, воображаемости воображаемого, не говоря уже о разовых пробах чувственности. Это точка, в которой возникает худшее положение из всех возможных. Но этот булавочный укол ужаса, пронизывающий нас насквозь, и является основанием второго рождения – вспышки автономизированной духовной искры, всегда уже после утраты своей далекой родины. Ведь обманывают все-таки меня (тут нет никаких сомнений), и значит, я первично дан себе в акте возможного чудовищного обмана. Субъект порожден множеством причин, но феноменологически я создан в тот момент, когда обманут. Обманут в своих глубочайших чаяниях, в наивной уверенности, причем именно возможно обманут, ибо будь я точно уверен, я бы
100
Беседа 5
не испытывал ужаса, а испытывал бы что-нибудь другое. В дальнейшем реальность дает о себе знать через неистребимое понимание собственной смертности, того, что я когда-нибудь умру (тут и первый ужас подростка, однажды испытавшего это состояние, и возвращающийся в течение всей нашей жизни тот самый булавочный укол – в больное место, чтобы не заживала рана я-присутствия).
Вот переживание, которое всякий раз приводит нас в чувство. Разумеется, не в какое-то определенное чувство, а в чувства вообще, в смысле человеческой чувственности, когда мы начинаем осознавать какие-то вещи, скажем, «Зачем же я гублю свою жизнь?» или «Что я здесь делаю?». Будучи приведены в чувства, мы все время возвращаемся к этой высокой реальности нашего бытия. Как мне кажется, Кожев совершенно справедливо интерпретировал Гегеля, отмечая, что именно сознание неминуемой смертности человеческого существа и делает его способным на нечто большее, чем бытие-к-смерти. Ибо Господь может принять лишь того, кто испытал ощущение собственной смертности. Даже если он его не преодолел, то хотя бы испытал. Иначе просто не хватает мерности для того, чтобы быть человеком, для конституирования человеческой реальности. Неизменное приведение нас в чувства через ощущение ужаса действительно является основополагающим актом реальности.
Однако я полагаю, что это лишь одна ипостась присутствия ужаса в структуре реальности как таковой Вторая ипостась возникает подспудно и связана с принципиальной неименуемостью, быть может, основных для нас вещей. Я имею в виду то, о чем говорили еще неокантианцы, насколько нам легко, когда мы выступаем от чьего-то имени, от некоего символически обозначенного или определенного рубежа Например, когда мы говорим, будучи философами, чиновниками, покупателями, продавцами, клиентами и т. д. А вот если мы лишены символического рубежа, тогда мы мгновенно стал-
реального
101
киваемся с неименуемостью, потому что обнаруживается, что самое подлинное чувство невозможно назвать. Либо же, если мы все-таки подберем слово, оно неизбежно будет выглядеть банальным, даже мы сами не опознаем в нем себя. Кроме того, попытка человека сойти с символического рубежа и обратиться к своей подлинности чревата сильнейшим внутренним испытанием, ибо внезапно может выясниться, что ты не удостоен не только персональной благодати, но даже персонального гневного взгляда свыше, оставаясь всего лишь разменной гирькой на чьих-то весах.
С чем мы здесь имеем дело? Тенденция к соскальзыванию в «тоху-ва-боху», в нерасчлененность и невразумительность мира, всегда сохраняющаяся в реальном, – вот где коренится вторая ипостась вечно подступающего ужаса. Сколь бы совершенно мы ни обрабатывали реальность символическим, но никакие категории символического не достают до глубин шевелящейся глины, того, что не прошло и в принципе не может пройти обработку. Допустим, есть бык и тореадор, и понятно, что кто-то из них, скорее всего бык, но может быть и тореадор, должен погибнуть. Но ведь точно так же есть и случайные люди, туристы, которые вышли на улицы Севильи в тот момент, когда по улицам гнали быков, и мы легко можем представить, что кто-то из них погибает, хотя такая смерть заведомо ниже по рангу «хорошо символизированной» гибели быка или тореадора. С подобными вещами мы сталкиваемся постоянно. Если первую ипостась ужаса можно назвать булавочным уколом, то теперь речь идет о неустранимой нотке Фусти. Как говорит поэт «печаль печальнее меня, она меня печалит» (Л. Тихомирова). Мы всегда отдаем себя на милость того обстоятельства, что и быком и тореадором становимся не по собственной воле. И не тогда, когда готовы. Ужас оказаться случайным прохожим в Севилье столь же неизбывен, как и напоминание о собственной смертности
102
Беседа 5
И наконец, есть еще третий горизонт, третья ипостась ужасного, которая, по-видимому, связана с тем, что подра-зумевал Поль Валери, когда говорил, что природа – это «сплошное и безжалостное и т. д.». Зададимся вопросом: что для человека означает это «и т. д.», это нескончаемое перечисление или то, что Фрейд называл повторением, которое носит характер демонического, когда оно выходит за пределы принципа наслаждения? Можно вообразить этот демонический характер повторения, когда за одним листиком следует другой листочек, за одним шагом – другой шаг, за одним днем – другой день, и все они действительно бесконечно повторяются. Именно в силу повторяемости ослабевают уколы булавочки смертельного ужаса и немного приглушается нотка печали, но когда это происходит, тогда-то и возникает самый зловещий мотив – мотив домашних тапочек. Монотонно повторяющийся мотив домашних тапочек, которые мы надеваем каждый день, или чашки с отбитой ручкой, из которой привыкли пить чай, и есть, может быть, максимальная очевидность ужасного. Потому что, какие бы разовые ставки мы ни делали, дискретность самих исходов неизбежно утрачивается, в силу чего мы сталкиваемся с неподлинностью возобновляемого выбора и приходим к пониманию того, что мотив инерции, в которой реальность себя утверждает, оказывается гораздо более сильным, чем любые позывные эроса и танатоса. Фрейд признает это положение вещей в своей работе «Jenseits des Lustprinzips». Мотив инерции будней является самым могучим стимулом, поддерживающим и скрепляющим повседневность. И действительно, если представить себе, о чем могли петь сирены, то, конечно, пели они не о дальних странствиях, а напевали мотив домашних тапочек: ты снова их наденешь, и снова тебя окликнет отец, и то-то и то-то с тобой случится, как случалось уже бесчисленное количество раз. Третья ипостась ужаса едва ли устранима,
103
Ужас реального
ибо она глубочайшим образом поддерживает и конституирует саму реальность реального
Я. И Раз уж все мы начинаем с Хайдеггера, так же поступлю и я. Если не судить предвзято, он едва ли подписался бы под тем, что в составе сущего можно обнаружить что-либо «ужасное по преимуществу» – в лице, скажем, бытия-к-смерти, или заброшенности, или рутинной повседневности, или das Man, и так далее вплоть до «и т. д.». Правда Хайдеггера состоит в том, что это «преимущество» экзистенциально: любая вещь, входя в контекст вопроша-ния Dasein о смысле самого себя, исполняет бытие-в-мире потенциалом ужаса, – своей «подручностью» затягивает человека в самозабвенную безостановочную пляску, которая, возможно, освобождает ему «руки», но зато отрывает у его судьбы, перст (или, скажем так, «символическую функцию»). Онтологическая фора здесь дается лишь при игре в оптические прятки и психологические поддавки. Однако правда глубокой не бывает. Мне кажется, что на самом деле не только я ничего при этом глубокого не сказал о «террорософии» Хайдеггера, но и сам Хайдеггер со всей своей онтологической «фундаментальностью» оказался в достаточно двусмысленной ситуации, – вовсе не в той, которую искал, противопоставляя себя многовековой традиции европейской философии. В ужасности бытия и рассудок, и традиционная философия менее всего склонны видеть нечто относящееся к истине – равно онтологически и эпистемологически.
Онтологически ужас вообще ущербен. Во-первых, это некий отклик, а не зов, то есть нечто заведомо производное, вторичное. А во-вторых, и отклик-то на зов, субстанциально ничем не подтвержденный Что бы мы ни рассматривали в качестве мотива, источника, причины ужаса, охватывающего человеческую душу, в любом случае это
104
Беседа 5
будет нечто, с изъятием чего из состава сущего ничего не случится с самим миром. Космологические архетипы ужасающей реальности – образы разверзающихся неба и земли: разверзаясь, они сводят сущее на нет. Но именно поэтому, сами сведенные на нет, они ничем сущему не угрожают. Если мы оставим небо над головой и землю под ногами на месте, а изымем только их разрушение, «развер-зание», то ничего страшного и даже ничего особенного на свете не случится: все останется, как есть. Это то же самое, как и со всяким злом, со всякой ложью, пошлостью, «мерзостями запустения» и всеми подобными онтологически недостойными вещами, хотя их фактическая, оптическая неизбывность, понятно, от этого ничуть не умеряется. Итак, с одной стороны, очевидна онтологическая ущербность ужаса, его исконная вторичность и имманентная па-разитарность. С другой стороны, на поверхности лежит и его эпистемологическая ущербность, связанная с тем, что мы никак не можем приписать качество ужасного высшей ценности познания, то есть самой истине. Истина может быть чем угодно, но только не тем, что приведет познавшего ее субъекта к ужасу, потому как он вовсе не имеет права ни на что душевно определенное. Он поэтому и на восторг трансцендентального права не имеет, но как эмпирический, психологический субъект все-таки не может не восторгаться, ибо раскрывает истину, которая ему – тем самым – льстит, а другие вещи он и за истину-то не принимает. Это так же смешно, как и серьезно. Можно узнать истину, и содрогнуться. Но кто содрогается, тот не созерцает.
Ведь философия, в частности, родилась постольку, поскольку сразу отказалась смотреть в сторону банальности и даже пытаться найти в ужасе нечто, в чем светится истина. Представьте, если бы в качестве примеров, выводящих ум к эйдосу, Платон с Сократом брали бы не прекрасный горшок, прекрасную женщину и прекрасных богов, а
Ужас реального
105
ужасные горшки, ужасных женщин и ужасных богов? Причем я думаю, что кто-кто, а Сократ знал не понаслышке, что они такое. Тем не менее, он все-таки решил трактовать прекрасное как таковое, хотя формально-логически имел полное право рассуждать о противоположном. Как будто бы Хайдеггер противостоит этой многовековой традиции, уличив ее в комплексе онтологической неполноценности. Понятно, что именно XX век и та «каша», которая заваривалась в хайдеггеровские времена, в коих он наверняка принимал душевное участие, обнаружили в мире нечто такое, что Сократу и не снилось, когда он рассуждал о прекрасно-сти той каши, которую можно сварить в прекрасном горшке. Каша на этот раз получалась не то что невкусная и несъедобная, а действительно страшная – онтологически страшная, ужасная в смысле самого Хайдеггера.
Хайдеггер апеллирует к ужасу как к тому аутентичному состоянию, в котором человеку приоткрывается истина бытия, здесь человек впервые обретает опыт загля-дывания по ту сторону сущего. При этом Хайдеггер принимает настолько серьезную позу, настолько сбрасывает с себя простой человеческий облик, так мерно и уверенно начинает вещать, что игре его «глубинной мысли» невольно перестаешь верить. И это тихое «не верю» потом становится лишь тверже, когда начинаешь продумывать саму идею ужаса, действительно не самую любимую в истории метафизики, а философской этикой скорее заболтанную, чем поставленную. Ужас, по-видимому, имеет по меньшей мере три смысловых оттенка, три основных модуса: эмпирический, связанный с определенным душевным состоянием, к которому мы здесь, наверное, не слишком имеем право апеллировать; трансцендентальный, который испытывается тем самым «неправильным» трансцендентальным субъектом, который не имеет права испытывать ни ужас, ни восторг, а должен созерцать, но однако же и мириться с дис-
106
Беседа 5
циплинарными порядками умозрения не намеревается; и, наконец, экзистенциальный, подвешивающий над ноуменальной пропастью смыслы жизненного мира. Мне очень важно, что их по существу только три, поскольку это означает, что у ужаса нет онтологического обеспечения, не существует субстанциального ужаса, сущего в-себе-и-для-себя. Именно поэтому классическая философия, с ее страстью к предельным основаниям, так редко смотрела в эту сторону. Хотя, обращаясь вместе с Хайдеггером к экзистенциальному модусу ужаса, мы как будто бы возвращаем ему онтологический статус, ибо внезапно обнаруживаем в реальности забытые корни, восходящие к ужасу, который может объять экзистенцию хотя бы одного или даже – именно что единственного человека, и тем самым весь этот мир поставить под вопрос.
Все это так, если бы не одно «но». А именно: если бы не возможность для Хайдеггера сохранять невозмутимую мину и описывать как бы со стороны внеположного субъекта то, что творится в покинутой им платоновской пещере. Дело в том, что когда сущее на твоих глазах распускает свои нити, когда форма начинает расплываться и все уходит в песок, в том числе и сам песок (именно поэтому человеческую душу и объемлет ужас), то на самом деле этот процесс довольно трудно идентифицировать в качестве вызывающего ужас. Он способен вызывать ужас только в том случае, если ты по ту сторону экрана. В противном случае, если действительно рушится не что-либо, а сущее, сущее по преимуществу и в своем всеобщем смысле, то ты как его частица, пусть самая абсурдная, бездарная, непрошеная, должен разделять с ним этот процесс, И трещать, и пищать, и орать точно так же, как это делает то, что теряет свою форму Когда человек об этом пишет спокойно, вразумительно и по-своему доходчиво, это напоминает, скорее, посещение кинематографа, фильм ужасов, где, конеч-
107
Ужас реального
но культивируется и нагнетается состояние ужаса, однако единственно с тем, чтобы развлечь. Мне кажется очень точным выражением по отношению к стилистике Хайдег-гера понятие «национал-эстетизма» Лаку-Лабарта. Хайдег-геровское нагнетание ужаса выглядит мнимым и несколько театральным. Армагеддон срыт – рассыпался в песочницу. Хайдеггер мне напоминает в этом смысле не мистагога, не пророка типа Иоанна или Савонаролы, а Кису Воро-бьянинова, вместо Бендера стоящего при входе в курортную платоновскую пещеру и продающего в нее дешевые билеты. Между тем как его время (да и любое время) показывало, что онтологически вещи ценны вовсе не потому, что могут открыть или закрыть для нас «истину», а в той мере, в какой мы сами в ней оказываемся или не оказываемся, пребываем или не пребываем – можем взять на себя решение ее судьбы или нет. Вот в чем корень дела.
Как ни понимай ужас, ситуация проста. От нее не отгородиться. Когда горят небо и земля, тогда кровь стынет, – в этом состоянии очень трудно не «горячиться», трудно сохранить холодный разум. Хотя вся высокая философия, по преимуществу классическая, именно это и пыталась делать. Чего угодно, а ужаса насмотрелись все большие люди. Они потому и делали большую философию, что слишком ясно видели, как прикасается к ним эта самая реальность. Любопытно и важно, что ужасная реальность – это предмет исключительно внутреннего опыта. Даже если ты не востребован миром, сама эта невостребо-ванность должна тебя лично коснуться. Именно ты, а не кто-либо другой никому не нужен. Если нет личного безразличия мира, или Бога, или Сущего к тебе, то ситуация Ужаса и вовсе невозможна. А это безразличие неизбежно – в той мере, в какой смыслы бытия-в-мире придуманы не нами и все роли до нас сыграны и за нас поделены. Так что все, что мы на самом деле можем сделать, – это ска-
108
Беседа 5
зать бытию свое собственное слово Но где же оно – «собственное»? Никто не знает. Поэтому и сказать-то бытию нам обыкновенно нечего, и говорим мы вещи либо ужасные, либо банальные, то есть либо те, от которых горизонты рушатся (ибо ужас можно испытывать лишь перед лицом известной перспективы), либо такие, от которых уши вянут, но в обоих случаях – о которых можно было бы и помолчать. Причем ни того ни другого не ведаем, и того и другого боимся. Сделав свой как будто «выбор», мы покупаем или не покупаем билеты в платоновскую пещеру (которая находится, как известно, в оккупированном ту-зайн-ристами Пятигорске). Хотя на самом-то деле выбора у нас нет, потому что даже если мы не купим билет, то вернемся к себе – в другую платоновскую пещеру, которая может находиться хоть в Афинах, хоть на Марсе, а если сегодня там переучет, то в Питере она всегда открыта. Ужас как экзистенциальное состояние принадлежит самой сути вещей, потому что истина вовсе не обязательно лицеприятна, и эта сторона дела Хайдеггером очень жестко, однозначно и глубоко схвачена. Но с другой стороны, и бегать с ней как с писаной торбой смешно, учитывая мир в варианте Холокоста, а не Кисы Воробьянинова. Странным образом Хайдеггер, который должен был бы – ведь именно он должен был бы! – что-то путное сказать насчет мира, в котором сам оказался «брошенным», именно на этот счет смолчал. Вот уж предмет возможного опыта, а он взял и не «испытал» его, сделал для себя невозможным то, что для всех стало неизбежным.








