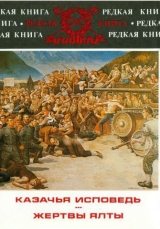
Текст книги "Казачья исповедь"
Автор книги: Николай Келин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
– Поздравляю, Семен Яковлевич. Высокое, так сказать, атаманское место занимаешь, в советские генералы вышел… Смотри, не обижай казаков. – Потом погладил свои пышные запорожские усы и спросил: – Ну, а как же теперь вот все будет?
Рожков, прищурясь и дожевывая капусту, метнул взгляд на деда Осипа и раздельно процедил:
– Вот усядемся покрепче, Иосиф Федорович, и… за вас примемся.
– Это как же понимать? – опешил дед, вставая.
– А вы сядьте… Так и понимать, как сказал – раскулачим… Довольно растягиваться-то… Все поставим на свои места…
– Да, да, крестный! – добавил, смеясь, Алешка Сазонов. – Приготовьтесь!
– Но послушайте – я же всю жизнь работал, как вол. С подпасков начал, своим горбом все нажил, – сокрушенно и заметно волнуясь, заговорил дед.
– Да там потом разберем, – успокоил Рожков, поднимаясь из-за стола. – Ну, мы едем! Дела много! – Потом, обращаясь ко мне, добавил: – Послушай, Николай! А из тебя мы сделаем комиссара.
Я растерялся, заговорил, что совершенно не разбираюсь в политике и даже не знаю программ партии, какой, мол, из меня комиссар.
– Будешь комиссаром по благоустройству станиц и хуторов. Тройка рванулась с места, и с тех пор Семена Рожкова я уже никогда не видел, и мое предполагаемое комиссарство повисло в воздухе. Бог знает, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, вполне возможно, что я не писал бы вот эти пестрые заметки, не вмешайся в события горячий реалист Володька Подольский. В неясных случаях французы говорят: «Ищите женщину». Так было и тогда.
Семен Рожков спутался с какой-то гимназисткой, за которой ухаживал Подольский. Володька явился к Рожкову и выстрелил ему прямо в лицо. Пуля прошла под глазом куда-то вглубь, по-видимому, не задев мозга, и его, полуживого, в бессознательном состоянии, отвезли в московскую клинику, а горячего Володьку посадили в местную тюрьму, где его вскоре, как рассказывали, растерзали буквально на куски…
Дед под впечатлением разговора с Рожковым, я заметил, стал задумчивым, часто уходил за сарай и смотрел на землю. Он был выбит из привычной колеи и, вероятно, не отдавал себе отчета в происходящем. Как-то, идя по заднему двору, он упал – потерял сознание. Это коротенькое происшествие тяжело подействовало на меня. Я боялся потерять человека, который мне заменял все и был моим высшим авторитетом. Я тревожно следил за ним. Он как-то начал тосковать, и часто я его видел под хмельком – хотел забыться.
К маю поползли по станице неясные и тревожные слухи. Ко мне время от времени заходили казаки – проведать, поговорить. Однажды зашли братья Ушаковы: рослый Егор и коренастый, плотно сбитый Анатолий. Ребята осторожно ощупывали меня со всех сторон, туманно намекали, что в округе неспокойно и пора бы уж сбивать мужиков, чтоб не путались в казачьи дела. Но, по правде сказать, мне хотелось только учиться, не хотелось ввязываться ни в какую авантюру. К тому же давала себя чувствовать недавняя контузия – то и дело болела голова, а по телу, все прибывая, шли, не давая покоя, фурункулы. Лечил и вскрывал их доктор Алфеев, сильно увлекшийся моей старшей сестрой.
Но я в своих расчетах ошибся. Повышенный интерес ко мне казаки проявляли потому, как выяснилось позже, что я был артиллерийским офицером. В Усть-Медведицком округе оказалось только три артиллериста: войсковой старшина Тарасов, наш казак; откуда-то попавший на Дон прапорщик Мохов да я. А что-то готовилось, что-то нависало в воздухе.
И вот совершенно неожиданно пришло то, чего я так боялся. Как-то утром ко мне зашел Егор Ушаков. Поздоровавшись, присел на край кровати, откашлялся и сказал:
– Ну, брат Николай, лежать нечего. Ты нам скоро будешь нужен. Скоро будем сбивать эту сволочь. Довольно, повластвовали… Это не для казаков! Скоро Усть-Медведицкому Совету вязы открутят, а мы отсюда должны помочь. У нас налажена связь с хуторами. Собираем отряды. Уж человек пятьдесят слово дали. Тут, в станице-то, власть жиденькая – один комиссаришка да пара казачишек из гольтяпы. Главное, центр – Усть-Медведицу – взять в руки. Но там у нас есаул Гордеев надежный. А Филипп Миронов перекинулся к красным – Дон предал, собака. В Усть-Хоперской у нас много пушек-трехдюймовок. Понимаешь, артиллеристы нам нужны, офицеры. А вас с гулькин нос – Тарасов, Мохов да вот ты… Пойдешь?
– Да ты погляди, Егор, в каком я состоянии. На коня не влезу, – начал было я, но Егор перебил:
– Да пока и не надо. А когда пойдем, то на арбе повезем. Подстелим сенца – оно и пойдет…
Вошел дед.
– Вы тут о чем, молодцы? – улыбаясь и ничего не подозревая, спросил он. Егор объяснил, подчеркнув, что вот, мол, артиллерийские офицеры нужны будут до зарезу.
– Так что же? – решительно сказал дед. – Разве можно от казаков отставать? Не пойдет он – пойду я! Говоришь, казаки на майдане шумят? Пойду!
И тут решилась моя судьба: мнение деда было для меня законом. Я по-прежнему никуда не ходил, ни в чем не принимал участия, но вот через несколько дней после разговора с Егором у нашего дома остановилась подвода и послышался чей-то молодой, звонкий голос:
По дорожке пыль клубится,
Слышны выстрелы порой…
Эге, думаю, началось… И, действительно, по крыльцу застучали торопливые шаги, и кто-то вбежавший в комнату весело и задорно крикнул:
– Скорей собирайся, Николай Андреевич! Выступаем. Идем на Усть-Медведицу. Сбили Совет. Ведем с собою комиссара. Скорее, подвода ждет.
Решения в то горячее время – страшного 18-го года – принимались быстро и меняли судьбы людей на всю жизнь. Засуетились бабушка, мать, сестры. Пришли попрощаться дед, отец, они принесли мне на дорогу несколько коробок папирос «Кузьма Крючков». И вот все присели, помолились на образа в нашем маленьком зале, обнялись, и я, перекинув через плечо новенький винчестер и поправив на ременном поясе тяжелый кольт, сбежал с крыльца. В карманах казачьих шаровар с лампасами было полно патронов, на шее фронтовой бинокль «Цейс», а на голове артиллерийская фуражка мирного образца с бархатным околышем. Дед собственноручно сшил ее своему внуку. Она, эта артиллерийская фуражка, вскоре спасла мне жизнь. Об этом расскажу позже.
Отряд состоял человек из сорока-пятидесяти молодых парней станицы, одетых во что Бог послал. У некоторых были отцовские или дедовские шашки, кое у кого винтовки, револьверы, а чаще охотничья берданка или обыкновенный дробовик. Все без погон. У каждого, как и у меня, узелок с харчами. Вообще организация получалась совершенно кустарная, не рассчитанная на долгое существование. Но, весело балагуря, мы построились, кто-то скомандовал: «Станвии-ись!» – и отряд по Красной, главной улице станицы, двинулся к кузням на Усть-Медведицкую. Запылила дорога, покрытая по щиколотку легкой, как пух, меловой пылью. Грянула дружная наша станичная песня:
Поехал далеко казак на чужбину.
На добром коне он своем вороном.
Свою он навеки покинул краину,
Ему не вернуться в отеческий дом…
Погода была, как всегда на Дону в это время, чудесная, но на душе было тревожно: начиналось что-то непривычное… Но молодость брала свое, и мы шли громить «Ваньков», как в области называли иногородних, которые на исконных, донских землях начали командовать казаками. Прошли присевшие под меловой горой мазанки хутора Поднижнего. Вправо застыла на высоком бугре над Доном, где он выгибал вокруг крутого берега серебряное стремя, станица, собственно хутор Старо-Клетский. Тут когда-то в глубокую старину стояли казачьи укрепления – «клетки»; отсюда и пошло название старой и нашей станицы. Вошли в пеструю от лазоревых цветов – так на Дону называют дикие тюльпаны – степь. Справа на пологом бугре замаячили вишневые сады. Спустились с горки и подняли пыль на кривых улицах станицы Распопинской. Наконец, через займище, поросшее ивняком и седыми вербами, подошли к хутору Бобровскому, где за горой в семи верстах раскинулась окружная станица.
Наступал вечер. После более чем тридцативерстного перехода в жару отряд устал. Рядом с перемешанными рядами отряда, чуть левее дороги, два ледащих казачишки, дневальных из станичного правления, вели спотыкающегося комиссара. Вероятно, его хотели передать в центр. Я на правах больного ехал на повозке и время от времени соскакивал на дорогу и шел разговаривать с комиссаром, который совсем недавно еще запросто ходил к нам в дом, обедал и пил чай. Мирный, ничем не отличающийся от окружающих меня парень, донской хорунжий. Странным, полным неожиданностей и парадоксов был тот год. Начиналось и мое восхождение на Голгофу, но тогда я этого не знал.
Пока что, нахлестывая огромного вороного жеребца, нас нагоняет кто-то на легеньких дрожках без поклажи. Останавливается, расспрашивает. Из разговора выясняется, что это житель Усть-Медведицы, возвращающийся домой в станицу. По его словам, еще утром в станице были казачьи части и штаб обороны. Тогда у меня мелькает мысль загодя подготовить ночлег для отряда в классах мужской гимназии, которая помещалась в нашем доме. Занятий уже не было, и я решил, что мы со сторожихой освободим классы от парт, настелим на пол хотя бы сено, и отряд переспит в подходящем помещении. Буду квартирьером. Решено – сделано. Владелец дрожек охотно сажает меня с собой рядом, и жеребец легко выносит нас на гору.
За короткое время мы у Пирамид. Тишина и запахи родимой степи успокаивают. Все так с детства привычно, знакомо, и ничто не внушает никаких опасений. Но только мы подъехали к Пирамидам – до станицы рукой подать, как впереди замаячила конница, послышался звяк удил и на нас надвинулась громада всадников. В наступившей уже темноте я различил каких-то людей в штатском, сбитых в беспорядочную кучу. Кое у кого были связаны руки. Из расспросов узнал, что это часть есаула Андреева, известного мне храброго, всегда подтянутого и решительного офицера, что части оставляют станицу и гонят с собою подозреваемых в большевизме арестантов из местной тюрьмы, что станица сейчас пуста и что за Доном стоят полки красных казаков войскового старшины Филиппа Миронова и разрозненные части Михайловских хохлов. Есаул Андреев предложил присоединиться к ним. Но я объяснил, что за мной идет не только Клетский отряд – со всех окружных хуторов и станиц тянутся в Усть-Медведицу отряды, частью конные. Андреев выслушал меня, повторил свое предложение и, толкнув нетерпеливо переступающего ногами рослого дончака, присоединился к проходившим по дороге конникам.
Я остался один. Вскинув на плечо карабин, зашагал вниз по Воскресенской и вскоре подошел к гимназии. Знакомый дом нашего соседа-добряка фотографа Петровского, наш флигель во дворе. Сторожиха проводила меня в мою комнату, где со времени моего семилетнего пребывания в ней осталось все по-прежнему. Стоял все тот же стол с той же лампой под белым абажуром, та же кровать, вольтеровское кресло под чехлом, где я проводил за чтением долгие, зимние вечера. Все было на своих местах, исчез только большой портрет написанного мной Наполеона, который висел когда-то над столом, да бесчисленное множество открыток, развешанных по стенам, из жизни того же Наполеона и еще серия репродукций Верещагина о былой войне.
Старушка поставила самовар, сварила традиционные яйца всмятку, принесла кислого молока, и, поужинав, я завалился спать.
Ранним утром меня разбудили дальние орудийные выстрелы. Я выбежал на высокий балкон и услышал трезвон, несшийся от Воскресенской церкви. Я знал звоны всех церквей станицы – их было несколько. Звонили определенно в Воскресенской. Наскоро ополоснув себя водой, я взял карабин, бинокль, подцепил на пояс кольт и выбежал на улицу.
Но что за черт? Отряда моего нет. А откуда-то взялась артиллерия и почему-то трезвонят в церкви – ведь день будний. Спускаюсь вниз по улице. И вот, по мере приближения к концу Воскресенской, вижу глухо галдящую у церкви огромную толпу стариков, баб, мальчишек. А над толпою, в выходе из ворот церковной ограды, колышатся и блестят на ярком солнце, отливая бордовым пурпуром, хоругви. Духовенство, все в облачении, ведет крестный ход к недалекому отсюда Крещенскому спуску. Смешиваюсь с толпой. Вокруг стоящие старики-казаки недружелюбно и косо смотрят на меня. Один бородатый, сплевывая вязкую слюну и придавливая докуренную цигарку носком сапога, цедит сквозь зубы:
– Вот, туды их растуды, из-за таких-то вот и весь сыр-бор горит… Дали бы покой, и жили бы мы, как у Христа за пазухой.
Я удивленно смотрю на него, потом в бинокль на косу – на ту сторону реки. И вдруг вижу, как к лодке подошли три человека – два в штатском, а один в длиннополой шинели. Толпа замерла, вряд ли различая, что происходит на том берегу. Я же в артиллерийский, призматический «Цейс» видел все, как на ладони. Уйти бы мне тогда, чудаку, буераками к Пирамидам, но я, как вкопанный, стоял, опершись на винчестер, на самом виду и ждал, когда красные парламентеры переправятся на нашу сторону.
Вот лодка, покружившись на быстрине в середине Дона, ткнулась носом в косу. Сидящие в ней не спеша вылезли, по-хозяйски вытянули ее на песчаный берег – чтобы не унесло течением – и спокойно направились в нашу сторону. Двое в черных пиджаках и мужичьих картузах, зорко вглядываясь в толпу, скользили по песку, а третий, в длинной кавалерийской шинели, огромного роста рябой солдат с шашкой через плечо, шел, как медведь, тяжелой походкой, ни на кого не глядя. И вдруг, подойдя на пару шагов ко мне, он неожиданно припал на левую ногу и, молниеносно выхватив шашку из ножен, заорал, занеся клинок над моей головой:
– Руки вверх, белогвардейская сволочь! Сдавай оружие!
Еще секунда – и он полоснет меня палашом. Толпа замерла от ужаса. А я поднял вверх правую руку, не желая бросать карабина.
Тогда рябой в бешенстве, брызжа слюной, сбил с меня артиллерийскую фуражку и крикнул, срывая с шеи мой великолепный «Цейс»:
– Я тебя, сука, располовиню. Сдавай оружие!
Я, передавая ему мой новенький, еще не обстрелянный винчестер, обиженно бросил:
– Почему берете бинокль – это же не оружие.
Рябой, побелев от злости, вырвал у меня кольт, который я заранее переложил в карман, и разорвал мне штанину вдоль лампаса. Я был обезоружен, но, странно, совершенно не потерял присутствия духа. Право, не знаю, чем бы эта встреча с красными парламентерами для меня кончилась, вероятно, рябой зарубил бы меня – тогда это делалось легко. Но, как это ни странно, спасла меня моя артиллерийская фуражка мирного образца. Один из парламентеров поднял руку и угрожающе крикнул рябому:
– Не смей его трогать! Это артиллерийский офицер! – Потом, обращаясь ко мне, приветливо, скороговоркой спросил: – Вы артиллерист?
– Да, – ответил я, недоумевая.
– Послушайте, у нас нет артиллерийских офицеров, а пушек много, – и неожиданно: – Хотите командовать у нас батареей?
Не задумываясь, я дал согласие. Рябой рывком бросил шашку в ножны, и толпа сомкнулась вокруг нас.
– Скажите, – обратился ко мне, видимо, главный из прибывших, – а где тут расставлены пулеметы? Откуда-то, кажется, из городского сада стреляли!
– Ей-богу, ничего не знаю. Я только сегодня ночью пришел в станицу. Думаю, что тут никого нет. Ночью за станицей на Пирамидах встретил казачью конницу – шла на какие-то хутора. Кажется, на Большой.
Вытащив серебряный портсигар, на котором по тогдашней моде были припаяны подарки друзей – миниатюрные погончики, золотые монограммы, подписи, я предложил моему собеседнику закурить. Не имею представления, что хотели делать эти парламентеры в станице. Окруженные толпой, мы шли по узкому Крещенскому спуску к Воскресенской улице. В толпе мелькали лица близких и знакомых мне людей, я раскланивался с ними, но они в испуге шарахались и, виновато улыбаясь, прятались в толпе. Тогда, впервые за свою короткую жизнь, я узнал цену дружбы – в минуты, когда человек попадает в беду.
Толпа и мы с нею вышли на Воскресенскую. И вот в это время неожиданно послышались частые, короткие выстрелы со стороны тюрьмы. Толпа заметалась и шарахнулась врассыпную. В мгновение ока пространство перед церковью опустело. Мои спутники растерянно засуетились, и один из них, обращаясь ко мне, торопливо бросил:
– Мы сейчас вернемся. Садитесь вон там на лавочку и ждите нас. Сейчас начнут переправу наши части. Мы пока хотели бы сдать вас в тюрьму… до переправы. Но видите…
У меня мороз пошел по коже при упоминании о тюрьме, где незадолго до этого на клочки растерзали нашего реалиста Володьку Подольского. Потом мелькнула мысль – прикончат сейчас… Что им стоит… Но комиссар, обращаясь ко мне, скороговоркой бросил:
– Так обещаете, товарищ офицер, что будете ждать нас тут? Мы сейчас начнем переправу.
И я остался один. Сижу на скамейке, жду. Напротив калитка и деревянный забор. На нем большая зеленоватая вывеска: «Портной Токарев». На улице – ни души. Проходит полчаса или более, и вдруг открывается калитка токаревского двора, и из нее высовывается бородатое лицо казака. Глядя на меня вылупленными глазами, он шипит:
– Господин офицер, чего же вы ждете? Бегите!
– Я жду – красных. Бежать не могу – дал слово. Старик взрывается:
– Кому слово? Этим окаянным? Да вы знаете, кто это? Это же тутошние мужики, головорезы! Вас же убьют! Бегите!..
Мысли вихрем проносятся в голове – я не знаю, что делать. Но энергичный дед рванул меня за рукав и втянул в калитку. В огромном дворе толпа, увидя меня, заулюлюкала, зарычала, и кто-то истошно выкрикнул:
– Уходите отсюда сейчас же! Из-за вас нас тут всех перебьют!..
– Но, послушайте, – сказал я, – я тут и не останусь, я только перебегу через двор, а там по оврагам в Ольшанку или к Пирамидам за станицу…
Мои объяснения, однако, не помогли, и меня вытолкали на улицу. Сверху все постреливали. Пригибаясь, я рванул по тротуару вверх по Воскресенской – к своему дому. Добежав, юркнул в калитку и бросился было к домику, где жил. Но в это время увидел, что из-за приоткрытых дверей подвала гимназии выглядывает кто-то. Я подбежал к порожкам, идущим вниз, и очутился в большом помещении, где когда-то был винный склад Потребительского общества. В подвале было полно людей из соседних домов. По станице, по-видимому, перед переправой красных била артиллерия. Я объяснил, в чем дело, откуда бегу и просил меня спрятать. Тогда обитатели подвала замахали на меня руками и вытолкали наружу с криками:
– Из-за одного офицера погибать не будем!
– Но куда же мне? – растерянно спрашивал я, чувствуя, что и стены родного дома перестали помогать. – Куда же я пойду в шароварах с лампасами? Ведь убьют!..
Сердобольный сосед наш, фотограф Петровский, выскочил из подвала, перемахнул через забор к себе во двор и принес мне старый штатский костюм. Я моментально натянул на офицерскую форму штаны, одел пиджак, но оставалась фуражка, ее было жалко бросать – шил-то дед… И я завернул ее в старый платок, который мне сунула какая-то баба.
По-соседству жил старый дружок отца атаманец Александр Александрович Попов. Из нашего палисадника я перелез через забор к нему во двор, вихрем взлетел на крыльцо, схватил щеколду, но дверь была заперта. Вбегаю в сарай, присаживаюсь и смотрю на крыльцо через щель сарая. Жду нестерпимо долго. Наконец стукает калитка, и во двор входит Александр Александрович с женой и двумя детьми. Я радостно вырываюсь из сарая и прошу:
– Александр Александрович, ради Бога, спрячьте меня. Убьют! Он с ужасом смотрит на меня и говорит:
– Да ты, Коля, с ума сошел! У меня же двое детей, жена. Станица полна красноармейцев… Я сейчас там был. Тебя ищут! Уходи от греха… Уходи скорей!..
Постояв в раздумьях, я перелез через соседний забор и очутился в небольшом садике, заросшем бурьяном, крапивой и лебедой. Это было поместье отставного полковника Иванова, который когда-то содержал у себя в доме кинематограф. В саду было небольшое кирпичное здание, где размещалось машинное отделение. Обжигаясь крапивой, я обошел все помещение вокруг. Двери были заперты. Замок не поддавался. Тогда я выдавил коленом одно из стекол окна и шагнул во влажную полутьму. Пахнуло сыростью, мокрицами и мышами. На широком помостье из толстых пластин, покрытых маслом и паутиной, стояли машины. Исследовав помещение, я решил, что лучше всего спрятаться под помостом, куда легко можно было влезть. Здесь и проведу остаток дня и ночь.
Второй день прошел однообразно. Мучительно хочется пить. Жую стебли влажной от росы травы. Курю. На вторую ночь решаю сделать вылазку – будь что будет! В станице оставаться страшно – убьют. Пришла шальная мысль пробраться в полночь к знакомому почтарю Боякову или Прохватилову, с сыном которого учился в реальном. Часов в одиннадцать ночи вылез сквозь выдавленное окно, осторожно перемахнул через забор и вышел на пустынную улицу.
Дом Волкова приземистый, крытый железом, как у всех зажиточных казаков. Осторожно, стараясь не скрипеть, открываю калитку и вхожу во двор. Всюду масса повозок. Под сараями хруст пережевываемого сена и звяк недоуздков. Подхожу к окну, где предполагаемая спальня Волкова, и осторожно начинаю скрести стекло, постукиваю по нему пальцами. Скоро в окне появляется фигура в белой рубахе. Это, к счастью, Бояков. Всматриваясь в темноту, он спрашивает шепотом:
– Кто?
– Николай Кузнецов, – отвечаю сдавленным шепотом. Под фамилией деда меня знали все знакомые нашей семьи.
– Ты чаво? – испуганно несется из окна.
– Ради Бога, дайте коня – уйду на хутор Большой, – молю я.
– Да ты с ума сошел – дом полон красноармейцев… Тут ихний обоз стоит. Видишь? Уходи Христа ради, уходи скорей. Погубишь ты нас… – И окно осторожно, но решительно закрывается.
Стою как ошарашенный. Хочется пить. Вот беда – забыл спросить воды… Осторожно, делая большой круг, по оврагам и боковым улицам благополучно добираюсь до машинного отделения, где нашел свое, пока надежное, убежище. Начинает светать. Залезаю под настил, дремлю. Потом погружаюсь в глубокий, молодой сон. Будит меня частая ружейная стрельба где-то недалеко и отчетливые крики «Ур-р-ра!» На дворе уже белый день. Солнце на бурьяне в саду блестит росой, и я, как затравленный заяц, высовываю голову из разбитого окна. Прислушиваюсь. Что же это происходит? Повременив, осторожно вылезаю из убежища и подхожу к забору, который отделяет сад Иванова от нашего двора. Стрельба, уже редкая, продолжается, и я, перемахнув через забор, пробираюсь к воротам дома, которые выходят на Воскресенскую улицу. Во дворе ни души. Все попрятались. На улице идет бой. Став на перекладину ворот, осторожно выглядываю на улицу. По ней от тюрьмы бегут с ружьями наперевес, крича и стреляя, ребята нашего отряда. Рванув калитку, я выскакиваю на улицу и останавливаю одного из них, тот смотрит на меня, как на привидение.
– Черт! Николай! Да ты откуда это? Да тебя же вчера в Клетской отпевали – панихиду служили!
Я остервенело кричу:
– Откуда? Оттуда!.. А где вас черт носил? Почему отряд не пришел в Усть-Медведицу?
– Да мы остались ночевать на Бобровском, – торопливо отвечает мой собеседник и, меняя обойму, бежит дальше.
Тихо бегу по Почтовой улице к Городскому саду, который разбит на высоченном берегу Дона. Из него все Задонье и река как на ладони. Не доходя до Городского сада, останавливаюсь около дома фотографа. Увидя меня, всплескивает руками и начинает причитать по-бабьи Варвара Григорьевна Бабкина:
– Да ты откуда взялся, болезный? Вся станица говорит, что тебя увезли красные… Господи Боже мой, ты знаешь, Виню-то, Виню-то, сына моего, вчера убили! Да что я теперь буду делать?..
Я знал этого рослого, стройного есаула. Он учился у нас в реальном, был опорой матери. Вдруг граната ударила прямо в ворота Городского сада и разнесла их в щепу. Посыпалась штукатурка со зданий Окружного управления и Окружного суда. Ворота сада были как раз между ними. Не задержи меня Бабкина случайно на пару минут, я и попал бы под разрыв…
Считаю нужным предупредить возможного читателя этих моих записок, что в дальнейшем перипетии моей очень пестрой жизни могут невольно напомнить повесть об известных приключениях барона Мюнхгаузена, но прошу верить, что все здесь описанное основано на истинных происшествиях, которые сопровождали мою слишком долгую для нашей бурной эпохи жизнь. Повторяю, все основано на действительных фактах, у меня просто не было надобности что-либо приукрашивать. Прошу верить, как и сам я этому глубоко верю, мне просто в жизни чертовски везло.
Так вот, войдя в Городской сад, я услышал отдаленные выстрелы из ружей и винтовок и пошел на них. По кромке высокого нагорного берега лежала или стояла на одном колене редкая цепь из бородатых дедов всех мастей. Стреляли на тот берег, и по реке, где то там, то сям мелькали головы плывущих из станицы красноармейцев. Попаданий не было, но это был настоящий бой. Как я узнал из разговоров, слабые части красных, состоящие из Михайловских хохлов и иногородних, заняли на несколько дней оставленную казаками станицу и теперь, когда подошли многочисленные казацкие отряды, спешно отступали.
Покрутившись по саду, я спустился по крутому скату к Дону и пошел по берегу к водокачке. На песке, у самой кромки тихо плещущейся воды, заметил огромную фигуру человека в черном матросском бушлате. Человек лежал навзничь, широко раскинув руки, как будто перед смертью хотел обнять весь этот прекрасный мир. Подойдя вплотную, я узнал бабкиного крестника Алешку Сазонова, огромного матроса Балтийского флота. Как он попал сюда, не знаю. Во рту у него был набит речной песок и вставлена каким-то хулиганом палка. «Вот тебе, болезный, и раскулачил деда Осипа», – подумал я, искренне жалея загубленную молодую жизнь. В 1918 году жизнь не стоила стертого пятака – сегодня ты, а завтра я…
Вернулся домой в станицу. Скоро я узнал, что в Окружном управлении заседает штаб обороны. Откуда-то вдруг появился и новый окружной атаман, он же начальник обороны полковник Георгий Хрипунов. Он в моей жизни сыграл большую роль и помог мне, помимо своей воли, избежать участия в гражданской войне, по крайней мере в ее разгаре. Но об этом скажу позже.
Явившись по обязанности, как и все офицеры, в штаб обороны, я увидел, что все ходят в погонах. Надел и я погоны сотника Донской артиллерии, а вскоре получил приказ принять два трехдюймовых орудия. Выдали и надлежащее количество шрапнелей. После этого я составил орудийный расчет, и батарея стала на буграх, неподалеку от хутора Затонского.
В те дни я узнал о гибели моего двоюродного брата Василия Фролова. Он ехал с донесением, и где-то за Доном его перехватили. Васю живым зарыли в землю. При известии об этом у меня будто оборвалось что-то внутри…
В штабе обороны округа мне сообщили еще одну печальную новость: убили Колю Руднева. Только два дня назад я спал с ним вместе в душной казачьей хате на полу. И вот его нет… Спазмы непроизвольно сжали горло, не в силах превозмочь себя, я судорожно глотал воздух, когда открылась дверь, ведущая в кабинет окружного атамана, и вошел полковник Хрипунов. Увидя меня всхлипывающим, он резко крикнул:
– Сотник Келин! Потрудитесь в пьяном виде в штаб не являться! Его окрик при всех, словно ножом, полоснул меня. Я никогда не брал в рот спиртного, и, взбешенный незаслуженным оскорблением, я шагнул навстречу полковнику.
– Прошу освободить меня от обязанностей командира батареи! – почти выкрикнул полковнику. – Я не хочу принимать участия в этом кабаке!
Хрипунов опешил:
– Как? Вы трус и большевик!
Потеряв самообладание, я ринулся на него:
– А ты тыловая, штабная крыса! Я на фронт добровольцем пошел, а ты где был?..
В это время, как мне потом передавали, случилось непоправимое: я полоснул его плетью и сбил погон…
Помню одно – Хрипунов круто повернулся и, хлопнув дверью, крикнул:
– Арестовать! Под военно-полевой суд!..
Я знал, что означали эти слова. При новой власти полевой суд означал верную смерть. Я тогда выхватил наган и, прислоняясь спиной к стене, решительно заявил:
– Не сдамся! Не подходите – стрелять буду!..
Долго упрашивали меня товарищи, чтобы я сдал оружие, но я сопротивлялся. Наконец Саша Мельников меня уговорил, и тут же ко мне приставили двух казаков, братьев Мешковых, и увели домой.
На следующий день на почтовых в Усть-Медведицу прискакал дед. Изыскивались способы для спасения меня от неминуемой расправы. Выбор остановился на друге нашей семьи, военном враче Маркиане Ивановиче Алексееве. У него было ужасное лицо, но золотое сердце. Не знаю, по какой причине, но его бесформенный нос был составлен из лоскута кожи, взятой со лба. И вот этот человек, пользуясь своим неоспоримым авторитетом, сказал деду:
– Другого выхода, Иосиф Федорович, нет – я его признаю душевнобольным, и мы его спрячем от суда в Новочеркасской психиатрической больнице, тем более что тут дело связано и с недавней контузией…
Дед согласился. Вскоре подали тройку, в сопровождении братьев Мешковых меня, как «опасно душевнобольного», покатили в Новочеркасск. Чтобы я не сопротивлялся, мне объяснили, что везут представляться к Войсковому атаману Краснову, который якобы хочет меня наградить за Михайловскую операцию. В той «операции», кроме беспорядочной стрельбы, ничего не было. Но я почему-то поверил этому. Настроение мое было приподнятое. Тогда уже я пописывал стихи и всю дорогу пытался говорить рифмами.
На ночь мы остановились в Клетской, чтобы рано утром двинуться на станцию Суровикино. И вот на рассвете я с дедом на заднем сиденье почтового тарантаса. Один из Мешковых на козлах, рядом с кучером, второй – против нас, на откидном сиденье. У меня по-прежнему радостно и легко на душе. Но дед задумчив и молчалив.
По слухам, я знаю, что Краснов – писатель, пишет стихи. Это он написал новые слова к старинной песне, ставшей казачьим гимном, одобренным Войсковым кругом:
Всколыхнулся, взволновался
Православный, тихий Дон.
И послушно отозвался
На призыв свободы он…
Дон детей своих сзывает
В Круг державный, войсковой —
Атамана выбирает
Всенародною душой…
Эти слова меня захватывают и переносят во времена седой древности, в Дикое Поле, когда на окраинах Государства Российского, тогда еще неокрепшего и молодого, казачья вольница оберегала его от набегов татар. В степь шли отчаянные, буйные головы, у которых был только один закон – воля, а при приеме в свою ватагу они задавали только один вопрос: «В Бога веруешь? Перекрестись!» И новый член казачьей вольницы вступал в свободное степное братство, которое свято хранило заветы своих отцов. Надо было долго жить среди казаков, чтобы хорошо понять этот искони свободолюбивый народ и полюбить его. И вот теперь атаман Краснов среди пылающего костра обезумевшей России пытался восстановить хотя бы тень той славной старины, которую казаки любили и почитали…







