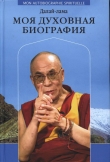Текст книги "Свобода в изгнании. Автобиография Его Святейшества Далай Ламы Тибета."
Автор книги: Нгагва́нг Ловза́нг Тэнцзи́н Гьямцхо́
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Утром 17-го числа я встал на час или два раньше, чем обычно, было еще совсем темно. Когда я одевался, Мастер Одежд вручил мне кусок зеленой ткани, чтобы я обернул его вокруг талии. Это было сделано по совету астрологов, которые считали, что благоприятен будет зеленый цвет. Я отказался от завтрака, так как знал, что церемония будет долгой, и не хотел, чтобы меня отвлекал какой-нибудь "зов природы". Однако, астрологи поставили условие, что я должен съесть яблоко перед началом церемонии. Помню, что с трудом проглотил его. Покончив с этим, я отправился в храм, где на рассвете должно было состояться возведение на трон.
Это событие представляло собой, должно быть, блестящее зрелище: присутствовало целиком все правительство, а также различные иностранные представители в Лхасе, все были облачены в свои самые торжественные и красочные одеяния. К сожалению, было очень темно, и я не мог разглядеть многих деталей. Во время церемонии мне вручили Золотое Колесо, символизирующее принятие светской власти. Однако, кроме этого, я мало что помню – за исключением настоятельной и все возрастающей потребности опорожнить свой мочевой пузырь. Это астрологи были виноваты. Ясно, что причина проблемы состояла в их идее дать мне съесть яблоко. Я им всегда не слишком верил, а этот случай еще усилил мое нелестное о них мнение.
Я всегда считал, что поскольку самые важные дни в жизни человека – его рождение и смерть – не могут быть установлены по совету астрологов, то не стоит беспокоиться насчет каких-то других. Однако это лишь мое личное мнение. Оно не означает, что я хочу заставить тибетцев отказаться от использования астрологии. Астрология имеет большое значение с точки зрения нашей культуры.
Тем не менее мое положение в этой ситуации становилось все хуже. Наконец, я послал записку гофмейстеру, в которой просил его заканчивать побыстрее. Но наши церемонии длинны и сложны, и я стал бояться, что они никогда не кончатся.
Когда, наконец, процедура завершилась, я оказался неоспоримым лидером шестимиллионного народа, стоящего лицом к лицу с угрозой самой настоящей войны. А мне было только пятнадцать лет. Складывалась невероятная ситуация, но я видел свой долг в том, чтобы избежать подобного бедствия, если это хоть как-то осуществимо. Моей первой задачей было назначить двух новых премьер-министров.
Причина необходимости назначить двух заключалась в том, что в нашей правительственной системе каждая должность начиная от премьер-министра исполнялась мирянином и монахом. Это шло еще со времен Великого Пятого Далай Ламы, который был первым, кто принял светскую власть в дополнение к своему положению духовного главы государства. К сожалению, хотя такая система и хорошо работала в прошлом, она безнадежно устарела в двадцатом веке. Кроме того, как я уже упоминал, после почти двадцати лет регентского правления, правительство совершенно погрязло в коррупции.
Нечего и говорить, что почти никакие реформы не проводились, Даже Далай Лама не мог ничего сделать, потому что любое его предложение сначала представлялось премьер-министрам, затем Кашагу, затем каждому представителю исполнительной власти в порядке подчиненности и наконец Национальному Собранию. Если кто-либо возражал против его предложения, то было крайне трудно дать этому вопросу дальнейший ход.
То же самое происходило, когда реформы предлагались Национальным Собранием, но только в обратном порядке.
В случае, если какой-то законодательный акт в конечном итоге представлялся Далай Ламе, он мог пожелать внести поправки, тогда эти поправки записывались на пергаментных лентах, приклеивались к первоначальному документу, и тот затем посылался для одобрения обратно по нисходящей линии. Но главная трудность введения реформ заключалась в страхе религиозной общины перед иностранным влиянием, которое, по убеждению многих, могло бы повредить буддизму в Тибете.
На пост премьер-министра – монаха я избрал Лобсана Таши, а опытный светский администратор по имени Лукхангва стал его мирским коллегой.
После этого, посоветовавшись с ним и с Кашагом, я решил послать делегацию за рубеж – в Америку, Великобританию и Непал, в надежде убедить эти страны выступить в нашу защиту. Другая делегация должна была отправиться в Китай, чтобы попытаться провести переговоры о выводе войск. Эти миссии были отправлены в конце года. Вскоре после этого, когда китайцы сконцентрировали свои силы на востоке, мы решили, что я должен перебраться в южный Тибет вместе с самыми высокопоставленными членами правительства. В случае ухудшения ситуации я мог бы без труда найти убежище, перейдя границу с Индией. Тем временем Лобсан Таши и Лукхангва должны были оставаться в Лхасе и исполнять свои обязанности: государственные печати я брал с собой.
Глава четвертая
Убежище на юге
Надо было многое организовать, и на это ушло несколько недель перед тем, как мы покинули Лхасу. Кроме того, все приготовления должны были делаться тайно. Мои премьер-министры боялись, что если просочится хоть одно слово о приготовлениях Далай Ламы к отъезду, произойдет всеобщая паника. Но я уверен, многие люди наверняка понимали, что происходит, ведь предварительно уже были отправлены несколько караванов с багажом – среди которого, втайне даже от меня, находилось пятьдесят или шестьдесят сейфов с сокровищами, большей частью золотыми и серебряными слитками из хранилищ Поталы. Это была идея Кенрап Тэнзина, моего бывшего Мастера Одежд, недавно назначенного на должность Чикьяп Кенпо, Начальника персонала. Когда я узнал об этом, то очень рассердился. Не потому, что беспокоился за сокровища – здесь была задета моя юношеская гордость. Я считал, что Кенрап Тэнзин все еще относится ко мне как к ребенку, раз не сказал мне об этом.
День отъезда я ожидал со смешанным чувством тревоги и предвкушения чего-то нового. С одной стороны, для меня было несчастье оставить свой народ. Я осознавал всю свою ответственность перед ним. С другой стороны, я нетерпеливо ожидал путешествия. Мое возбуждение еще более усилил Гофмейстер, который решил, что я должен переодеться в платье мирянина. Он беспокоился, что народ действительно может помешать мне уехать, когда поймет, что происходит, и посоветовал мне оставаться инкогнито. Это привело меня в восторг. Теперь я не только смогу увидеть что-то в своей стране, но получу возможность делать это как обычный наблюдатель, а не как Далай Лама.
Мы покинули Лхасу глухой ночью. Помню, было холодно, но очень светло. Звезды в Тибете светят так ярко, как я не видел нигде в мире. Было очень тихо, и сердце мое замирало каждый раз, когда спотыкался один из пони в то время, как мы тайком пробирались по двору у подножия Поталы мимо Норбулингки и монастыря Дрейпунг. Но настоящего страха я не испытывал.
Конечным пунктом нашего путешествия был Дромо (произносится Тромо), расположенный на расстоянии 200 миль, на границе с Сиккимом. Путешествие должно было занять по крайней мере десять дней, если все будет благополучно. Недолгое время спустя, однако, мы уже попали в беду. Через несколько дней после отъезда из Лхасы мы прибыли в отдаленную деревню под названием Джанг, где на свои зимние диспуты собирались монахи из Гандэна, Дрейпунга и Сера. Как только они увидели размеры нашей процессии, они сразу поняли, что это не обычный караван. Нас было не меньше двухсот человек – и из них пятьдесят высокопоставленных лиц – плюс такое же число вьючных животных, так что монахи догадались, что я где-то здесь.
К счастью, я был в самом начале каравана, и меня не узнали переодетого. Никто не остановил меня. Но, проезжая мимо, я заметил, что монахи очень взволнованы. У многих на глазах были слезы. Через несколько секунд они остановили Линга Ринпоче, который ехал за мной. Я оглянулся и понял, что они упрашивают его вернуться со мной обратно. Момент был крайне напряженный. Переживания достигли апогея. Монахи так верили в меня как в своего Драгоценного Охранителя, что для них была невыносима мысль, что я их покидаю. Линг Ринпоче объяснил им, что я не намереваюсь отсутствовать долго, и монахи неохотно согласились позволить нам продолжить путь. Затем, бросившись на дорогу ничком, они молили, чтобы я вернулся как можно скорее.
После этого неудачного происшествия мы ехали без приключений, и я смог использовать ситуацию наилучшим образом: я ехал впереди, все еще в переодетом виде, и не пропускал ни одного случая остановиться и поговорить с людьми. Я понимал, что теперь мне представилась возможность узнать, какова же на самом деле жизнь моих земляков и землячек, и мне удалось пообщаться со многими людьми, не обнаруживая, кто я такой. Из этих бесед я узнал кое-что о тех мелких несправедливостях жизни, от которых страдает мой народ, и решил, как только смогу, совершить такие перемены, чтобы помочь ему.
Почти через неделю пути мы прибыли в Гьянцзе, четвертый по величине город Тибета. Здесь стало невозможным сохранять секретность, и сотни людей вышли приветствовать меня. Отряд потрепанной, но полной энтузиазма индийской кавалерии, обеспечивавшей сопровождение Индийской торговой миссии, также взял "на караул". Но времени на формальности не было, и мы поспешили дальше, прибыв в Дромо в январе 1951 года после почти двухнедельного путешествия.
Все мы вымотались. Но лично я испытывал огромное чувство подъема. Сам город не представлял собой ничего особенного, фактически он состоял из нескольких смыкавшихся друг с другом деревень, но окружающий ландшафт был очень живописен. Город расположен как раз в том месте, где долина Амочу разделяется надвое на высоте около 9 тысяч футов над уровнем моря.
По дну долины протекает река, довольно близко к деревне, так что рев воды слышится день и ночь. Почти у самой воды возвышаются крутые склоны гор. В некоторых местах река зажата между скалами, вздымающимися прямо в кристально голубое небо. А невдалеке высятся могучие горные вершины, которые придают Тибету величественный и грозный вид. По зеленым пастбищам то там, то тут разбросаны группы сосен и заросли рододендрона. Климат, как оказалось, был довольно влажным. Так как Дромо расположен совсем близко от равнин Индии, он подвержен муссонным дождям. Но даже тогда часто светит солнце, пробиваясь сквозь нагромождения облаков и заливая долины небывалым сверкающим светом. Мне так хотелось обойти эти места и взобраться на ближайшие горы, когда они покрыты дикими весенними цветами, но оставалось еще несколько месяцев зимы.
По прибытии в Дромо я поселился сначала в доме местного представителя власти – того самого, который посылал мне игрушки и яблоки, – а потом перебрался в Дунгкар, небольшой монастырь, расположенный на холме, с которого открывается вид на всю долину Дромо. Вскоре мы обосновались, и опять началась моя привычная жизнь с молитвами, медитацией, затворничествами и учебой. И хотя я был бы не прочь иметь побольше свободного времени и скучал по некоторым своим обычным развлечениям в Лхасе, я почувствовал, как что-то во мне изменилось, может быть, из-за того чувства свободы, которое я ощутил, потому что теперь не надо было соблюдать строгий этикет и все формальности, составлявшие столь значительную часть моей жизни в Лхасе. И несмотря на то, что я скучал по компании моих друзей-уборщиков, это возмещалось повышенной ответственностью, которую я ощущал. Поездка на юг заставила меня усвоить одну вещь: я должен упорно учиться и знать как можно больше. Вера народа обязывала меня изо всех сил стремиться к его идеалу.
Вскоре после нашего приезда в Дромо произошло одно значительное событие – прибыли монахи из Шри Ланки с ценной реликвией, которую мне вручили во время очень волнующей церемонии.
Так как Лукхангва и Лобсан Таши остались в Лхасе, моими главными советниками были Кашаг, гофмейстер, Линг Ринпоче (теперь моим Старшим наставником был он) и Триджанг Ринпоче, старший "ценшап", который недавно был назначен Младшим наставником. Здесь находился также мой старший брат Такцер Ринпоче. Он прибыл за несколько недель до нас на пути в Индию.
Поступили первые плохие новости: только одна из наших делегаций, отправленных за границу до моего отъезда из Лхасы, достигла места назначения – это была делегация в Китай. Все другие оказались отосланы назад. Это было большим ударом. Тибет всегда поддерживал дружественные отношения с Непалом и Индией, ведь они наши ближайшие соседи. Что касается Великобритании, то благодаря экспедиции полковника Янгхасбенда в Тибете почти полвека существовала Британская торговая миссия. Даже когда Индия в 1947 году получила независимость, в первое время эту миссию продолжал возглавлять тот же самый англичанин, Хью Ричардсон. Поэтому невозможно было поверить в то, что британское правительство согласно с китайскими притязаниями на управление Тибетом. Казалось, они забыли о том, что в прошлом, например, когда Янгхасбенд заключил свой договор с тибетским правительством, они считали необходимым относиться к Тибету как к абсолютно суверенному государству. Такова же была их позиция и в 1914 году, когда они созвали конференцию в Симле (где была подписана Конвенция), на которую Тибет и Китай приглашались независимо друг от друга. Кроме того, англичане и тибетцы всегда имели хорошие взаимоотношения. Мои соотечественники высоко ценят англичан за их порядочность, справедливость и чувство юмора.
Что касается Америки, то в 1948 году Вашингтон приветствовал нашу торговую делегацию, которая даже имела встречу с вице-президентом. Так что и они тоже, по-видимому, изменили свои взгляды. Помню, что я испытал очень горькое чувство, когда понял, что это реально означает: Тибет должен готовиться встретиться один на один со всей мощью коммунистического Китая.
Дальше события развивались так: после возвращения обратно всех делегаций кроме одной всего через несколько недель от Нгабо Нгаванга Джигмэ, губернатора Чамдо, поступил большой доклад. Большая часть округа Чамдо была теперь в руках китайцев, и доклад смог доставить в Лхасу один из видных торговцев этого округа. Он благополучно вручил его Лобсану Таши и Лукхангве, которые, в свою очередь, переслали мне. В этом докладе излагалась суть китайской угрозы, причем приводились тягостные и мрачные подробности, и из него становилось ясным, что если только не будут достигнуты определенного рода соглашения, то скоро войска НОАК двинутся в Лхасу. Это неизбежно повлекло бы за собой гибель людей, и я хотел любой ценой избежать этого.
Нгабо предполагал, что у нас нет другого выбора кроме переговоров. Если это приемлемо для тибетского правительства и если мы дадим ему нескольких помощников, он предлагал лично отправиться в Пекин, чтобы попытаться начать диалог с китайцами. Я написал в Лхасу Лобсану Таши и Лукхангве, чтобы узнать их мнение. Они ответили, что считали бы целесообразным провести такие переговоры в Лхасе, но, поскольку положение безвыходное, они вынуждены согласиться, чтобы переговоры велись в Пекине.
Так как Нгабо без колебаний предложил свою кандидатуру для выполнения этой задачи, то я сделал вывод, что именно Нгабо, которого я знал как очень решительного администратора, должен поехать в китайскую столицу. Соответственно я послал двух человек из Дромо и двух из Лхасы сопровождать его. Я надеялся, что он ясно даст понять китайскому руководству: Тибету требуется не "освобождение", а сохранение мирных взаимоотношений с нашим великим соседом.
Тем временем наступила весна, а с ней и расцвет природы. Вскоре горы покрылись дикими цветами; трава приобрела совершенно новый, яркий оттенок зеленого цвета; воздух наполнился свежими изумительными ароматами – жасмина, жимолости и лаванды. Из своих комнат в монастыре я мог видеть реку, к которой крестьяне пригоняли пастись овец, яков и "дзомо". Я мог видеть, не без зависти, группы отдыхающих, которые приходили почти каждый день, чтобы разжечь костерок и приготовить еду на самом берегу реки. Все это для меня было так притягательно, что я набрался смелости и попросил у Линга Ринпоче немного свободного времени для себя. Он, должно быть, испытывал те же чувства и, к моему удивлению, дал мне выходные дни. Кажется, я никогда не был так счастлив, как в эти несколько дней, за которые облазил всю округу. В один из своих походов я посетил бонский монастырь. Мое настроение омрачало только то, что я знал: впереди тревожные времена. Вскоре мы должны были получить известия от Нгабо из Пекина. Я совсем не исключал того, что новости могут быть плохими, и, тем не менее, был совершенно потрясен, когда услышал, что произошло в Пекине.
В монастыре у меня был старый радиоприемник Буша, который работал от шестивольтовой батарейки. Каждый вечер я слушал передачи "Радио Пекина" на тибетском языке. Иногда при этом присутствовал кто-нибудь из чиновников, но чаще я слушал один. Большинство передач было заполнено пропагандой о "Славной Родине-Матери", но должен сказать, что многое из услышанного производило на меня большое впечатление. Постоянно велись беседы об индустриальном прогрессе и о равенстве всех граждан Китая. Все это выглядело как гармоничное сочетание материального и духовного прогресса. Но вот однажды вечером, когда я сидел один, радио вдруг заговорило совсем по-другому. Неприятный резкий голос объявил, что в этот день представители правительства Китайской Народной Республики и того, что они назвали "местным правительством", подписали "Соглашение из семнадцати пунктов о мирном освобождении Тибета".
Я не верил своим ушам. Я хотел вскочить и позвать кого-нибудь, но был так ошеломлен, что сидел как прикованный. Диктор описывал, как "за последние сто и более лет" агрессивные империалистические силы проникли в Тибет и "совершали всякого рода обманы и провокации". Он добавил, что "в таких условиях тибетская нация и народ были ввергнуты в пучину рабства и страдания". Мне стало физически плохо, когда я слушал эту невероятную смесь лжи и вычурных штампов.
Но дальше пошло еще хуже. В пункте первом этого "Соглашения" утверждалось, что "тибетский народ должен объединиться и изгнать империалистические агрессивные силы из Тибета. Тибетский народ возвратится в большую семью Родины-Матери – Китайскую Народную Республику". Что же это такое? Последняя иностранная армия, которая стояла на земле Тибета, была Маньчжурская армия в 1912 году. Насколько я понимал (а теперь знаю), в то время в Тибете было не больше горсточки европейцев. А идея о том, что Тибет "возвращается к своей Родине-Матери", была бесстыдным измышлением. Тибет никогда не был частью Китая. В действительности, как я уже упоминал, именно Тибет в прошлом имел притязания на обширную область Китая. В довершение всего, наши народы отличаются в этническом и расовом отношении. Наши языки совершенно различны, наша письменность не имеет ничего общего с китайской. Как впоследствии заявила в своем докладе Международная комиссия юристов:
"Положение Тибета по изгнании китайцев в 1912 году вполне может быть определено как состояние независимости де факто... Таким образом, мы утверждаем, что события 1911-1912 годов знаменуют восстановление Тибета как полностью суверенного государства, независимого фактически и юридически от китайского контроля."
Однако больше всего насторожило то, что Нгабо не были даны никакие полномочия подписывать что-либо от моего имени, но только вести переговоры. Государственные печати были при мне в Дромо, поэтому он никак не мог заверить документ. Значит, его принудили. И только через несколько месяцев я узнал правду о происшедшем. А тогда нам всем оставалось лишь слушать эту радиопередачу (повторенную несколько раз) в сочетании со всякими самодовольными разглагольствованиями о радостях коммунизма, славе Председателя Мао, чудесах Китайской Народной Республики и обо всех тех прекрасных вещах, которые ожидают тибетский народ теперь, когда наши судьбы объединились. Это было довольно глупо.
Детали "Соглашения из семнадцати пунктов" были удручающими. Пункт второй провозглашал, что "местное правительство" Тибета будет "активно помогать Народно-освободительной армии занять Тибет и консолидировать национальную оборону". Это означало, насколько я мог понять, что предполагается немедленная капитуляция наших вооруженных сил. Пункт восьмой продолжал эту тему, в нем говорилось, что тибетская армия должна войти в состав китайской армии – как будто такая вещь возможна. Затем в пункте четырнадцатом мы узнавали, что отныне Тибет должен быть лишен права вести свои внешние дела. Эти ключевые пункты перемежались с другими, в которых давались заверения в религиозной свободе Тибета, сохранении моего положения и существующей политической системы. Но несмотря на все эти общие места, было ясно одно: отныне Страна Снегов подчинена Китайской Народной Республике.
Когда вся горькая правда о нашем положении стала доходить до сознания, некоторые люди, особенно Такцер Рин-поче в своем длинном письме из Калькутты, стали убеждать меня немедленно уехать в Индию. Они доказывали, что единственная надежда для Тибета заключается в том, чтобы найти союзников, которые помогли бы нам бороться с Китаем. Когда я напомнил им, что наши делегации в Индию, Непал, Великобританию и Соединенные Штаты уже были возвращены, они возражали, что теперь, когда эти страны поняли серьезность ситуации, они, несомненно, предложат свою помощь. Они подчеркивали, что Соединенные Штаты непримиримо противостоят коммунистической экспансии и уже приняли участие в корейской войне по этой причине. Я понимал логику их аргументов, но тем не менее чувствовал, что сам факт участия Америки в войне на одном фронте уже уменьшает вероятность того, что она пожелает открыть еще другой фронт.
Через несколько дней пришла длинная телеграмма от делегации в Пекине. В ней в основном повторялось все то, что мы уже слышали по радио. Было очевидно, что Нгабо не мог сообщить правду. Недавно несколько членов этой делегации рассказали в своих мемуарах всю историю того, как их угрозами принудили подписать "Соглашение" и использовать поддельные государственные печати Тибета. Но по телеграмме Нгабо я мог только догадываться о том, что произошло. Однако он все-таки сообщил, что новый генерал-губернатор Тибета, генерал Чжан Дзинь-у находится на пути в Дромо через Индию.
Ничего не оставалось делать, как ждать. Тем временем я принял недавно приехавших настоятелей трех больших монастырей-университетов – Гандэна, Дрейпунга и Сера. Когда я рассказал им о "Соглашении из семнадцати пунктов", они стали убеждать меня как можно скорее вернуться в Лхасу. Тибетский народ очень хочет, чтобы я вернулся, сказали они. В этом их поддерживали и Лукхангва, и Лобсан Таши, которые передавали с ними послание.
Через несколько дней я получил еще одно сообщение от Такцера Ринпоче, который, очевидно, добился успеха в установлении контакта с американским консульством в Калькутте и получил разрешение посетить Соединенные Штаты. Он снова убеждал меня приехать в Индию, говоря, что американцы очень заинтересованы в установлении контакта с Тибетом. Он предполагал, что если я уйду в изгнание, то между нашими двумя правительствами могут быть проведены переговоры по поводу соглашения о помощи. Мой брат заканчивал свое письмо фразой о том, что мне необходимо как можно скорее приехать в Индию, добавив, что китайская делегация уже в Калькутте на пути в Дромо. В этом заключался намек на то, что если я не отправлюсь немедленно, то будет слишком поздно.
Примерно в то же время я получил письмо в таком же духе от Генриха Харрера, который уехал из Лхасы передо мною и находился теперь в Калимпонге. Он решительно высказывал свое мнение о том, что я должен эмигрировать в Индию – ив этом его поддерживали некоторые члены моего правительства. Однако Линг Римпоче был столь же непреклонен в том, что я не должен ехать.
Итак, передо мной стояла дилемма. Если руководствоваться письмом моего брата, то, по-видимому, все же была некоторая надежда заручиться поддержкой иностранцев. Но что это будет означать для моего народа? Нужно ли мне, действительно, уехать, даже не встретившись перед этим с китайцами? И если я уеду, то будут ли наши вновь обретенные союзники помогать нам при любых обстоятельствах? Когда я размышлял на эту тему, то постоянно приходил к двум соображениям: во-первых, для меня было очевидным, что наиболее вероятным результатом пакта с Америкой или кем-либо еще будет война. А война означает кровопролитие. Во-вторых, я думал, что хотя Америка и очень могущественная страна, но она расположена за тысячи миль. С другой стороны, Китай наш сосед и хотя материально менее мощен, чем Соединенные Штаты, имеет большое численное преимущество. Поэтому разрешение спора вооруженной борьбой может продолжаться много лет.
Кроме того, Америка – демократическая страна, и я не мог поверить, что ее народ будет мириться с неограниченными потерями своих людей. Легко было представить то время, когда мы, тибетцы, остались бы опять одни. Результат тогда был бы тот же самый, Китай добился бы своего, но только за это время были бы потеряны бесчисленные жизни тибетцев, китайцев, американцев, и все без толку. Поэтому я пришел к выводу, что лучшей линией поведения будет оставаться на месте и ждать прибытия китайского генерала. Человек же он, в конце концов.
16 июля 1951 года китайская делегация наконец прибыла в Дромо. В монастырь прибежал вестник, сообщивший о ее приближении. Услышав эту новость, я испытал волнение, смешанное с опаской. Как они выглядят, эти люди? Я был чуть ли не уверен, что у всех у них рога на голове. Я вышел на балкон и стал смотреть на долину в сторону города, пристально изучая здания в подзорную трубу. Я помню, был прекрасный день, хотя стоял в самом разгаре сезон дождей, и от согревающейся под летним солнцем земли поднимались струйки испарений. Вдруг я заметил какое-то движение. Группа моих чиновников направлялась к монастырю. Среди них я различил трех человек в невзрачных серых костюмах, они казались просто ничтожными по сравнению с тибетцами, одетыми в традиционные красные и золотистые шелковые одеяния чиновников высокого ранга.
Наша встреча была холодно-вежливой. Генерал Чжан Дзинь-у начал с вопроса, слышал ли я о "Соглашении из семнадцати пунктов". Я с величайшей сдержанностью отвечал, что слышал. Затем он вручил копию его вместе с двумя другими документами. При этом я заметил, что он носит золотые часы "ролекс". Из этих двух дополнительных документов один касался тибетской армии. В другом разъяснялось, что произойдет, если я приму решение эмигрировать. В нем выражалась надежда, что я быстро пойму: китайцы пришли с истинно дружескими намерениями. И тогда я, несомненно, захочу вернуться в свою страну.
Когда это произойдет, меня примут с распростертыми объятиями. Поэтому нет никакого смысла уезжать.
Затем генерал Чжан спросил меня, когда я намереваюсь возвратиться в Лхасу. "Скоро", – ответил я, не выказывая желания продолжать разговор и стараясь оставаться как можно более равнодушным. По его вопросу было видно, что он хочет ехать в Лхасу со мной, так, чтобы появиться в городе вместе, символически. В конце концов моим чиновникам удалось избежать этого, и он отправился через день или два после меня.
Первое мое впечатление соответствовало тому, что я ожидал увидеть. Невзирая на все подозрения и беспокойство, которые я испытывал перед этой встречей, когда она произошла, стало ясно, что этот человек, хотя он мой потенциальный враг, в действительности, обычное существо из плоти и крови, человек, как я сам. Это открытие произвело на меня глубокое впечатление. Это был очередной важный урок.
Теперь, когда я встретился с генералом Чжаном, перспектива возвращения в Лхасу стала для меня чуть более привлекательной. Началась подготовка к отъезду вместе с моими приближенными, и к концу месяца мы отправились в путь. На этот раз не было предпринято никаких попыток соблюдать секретность, и путешествие проходило более обстоятельно. Практически в каждой встречающейся на пути деревне я останавливался, чтобы дать прием и обратиться с краткой проповедью к местному населению. Тем самым мне предоставился случай лично рассказать людям о том, что происходит в Тибете, о том, как нас оккупировала иностранная армия, а китайцы в это время говорят о дружбе. Я также проводил краткие беседы по религиозным текстам, которые обычно выбирал в зависимости от того, что мне надо было сказать людям, для подтверждения своих слов. Я продолжаю практиковать такую форму и в настоящее время. И считаю это хорошим способом показать, что религия может многое дать нам, в какой бы ситуации мы ни оказались. Однако теперь я делаю это лучше, чем тогда. В те дни недоставало уверенности, хотя она и возрастала с каждым выступлением перед народом. Я обнаружил также, как это обнаруживает каждый учитель, что нет лучшего способа учиться, чем учить самому.
Я был доволен, что нашлось так много дел во время этого путешествия. Иначе у меня появилось бы время для грусти. Вся моя семья находилась за границей, за исключением отца, который умер, когда мне было двенадцать лет, и Лобсан Самтэна, сопровождавшего меня теперь, а моим единственным компаньоном по путешествию помимо домашних был Татхаг Ринпоче. Он приехал навестить меня в Дромо, чтобы преподать некоторые важные учения, и теперь возвращался назад в свой монастырь, расположенный рядом с Лхасой. Он заметно постарел с тех пор, как я последний раз видел его прошлой зимой, и теперь выглядел на все свои семьдесят с лишним лет. Я был счастлив еще раз оказаться в его обществе – потому что он был не только чрезвычайно добрым человеком, но еще являлся и высокосовершенным духовным мастером. Без сомнения, он был моим самым значительным гуру. Он даровал мне много посвящений различных традиций и тайных учений, которые были переданы ему самыми блестящими учителями его времени.
Из Дромо мы не спеша прибыли в Гьянцзе, где индийская кавалерия, как и в прошлый раз, опять выстроилась, чтобы взять "на караул". Но теперь мы не торопились, как тогда, и я смог остановиться здесь на несколько дней. Затем мы отправились в монастырь Самдинг, местопребывание Бодхисаттвы Дорже Пагмо. Монастырь этот один из красивейших в Тибете. Местность по дороге к нему очень живописна: кобальтово-синие озера окаймлены сочными зелеными пастбищами, на них паслись тысячи овец. Это зрелище было самым чудесным из всех, виденных мною прежде. Время от времени я замечал стаи оленей и газелей, которые в те дни в изобилии водились повсюду в Тибете. Мне нравилось смотреть, как они стоят, настороженно наблюдая за нашим приближением, а затем отпрыгивают, отталкиваясь своими длинными изящно изогнутыми ногами.