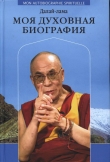Текст книги "Свобода в изгнании. Автобиография Его Святейшества Далай Ламы Тибета."
Автор книги: Нгагва́нг Ловза́нг Тэнцзи́н Гьямцхо́
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Но обнаружилось и несколько сюрпризов. Одним из них стало назначение членом вновь созданного департамента безопасности Лобсан Самтэна, настолько доброго и мягкого человека, что нельзя было выбрать менее подходящего для такой работы, чем он. Я никогда не забуду выражение его лица, когда он вернулся после встречи со своим китайским коллегой. Все шло хорошо, пока этот человек не обратился к Лобсан Самтэну (который немного говорил по-китайски) с вопросом, как будет по-тибетски "убей его". Вплоть до этого момента мой брат считал этого нового работника очень приятным и откровенным человеком, но вопрос его ошеломил. Мысль убить даже насекомое настолько была чужда его убеждениям, что он не мог вымолвить ни слова. Когда он в тот же вечер появился в Норбулингке, его лицо выражало полное замешательство. "Что же мне делать?" – спрашивал он. Эта история представляет собой еще одну иллюстрацию отношения к жизни китайца и тибетца. Для одного убийство человеческого существа – дело житейское, а для другого – совершенно немыслимое.
Вскоре после открытия ПКАРТ я услышал, что китайские власти в Кхаме предприняли попытку склонить на свою сторону местных лидеров. Они собрали их всех вместе и попросили проголосовать за введение "демократических реформ", конкретно означавших организацию нескольких тысяч сельскохозяйственных кооперативов, в состав которых должны были войти более ста тысяч личных хозяйств в области, включающей Гарчу и Карзе. Из трехсот пятидесяти человек, которых они собрали, около двухсот согласились участвовать в реформах в том случае когда я и мой кабинет дадим согласие на их проведение. Сорок человек выразили готовность принять их сразу же, а остальные заявили, что они никогда не примут этих так называемых реформ. После этого всех отпустили по домам.
Месяц спустя опять собрали несогласных, на этот раз в крепости под названием Чомда Дзонг, которая находится на северо-востоке Чамдо. Как только они очутились внутри, здание было окружено пятью тысячами солдат НОАК, и пленникам было объявлено, что их не выпустят, пока они не согласятся принять реформы и не дадут обещание, что будут помогать их проведению. После двухнедельного заточения кхампинцы сдались. Казалось, выхода не было. Однако в ту ночь охрану крепости уменьшили и, увидев благоприятную возможность, все узники бежали и скрылись в горах. Так одним махом китайцы создали собственными руками ядро людей, стоящих вне закона, которые в ближайшие годы причинили им немало трудностей.
Инцидент в Чомда Дзонге произошел приблизительно в то же самое время, когда мне дали экземпляр газеты, издававшейся китайскими властями в Карзе, провинция Кхам. Не веря своим глазам, я увидел фотографию, на которой были изображены разложенные в ряд отрубленные головы. Подпись была примерно такого содержания, что эти головы принадлежат "реакционным преступникам". Это было первое конкретное доказательство зверств китайцев, которое я видел. Впоследствии я узнал, что все ужасы, которые я слышал о поведении новых хозяев, были правдой. Китайцы, со своей стороны, понимая, что эта газета может иметь отрицательное воздействие на людей, попытались помешать ее распространению – даже предлагая купить весь тираж. Имея эту новую информацию и к тому же поняв, что ПКАРТ – не что иное, как "цума" (очковтирательство), я стал искать хоть какую-то надежду на будущее. Предсказание моего предшественника начинало сбываться с большой точностью. У меня было тяжело на сердце. Однако внешне моя жизнь протекала во многом, как раньше: молился, медитировал, напряженно учился под руководством наставников, как и прежде, продолжал участвовать во всех религиозных праздниках и церемониях и время от времени получал различные учения. Иногда я использовал свое право на передвижение и уезжал из Лхасы, чтобы посетить монастыри. Одна из моих поездок была в монастырь Ретинг, резиденцию бывшего Регента, расположенный в нескольких днях пути к северу от Лхасы. Незадолго до отъезда я получил письмо от одного видного тибетца, который жил уже в эмиграции. Ситуация в Лхасе стала такой гнетущей, что даже я стал проявлять подозрительность и прежде, чем вскрыть письмо, держал его при себе, осторожно перекладывая на ночь под подушку, пока не уехал в Ретинг.
Каким облегчением было выехать из города и отвлечься от безумных попыток одновременно сотрудничать с китайскими властями и уменьшать вред, который они наносили. Как всегда, я путешествовал как можно более незаметно и старался оставаться инкогнито. Так я мог встречаться с местными жителями и слушать, что они говорят. Один раз недалеко от Ретинга у меня завязался разговор с одним пастухом. "Ты кто?" – спросил он. "Слуга Далай Ламы", – ответил я. Мы поговорили о его жизни в деревне, о его надеждах и опасениях. Он мало знал о китайцах и никогда не был в Лхасе. Он был слишком занят, добывая пропитание на своей бедной неплодородной земле, чтобы беспокоиться о том, что происходит в городах и во внешнем мире.
Но несмотря на всю простоту этого человека, я с радостью обнаружил, что у него была глубокая религиозная вера, и что Дхарма Будды процветает даже в его глухом краю. Он жил, как живут крестьяне во всем мире, в гармонии с природой и всем, что его окружает, но не проявляя большого интереса к миру, лежащему за пределами его непосредственного поля зрения. Я спросил, что он думает о местных правительственных чиновниках. Он сказал, что большинство из них справедливы, хотя есть несколько лезущих не в свое дело. Я был очень доволен нашей беседой, позволившей мне сделать много полезных открытий. Прежде всего, я узнал, что несмотря на то, что этот человек не получил совершенно никакого образования, он был удовлетворен и хотя у него не было материального достатка, он точно знал, что его жизнь нисколько не отличается от жизни бесчисленных поколений его предков и, несомненно, будет оставаться такой же для его детей и детей его детей. В то же время я понимал, что такой взгляд на мир уже недолговечен, что Тибет не может больше существовать в избранной им для своего спокойствия изоляции, независимо от того, как разрешатся взаимоотношения с китайскими коммунистами. Мы расстались с этим пастухом лучшими друзьями.
Но эта история имела продолжение. Случилось так, что на следующий день мне предстояло встретиться с населением следующей деревни, которая лежала на моем пути, и дать им свое благословение. Для меня соорудили что-то вроде трона, собралось несколько сотен людей. Сначала все шло хорошо, но затем, оглянувшись по сторонам, я увидел моего вчерашнего друга, стоявшего среди собравшихся с выражением крайнего замешательства на лице. Он не мог поверить своим глазам. Я улыбнулся ему в ответ, но он лишь бессмысленно на меня уставился. Я пожалел, что обманул его. Когда мы прибыли в монастырь Ретинг, я пошел поклониться главной статуе и вдруг без всякой особой причины ощутил сильное волнение. Меня пронизало чувство, что я каким-то образом был долго связан с этим местом. С тех пор у меня часто появляется мысль построить в Ретинге келью и провести там остаток своей жизни.
Летом 1956 года произошел инцидент, который огорчил меня больше, чем все события до или после. Союз борцов за свободу Кхама и Амдо стал одерживать значительные победы. К маю-июню было разрушено много участков китайской военной дороги, а также большое количество мостов. В результате НОАК вызвала сорок тысяч солдат подкрепления. Это было именно то, чего я боялся. Как бы успешно ни шло сопротивление, китайцы все равно подавили бы его в конце концов одним только численным перевесом и превосходством огневой мощи. Но я не мог предвидеть воздушной бомбардировки монастыря Литанг в Кхамс. Услышав об этом, я заплакал. Я не мог поверить, что люди способны на такую жестокость по отношению друг к другу. За этой бомбардировкой последовали безжалостные пытки и казни женщин и детей, отцы и мужья которых участвовали в движении сопротивления, и, что совершенно неслыханно, отвратительное оскорбление монахов и монахинь. После ареста этих простых, религиозных людей принуждали публично совершать друг с другом нарушение обета безбрачия и даже убивать людей. Я не знал, что мне делать, но делать что-то я был должен. Я немедленно потребовал встречи с генералом Чжаном Го-хай, которого поставил в известность, что намереваюсь написать лично Председателю Мао. "Как тибетцы могут доверять китайцам, если вы так поступаете?" – заявил я ему. Я решительно высказался, что они не имеют права делать такие вещи. Но это только вызвало ответные аргументы. Моя критика – это оскорбление Родины-Матери, которая хочет лишь одного: защитить мой народ и помочь ему. Если кто-то из моих соотечественников не хочет реформ – реформ, которые принесли бы благо массам, потому что защитили бы их от эксплуатации – тогда они должны быть готовы к тому, что их накажут. Его доводы были рассуждениями невменяемого. Я сказал, что это не может никоим образом оправдать пытки невинных людей, а тем более бомбардировку их с воздуха.
Разумеется, это было бесполезным занятием. Генерал твердо стоял на своем. Моя единственная надежда состояла в том, чтобы Председатель Мао понял, что подчиненные не подчиняются его указаниям.
Я отправил письмо немедленно. Ответа не было. Поэтому я послал еще одно, снова по официальному каналу. В то же самое время я убедил Пунцога Вангьела передать третье письмо лично Мао. Но и его судьба осталась неизвестной. Когда прошли недели, а я не получил никакого ответа из Пекина, я впервые стал сомневаться относительно намерений китайского руководства. Это потрясло меня. После визита в Китай, вопреки множеству неприятных впечатлений, полученных мною, мое отношение к коммунистам оставалось еще в своей основе положительным. Однако теперь я стал понимать, что слова Мао были похожи на радугу – красивые, но пустые.
Пунцог Вангьел прибыл в Лхасу во время открытия ПКАРТ. Я был очень рад увидеть его снова. Он оставался все так же привержен коммунизму. После апрельских праздников Пунцог сопровождал некоторых высокопоставленных китайских должностных лиц в поездке по отдаленным районам. По возвращении он рассказал мне забавную историю. Один из высокопоставленных китайцев спросил крестьянина, который жил в отдаленной сельскохозяйственной общине, что он думает о новом режиме. Крестьянин ответил, что он совершенно счастлив. "Только вот если бы не одна вещь – этот новый налог". "Какой новый налог?" – спросил чиновник. "Хлопательный налог. Каждый раз, когда к нам приезжает китаец, все мы должны собираться и хлопать".
Мне всегда казалось, что пока Пунцог Вангьел пользуется доверием Председателя Мао, Тибет еще может на что-то надеяться. Когда он в очередной раз отправился в Пекин, я обратился к генералу Чжану Дзинь-у с предложением, чтобы Пунцог Вангьел был назначен партийным секретарем в Тибете. Сначала эта идея была в принципе одобрена, но только много времени спустя я услышал об этом что-то еще. В конце 1957 года китайский сотрудник информировал меня, что Пунцог Вангьел больше не приедет в Тибет, потому что он оказался опасным человеком. Я слушал с изумлением, потому что знал, что Председатель Мао высоко ценит его. Этот сотрудник объяснил, что тому существует несколько причин, первая и самая главная – это то, что когда он жил в Кхаме перед приездом в Лхасу, он организовал отдельную Тибетскую Коммунистическую партию, в которую не принимались в качестве членов лица китайской национальности. За это преступление его сместили с должности и запретили возвращаться в Тибет. Мне было печально услышать это – и еще более печально было узнать на следующий год, что мой старый друг снят с работы и арестован. В конце концов его посадили в тюрьму, где он оставался, получив официальное обозначение "неличность", до конца 1970-х годов – и все несмотря на то, что, как мог заметить любой, он был искренним и преданным коммунистом. Это привело меня к выводу, что китайское руководство – не истинные марксисты, посвятившие себя борьбе за лучший мир для всех, а просто крайние националисты. На самом деле эти люди были никем иным, как китайскими шовинистами, представлявших себя коммунистами: сборище узколобых фанатиков.
Пунцог Вангьел еще жив, хотя теперь уже и очень стар. Я очень хотел бы увидеть его еще раз, пока он не умер. Я продолжаю глубоко уважать его как старого опытного тибетского коммуниста. Нынешние власти в Китае знают об этом, и у меня еще есть надежда, что мы встретимся.
Весной 1956 года Лхасу посетил желанный гость – Махарадж Кумар, наследный принц Сиккима, крошечного государства, расположенного вдоль части нашей границы с Индией недалеко от Дромо. Он был очень приятным человеком: высокий, сдержанный, мягкий и спокойный, с большими ушами. Принц привез с собой чудесную новость в письме от индийского общества Махабодхи, президентом которого он был. Эта организация, которая представляет буддистов всего субконтинента, приглашала меня участвовать в празднествах "Будда Джаянти", которыми отмечалась 2500-я годовщина со дня рождения Будды.
Я был вне себя от радости. Для нас, тибетцев, Индия – это "Арьябхуми", Страна Святости. Всю свою жизнь я мечтал совершить туда паломничество: больше всего я хотел посетить именно эту страну. Кроме того, поездка в Индию дала бы мне возможность говорить с Пандитом Неру и другими духовными наследниками Махатмы Ганди. Я отчаянно хотел установить контакт с индийским правительством, хотя бы только для того, чтобы увидеть путь, по которому развивается демократия. Конечно, была вероятность, что китайцы меня не отпустят, но я должен был приложить все силы. Поэтому я пошел к генералу Фан Мину, взяв с собой это письмо.
К сожалению, Фан Мин был, несомненно, самым неприятным человеком из всех местных представителей китайских властей. Он принял меня достаточно вежливо. Но когда я объяснил причину своего прихода, он стал отвечать уклончиво. Эта мысль не представлялась ему здравой. В Индии много реакционеров. Это опасная страна. Кроме того, у Подготовительного Комитета очень много работы, и он сомневается, что без меня смогут обойтись. "Во всяком случае, – сказал он, – это только приглашение от религиозного общества, совсем не то, что приглашение от самого правительства Индии. Поэтому не беспокойтесь, вы вовсе не обязаны принимать его". У меня опустились руки. Было очевидно, что китайские власти намереваются препятствовать мне даже в выполнении моих религиозных обязанностей.
Прошло несколько месяцев, о "Будда Джаянти" больше не было сказано ни слова. Затем где-то около середины октября Фан Мин обратился ко мне с вопросом, кого я хочу назначить главой делегации: индийцам надо знать это. Я ответил, что я послал бы Триджанга Ринпоче, моего Младшего наставника, добавив, что делегация готова ехать, как только он даст разрешение. Прошло еще две недели, и я уже стал забывать всю эту историю, как вдруг пришел Чжан Дзинь-у, который только что вернулся из Пекина, чтобы сообщить мне: китайское правительство решило, что было бы неплохо, если бы я поехал сам. Я был так рад, что не верил своим ушам. "Но будьте осторожны", – предостерег он меня. "В Индии много реакционных элементов и шпионов. Если вы попытаетесь иметь с ними какие-то дела, то я хочу, чтобы вы поняли: в Тибете произойдет то, что произошло в Венгрии и Польше. (Он намекал на жестокое подавление Россией восстаний в этих странах). Когда он кончил говорить, я понял, что должен скрыть свою радость и сделал все, чтобы показаться обеспокоенным. Я сказал, что глубоко удивлен и озабочен его информацией об империалистах и реакционерах. Это успокоило Чжана, и он перешел на более мирный тон. "Не надо так беспокоиться", – сказал он, – "Если у вас будут какие-то трудности, наш посол всегда придет на помощь". На этом встреча окончилась. Генерал встал и, соблюдая по своему обычаю все формальности, покинул меня. Как только он ушел, я выскочил и, улыбаясь до ушей, рассказал новость своему персоналу.
Через несколько дней я услышал интересную историю об этом повороте китайских властей на сто восемьдесят градусов. Стало известно, что индийское консульство в Лхасе запросило моих чиновников, собираюсь ли я в Индию, чтобы принять участие в празднествах. Получив отрицательный ответ, индийцы передали это известие своему правительству – в результате г-н Неру лично выступил в мою защиту. Однако, китайские власти все еще не хотели отпускать меня. И только когда Чжан приехал в Лхасу и обнаружил, что индийский консул рассказал некоторым людям о вмешательстве Неру, китайцы под угрозой повреждения китайско-индийским отношениям были вынуждены изменить свое решение.
В конце концов я выехал из Лхасы в конце ноября 1956 года, радуясь перспективе свободно передвигаться без постоянного надзора китайцев. Моя свита была довольно небольшой, и благодаря военным дорогам, которые пересекали теперь весь Тибет с севера на юг и с востока на запад, соединяя его с Китаем, мы почти весь путь до Сиккима проделали на автомобиле. В Шигацзе мы остановились, чтобы дать возможность присоединиться к нам Панчен Ламе, а затем продолжали путь на Чумбитханг, последнее селение перед перевалом Натху, через который проходит граница. Здесь сменили автомобили на лошадей, и я попрощался с генералом Динь Мини, который сопровождал нас из Лхасы. Он казался глубоко опечаленным расставанием со мной. Думаю, он был убежден, что моя жизнь подвергается опасности со стороны иностранных империалистов, шпионов, реваншистов и всех остальных демонов коммунистического пантеона. Он дал мне еще много напутствий в духе генерала Чжана и убеждал быть осторожным, добавив, что я должен объяснять всякому иностранному реакционеру, с которым встречусь, какой прогресс имеется в Тибете с тех пор, как произошло "Освобождение". Если они не поверят мне, сказал он, то могут приехать в Тибет и увидеть все собственными глазами. Я заверил его, что буду стараться, и на этом повернул моего пони в гору, начав длинное восхождение наверх, в пелену тумана.
На вершине перевала Натху находилась большая пирамида из камней, увешанная разноцветными молитвенными флагами. По обычаю каждый из нас добавил по камню в пирамиду, мы прокричали изо всех сил "Лха Гьел Ло!" ("Победа богам!") и начали спускаться в королевство Сикким. На другой стороне чуть ниже вершины перевала нас встретила в тумане группа приветствующих, которая состояла из военного оркестра, игравшего тибетский и индийский национальный гимны, и нескольких официальных лиц. Од ним из них был г-н Апа Б. Пант, бывший индийский консул в Лхасе, а ныне политический сотрудник в Сиккиме. Присутствовал также Сонам Топгьел Кази, сиккимец, который был моим переводчиком во время всего визита. И, конечно же, мой друг Тхондуп Намгьел, Махарадж Кумар, тоже был здесь.
От границы меня с эскортом проводили до небольшого поселения на самом берегу озера Цонго, где нам предстояло провести ночь. К тому времени стало уже очень темно и холодно, и снег покрывал землю толстым ковром. Прибыв в селение, я обнаружил прекрасный сюрприз: встретить меня туда приехал и Такцер Ринпоче и Гьело Тхондуп, их обоих я не видел уже несколько лет. Лобсан Самтэн и маленький Тэнзин Чойгьел ехали со мной, так что сейчас впервые в жизни встретились все пять братьев.
На следующий день мы отправились в Гангток, столицу Сиккима, сначала на пони, затем на джипе, а потом на последнем участке пути в автомобиле, принадлежащем Махарадже (королю) Сиккима. В этом месте меня встретил сам Махараджа Сиккима сэр Таши Намгьел. За этим последовал забавный, но красноречивый эпизод. Лишь только мы въехали в город, наш эскорт остановился посреди большой толпы собравшихся людей. Тысячи жителей города, включая множество веселых школьников, стеснили нас со всех сторон, бросая шарфы ката и цветы и не давая нам тронуться, как вдруг, откуда ни возьмись, появился неизвестный молодой китаец. Не говоря ни слова, он сорвал тибетский флаг, развевавшийся на одном крыле автомобиля симметрично сиккимскому государственному флагу, и заменил его китайским вымпелом.
Мы провели в Гангтоке одну ночь, а рано утром выехали в аэропорт Багдогра. Помню, насколько это было малоприятное путешествие. Я очень устал за всю дорогу от Лхасы, а кроме того, накануне вечером состоялся пышный банкет. В довершение всего, на завтрак мне подали лапшу, а затем в автомобиле, когда мы спустились на индийскую равнину, стояла страшная духота.
Ожидавший нас самолет был намного комфортабельнее, чем тот, на котором я летал в Китае. На нем мы прилетели в Аллахабад, где сделали остановку на обед, а затем этим же самолетом прибыли в аэропорт Палам в Нью-Дели. Когда мы проносились на высоте тысяч футов над густонаселенными индийскими городами и сельскими районами, я думал о том, насколько по-разному воспринимаются Индия и Китай. Я еще никогда не был здесь, но уже чувствовал, какая огромная пропасть существует между укладами жизни в этих двух странах. Так или иначе, Индия была гораздо более открытой и свободной.
Это впечатление еще усилилось, когда мы приземлились в индийской столице. Был выстроен большой почетный караул, нас встречали г-н Неру, премьер-министр, и д-р Радхакришнан, вице-президент. Все это было гораздо красочнее и торжественнее, чем все, что я видел в Китае, но в то же время, каждое слово и в приветственной речи премьер-министра, и в частной беседе с деятелями не столь высокого ранга, носило оттенок искренности. Люди выражали свои чувства, а не проговаривали то, что, как они считали, обязаны говорить. Не было никакого притворства.
Из аэропорта я поехал прямо в Раштрапатхи Бхаван, чтобы встретиться с Президентом Индии д-ром Раджендрой Прасадом. Я увидел перед собой тихого старого человека, медлительного и очень скромного. Особенно неприметно он выглядел на фоне своего личного адъютанта, высокого блестящего офицера в форме, и в присутствии своей внушительной церемониальной личной охраны.
На следующий день я совершил паломничество к Радж-гхату на берегу реки Джамны, где произошла кремация Махатмы Ганди. Здесь было тихо и красиво, и я чувствовал счастье оттого, что пребываю здесь, что я гость народа, который, как и мой народ, страдал от иностранного господства; что нахожусь в стране, которая приняла принцип ахимсы, учение Махатмы о ненасилии. Когда я молился, стоя там, я ощущал одновременно и большую печаль, потому что не имел возможности встретится с Ганди лично, и великую радость, которую давал мне замечательный пример его жизни. Для меня он был – и продолжает оставаться – идеальным политиком, человеком, который поставил свою веру в альтруизм выше всяких личных соображений. Я был убежден также, что его преданность движению ненасилия – это единственный путь ведения политики.
Следующие несколько дней были посвящены празднованию "Будда Джаянти". Участвуя в нем, я говорил о своей вере в то, что учение Будды может вести не только к миру в душах отдельных людей, но и к миру между народами. У меня также была возможность участвовать в дискуссиях со многими последователями Ганди о том, как удалось Индии добиться независимости путем ненасилия.
Одно из главных моих открытий в этом отношении состояло в том, что в Индии, хотя банкеты и приемы, на которые меня часто приглашали, были гораздо менее утонченными, чем те, на которых я присутствовал в Китае, на них преобладала атмосфера чистосердечия, способствующая развитию искренних дружеских отношений. Это было прямо противоположно тому, что я испытал в Китайской Народной Республике, где существовало мнение, что возможно изменить мировоззрение людей, оказывая на них давление. Теперь у меня было с чем сравнивать, и я мог сам убедиться, что это ошибочное представление. Только путем развития взаимоуважения, в обстановке искренности может поддерживаться дружба. Только так можно изменить взгляды людей, но никак не силой.
В результате этих наблюдений и помня старую тибетскую пословицу, что узнику, которому удалось бежать, не стоит попадаться снова, я стал подумывать о том, чтобы остаться в Индии. Я решил воспользоваться возможностью и попросить о предоставлении мне политического убежища, когда встречусь с Пандитом Неру, – что я вскоре и сделал.
Я встречался с премьер-министром несколько раз. Это был высокий красивый человек, нордические черты которого еще больше подчеркивала маленькая гандистская шапочка. По сравнению с Мао он казался менее самоуверенным, и в нем не было ничего от диктатора. Он был правдивым человеком – вот почему позднее Чжоу Энь-лаю удалось ввести его в заблуждение. Во время нашей встречи я подробно изложил полную историю того, как китайцы захватили нашу миролюбивую страну, как мы были не подготовлены к встрече врага, как я отчаянно пытался сотрудничать с китайцами, поскольку осознавал, что никто во внешнем мире не готов признать наше законное право на независимость. Сначала он слушал и вежливо кивал. Но думаю, что моя страстная речь оказалась, может быть, слишком длинной для него, и через некоторое время стало видно, что его внимание ослабло: он почти перестал кивать. Наконец, он взглянул на меня и сказал, что понял, о чем я говорю. "Но вы должны уяснить", – продолжал он несколько раздраженно, – "что Индия не может поддержать вас". Когда он говорил на своем четком, прекрасном английском языке, его длинная нижняя губа вибрировала как бы в такт звукам его голоса. Это было плохо, но не совсем неожиданно. И хотя Неру уже ясно дал понять, какова его позиция, я продолжил разговор, сказав, что думаю попросить убежища в Индии. Он опять возразил: "Вы должны вернуться в свою страну и постараться работать с китайцами на основе "Соглашения из семнадцати пунктов". Я не согласился с ним, ответив, что уже пытался сделать все возможное, и добавил, что всякий раз, когда я думал, будто достиг понимания со стороны китайских властей, они обманывали мое доверие. А теперь обстановка в восточном Тибете настолько плоха, что я боюсь массовых насильственных выступлений, которые могут закончиться уничтожением целой нации. Как же я могу поверить, что "Соглашение из семнадцати пунктов" останется в силе? Наконец, Неру сказал, что он лично поговорит на эту тему с Чжоу Энь-лаем, который должен был прибыть в Индию как раз на следующий день, сделав остановку по пути в Европу. Он также обещал договориться о моей встрече с китайским премьер-министром.
Неру сдержал свое слово, и на следующее утро я поехал вместе с ним в аэропорт Палам, где он организовал мою встречу с Чжоу тем же вечером. Когда мы встретились, я увидел, что мой старый приятель все такой же, каким я помнил его: полон обаяния, приветливости и коварства. Но я не стал играть с ним в его хитрые игры и сказал совершенно откровенно, что озабочен тем, как ведут себя в восточном Тибете китайские власти. Я высказался также о том, что заметил значительную разницу между индийским парламентом и китайской государственной системой, заключающуюся в свободе народа Индии выражать свои истинные чувства и критиковать правительство, если они считают это необходимым. Как обычно, Чжоу внимательно выслушал, прежде чем начал отвечать, и его слова просто ласкали слух. "Вы были в Китае еще во время Первой Ассамблеи", – сказал он, – "с тех пор была уже проведена Вторая Ассамблея, и все значительно переменилось к лучшему". Я не поверил ему, но спорить было бесполезно. Затем он сказал, что до него дошел слух, будто я думаю остаться в Индии. Это было бы ошибкой, предостерег он. Я нужен моей стране. Возможно, это было верно, но у меня осталось чувство, что мы ничего не решили.
Два моих брата, Такцер Ринпоче и Гьело Тхондуи, также встречались с Чжоу Энь-лаем – "Чю энд Лай" (Замышляй и Лги): так назвала его одна индийская газета, когда он был в Дели. Они были даже еще более откровенны, чем я, и сказали ему, что не имеют никакого намерения возвращаться в Лхасу, хотя он настойчиво просил их сделать это. Тем временем я, наконец начал свое паломничество к святым местам Индии, во время которого постарался выбросить из головы всякую политику. К сожалению, оказалось совершенно невозможным стряхнуть с себя тревожные мысли о судьбе моей страны. Панчен Лама, который сопровождал меня повсюду, был постоянным напоминанием о нашем ужасном положении. Это был не тот добрый и скромный мальчик, которого я знал раньше: постоянное давление китайцев, которое испытывал на себе его незрелый ум, неизбежно сделало свое дело.
Но все же у меня было несколько моментов, когда я мог полностью отдаться глубоким чувствам радости и благоговения, пока совершал поездку по всей стране, от Санчи к Аджанте, затем в Бодхгайю и Сарнатх: я чувствовал, что вернулся на свою духовную родину. Все казалось необъяснимо знакомым.
В Бихаре я посетил Наланду, самый большой и наиболее знаменитый буддийский университет, который лежит в руинах уже сотни лет. Здесь учились многие тибетские ученые, и теперь, когда я смотрел на жалкие груды камней – все, что осталось от колыбели глубочайшей буддийской философии – я снова убеждался, насколько верно учение о непостоянстве.
Наконец я достиг Бодхгайи. Я чувствовал себя глубоко взволнованным тем, что нахожусь в том месте, где Будда достиг Просветления. Но мое счастье было недолговечным. Пребывая там, я получил записку от своих китайских сопровождающих, в которой говорилось, что Чжоу Энь-лай возвращается в Дели и желает видеть меня. Затем, уже в Сарнатхе, я получил телеграмму от генерала Чжана Дзинь-у, в которой мне предлагалось вернуться в Лхасу немедленно. Вероломные реакционеры и пособники империалистов замышляют переворот, и мое присутствие настоятельно необходимо – так было сказано в ней. Я приехал обратно в Дели, на вокзале меня встречал китайский посол. Он сказал, чтобы я отправился с ним в его автомобиле в посольство, чем были очень встревожены мой гофмейстер и телохранитель. В посольстве я встретился с Чжоу Энь-лаем. Так как эти двое боялись, что меня похитят, они приехали к посольству, и не будучи уверены, действительно ли я нахожусь там, попросили кого-то передать мне свитер, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Тем временем у меня состоялся откровенный разговор с Чжоу. Он сообщил, что ситуация в Тибете ухудшилась, заметив, что китайские власти готовы использовать силу, чтобы подавить всякое народное восстание.
Здесь я вновь заявил, довольно резко, что обеспокоен той линией поведения, которую проводят китайцы в Тибете, заставляя нас принимать нежелательные реформы, несмотря на неоднократные недвусмысленные заверения в том, что не будут делать ничего подобного. Он отвечал, как всегда, с приятной улыбкой, что Председатель Мао объявил, будто никакие реформы не будут вводиться в Тибете по крайней мере еще шесть лет. А если и тогда мы будем еще не готовы, то они могут быть отложены хоть на пятьдесят лет, если это необходимо: Китай хочет только помочь нам. Видя, что не убедил меня, Чжоу продолжал, что понимает: я хочу нанести визит в Калимпонг. Это было правдой. Меня попросили дать некоторые учения многочисленному тибетскому населению, которое проживало там. Он убедительно советовал мне этого не делать, так как там "полно шпионов и реакционных элементов". Также добавил, что я должен доверять индийским деятелям с большой осторожностью: одни из них надежны, но другие опасны. Затем он переменил тему: не соглашусь ли я, – спросил он, – вернуться в Наланду и в качестве представителя Китайской Народной Республики вручить местной организации денежный чек и останки Тан-съена, китайского духовного мастера. Зная, что на этой церемонии будет присутствовать Пандит Неру, я согласился.