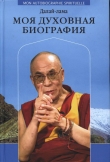Текст книги "Свобода в изгнании. Автобиография Его Святейшества Далай Ламы Тибета."
Автор книги: Нгагва́нг Ловза́нг Тэнцзи́н Гьямцхо́
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
На этот раз мне нравилось ехать верхом, хотя обычно я побаиваюсь лошадей. И даже не знаю, почему бы это, ведь я способен иметь дело почти со всеми другими существами кроме гусениц. Я без колебания могу взять в руки паука или скорпиона и ничего не имею против змей, но не слишком люблю лошадей и равнодушен к гусеницам. Тем не менее на этот раз я от души наслаждался скачками по широким равнинам и все время подгонял своего коня. На самом деле это был мул по имени Серые Колеса, некогда принадлежавший Ретингу Ринпоче. Он имел прекрасную скорость и выносливость, и мы с ним подружились. Однако главный конюх не одобрял моего выбора. Он считал, что этот мул слишком мал и недостоин того, чтобы на нем ехал верхом Далай Лама.
Монастырь Самдинг расположен недалеко от небольшого городка Нангарцзе, который, в свою очередь, находится рядом с озером Ямдрок, одним из самых удивительных озер, какие я когда-либо видел. Из-за того, что у него нет постоянных притоков и истоков воды, оно имеет изумительный бирюзовый цвет, который просто поражает воображение. К сожалению, я услышал недавно, что китайцы планируют осушить его воды в соответствии с каким-то гидроэлектрическим проектом, хотя я совершенно не могу себе представить, какой долговременный эффект это может дать.
В то время Самдинг был процветающей общиной. Интересно, что главой этого монастыря была по традиции женщина. Это не столь удивительно, как может показаться, потому что в Тибете не было дискриминации женщин. Например, недалеко от Лхасы в уединенном месте жила прославленная женщина-учитель, которая во времена моего детства была известна во всем Тибете. И хотя она не была "тулку", ее почитают и по сей день. Существовало также много женских монастырей, но мужской монастырь, возглавлявшийся женщиной, был только один.
Может показаться любопытным, что Дорже Пагмо называется так по имени Ваджраварахи – женского божества, по имени " Алмазная Свинья". Согласно легенде, воплощение Ваджраварахи обладало телом женщины и лицом свиньи. Рассказывают, как в восемнадцатом веке, когда отряд монгольских всадников появился в Нангарцзе, их вожак потребовал, чтобы настоятельница предстала перед ним. Он получил вежливый отказ. Разгневавшись, он сразу же пошел приступом на монастырь. Ворвавшись внутрь со своими воинами, он очутился в зале собраний, полном монахов: и там на троне, возвышаясь над ними, сидела огромная дикая свинья.
Во время моего визита главой монастыря Самдинг была молодая девушка примерно моего возраста. Когда мы прибыли, она вышла, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Помню ее очень застенчивой молодой девушкой с длинными косами. Впоследствии она бежала в Индию, но затем по неизвестным мне причинам вернулась в Лхасу, где многие годы ее эксплуатировали наши новые хозяева. Трагично, что этот монастырь и все принадлежащие здания были разрушены, как и тысячи других в конце 1950-х годов, и его древняя традиция угасла.
Я пробыл два или три дня в Самдинге перед тем, как пройти завершающий этап путешествия в Лхасу. Прежде чем возвратиться в Норбулингку, я проводил Татхага Ринпоче до его монастыря, расположенного в нескольких часах пути от городских ворот. Он любезно предоставил мне свои комнаты и перебрался на покрытую травой площадку позади главного здания, где обычно проводились диспуты. В течение последующих дней у нас было несколько официальных встреч. Когда расставались, мне было очень грустно покидать его. Я высоко его ценил и уважал. Меня очень печалило, что его репутация была несколько подорвана во время нахождения на должности Регента. Даже теперь я думаю, не лучше ли было ему оставаться ламой, а не заниматься политикой. Ведь у него не было никаких знаний об управлении страной и абсолютно никакого административного опыта. Было безрассудным ожидать от него, что он хорошо справится с делом, которому никогда не учился. Но таков Тибет. Ринпоче настолько уважали за духовные познания, что казалось совершенно естественным, чтобы он был назначен на вторую должность в стране.
Это был последний раз, когда я видел Татхага Ринпоче живым. При нашей последней встрече он просил меня не сердиться за те запреты, которыми окружал меня, когда я был ребенком. Меня очень растрогало, что такой старый и почтенный учитель захотел мне это сказать. Конечно, я его понял.
Возвратился я в Лхасу в середине августа. В мою честь был устроен большой прием. Казалось, все население Лхасы вышло, чтобы увидеть меня и выразить свое счастье по поводу моего возвращения. Я был глубоко тронут и в то же время очень рад, что опять дома. Единственное, что я знал вполне определенно – это что с прошедшей зимы многое переменилось. Ничего не сохранилось в прежнем состоянии. И казалось, мой народ испытывал тс же чувства: хотя все были полны радости, в их энтузиазме проскальзывала какая-то нотка истерии. Во время моего отсутствия в столицу стали поступать сообщения о жестокостях против тибетцев в Амдо и Кхаме. Естественно, люди были очень обеспокоены будущим, хотя я знал, что некоторым казалось: теперь, когда я дома, все будет хорошо.
Что касается моих личных дел, я с большой грустью узнал, что мой любимый уборщик Норбу Тхондуп умер в начале года – он был самым моим страстным товарищем по играм. Все мое детство этот человек являлся преданным другом и постоянным источником моих забав. Когда я был мал, он пугал меня, строя страшные рожи; когда стал старше, он присоединялся ко мне в самых моих бурных играх. Мы часто доходили до драки во время игр в войну, и я помню, что бывал довольно жесток по отношению к нему, я даже царапал его до крови мечами моих оловянных солдат, когда он ловил меня во время наших сражений. Но он всегда умел дать сдачи и никогда не терял своего великолепного чувства юмора. Теперь, конечно, я ничего не мог сделать для него, мог только чем-то помочь его детям, сыну и дочери. Как буддист я знал, что нет никакого смысла горевать. Но в то же время я понимал, что смерть Норбу Тхондупа некоторым образом символизирует конец моего детства. Возврата назад нет. Через несколько дней я снова должен был встретить китайскую делегацию, и должен был делать все, что мог для своего народа, хотя бы совсем немногое, никогда при этом не забывая, что занятие религией – это одна из самых важных вещей в жизни. А мне было еще только шестнадцать лет.
Я принял генерала Чжана Дзинь-у в соответствии с традицией в штаб-квартире моей личной охраны. Это привело его в ярость, и он потребовал ответа, почему я встретил его там, а не в более неофициальном месте. Он же не иностранец, настаивал он, и не хочет, чтобы с ним обращались как с иностранцем. Очевидно, он не принимал во внимание тот факт, что не умеет говорить по-тибетски. Сначала я был ошеломлен видом его вытаращенных глаз и побагровевших щек, когда он кричал, брызгая слюной, и заикаясь, и при этом стуча кулаком по столу. Впоследствии я обнаружил, что на генерала часто находили такие вспышки гнева. В такое время я напоминал себе, что он, может быть, в глубине души хороший человек – каковым он, в действительности, и оказался и, кроме того, – очень честным.
Что же касается вспышек его гнева, то вскоре я обнаружил, что они довольно обычны среди китайцев. И думаю, именно по этой причине с ними так почтительно обращаются некоторые люди, в частности, европейцы и американцы, которые склонны лучше контролировать свои эмоции. К счастью, моя религиозная подготовка помогла мне правильно оценить его поведение: я понимал, что в некотором отношении хорошо, когда люди выражают свой гнев таким образом. Хотя это и не всегда приятно, но обычно лучше, чем притворная вежливость и скрытая злоба.
Хорошо, что мне не надо было слишком уж часто иметь дела с Чжаном. Я встречался с ним, может быть, раз в месяц в первые год-два китайской оккупации. Больше всех с ним встречался Лукхангва и Лобсан Таши, а также члены Кашага, которым сразу же пришлось не по душе его поведение. Они рассказывали мне, что он высокомерен, самодур и не испытывает никакого уважения к нашим, отличающимся от его собственных, взглядам на жизнь. Всякий раз, когда мы встречались, я и сам видел, как он и его соотечественники оскорбляют тибетцев на каждом шагу.
Теперь я понимаю, что первые пять-шесть недель после моего возвращения в Лхасу были просто медовым месяцем. Он резко оборвался 26 октября 1951 года, когда трехтысячный отряд китайской 18-й армии вошел в Лхасу. Эти солдаты принадлежали к той дивизии, которая нанесла поражение нашим силам в Чамдо в прошлом году. С ними прибыли генералы Тань Куан-сэнь и Чжан Го-хай, которые пришли на прием в сопровождении тибетца в национальном костюме и меховой шапке. Когда они вошли в комнату, этот человек проделал в соответствии с этикетом три простирания. Мне это показалось довольно странным, ведь он явно был членом китайской делегации. Оказалось, что это переводчик и верный приверженец коммунистов. Когда я позднее спросил, почему он не носит такой же маоистский френч, как и его спутники, он добродушно ответил, что я не должен ошибочно думать, будто великая Революция была революцией одежд – это революция идей.
Приблизительно в то же время в Лхасу вернулся мой брат Гьело Тхондуп. Он пробыл здесь недолго, но пока был в городе, несколько раз встречался с китайским руководством. Затем он объявил о своем намерении отбыть на юг, где моя семья владела имением, дарованным ей правительством во время моего возведения на трон. Однако его ссылка на необходимость проверить состояние имущества была только уловкой, и вскоре я узнал, что он тайно перешел границу с Ассамом (известным позднее, как СВПЗ – Северо-восточная пограничная зона). Он собирался сделать все возможное для организации иностранной поддержки, но мне ничего не сказал о своих планах, так как боялся, принимая в расчет мой возраст, что я по неосторожности могу выдать его тайну.
Вскоре в Лхасу прибыли дополнительные большие подразделения НОАК. Я хорошо помню их приход. Из-за того, что Тибет расположен на большой высоте, звуки распространяются на дальние расстояния, и поэтому я слышал медленный настойчивый бой военных барабанов в своей комнате в Потале задолго до того, как увидел солдат. Я выскочил на крышу с подзорной трубой и наблюдал их приближение: они продвигались длинной, извивающейся, как змея, колонной, окруженной облаками пыли. Когда они подошли к городским стенам, над ними разлилось целое море красных знамен и плакатов с изображением Председателя Мао и его заместителя Чжу Дэ. Затем шел духовой оркестр с трубами и фанфарами. Все это очень впечатляло. Солдаты тоже производили сильное впечатление, в их облике было определенно что-то демоническое.
Чуть позже, когда я преодолел чувство тревоги при виде их красных флагов (ведь это же в природе – цвет опасности), я заметил, что форма у них превратилась в лохмотья и выглядят они истощенными. Кроме того, лица их были покрыты слоем пыли тибетских плоскогорий. Все это и придавало им такой устрашающий вид.
В течение зимы 1951-52 годов я продолжал свои занятия почти как обычно, но более прилежно. Именно в этот период я начал медитации по "Ламриму". Они связаны с текстом, в котором излагается постепенный, ступень за ступенью, путь к просветлению посредством тренировки психики. Примерно с восьмилетнего возраста я начал получать параллельно монашескому образованию тантрийские учения, подобные этому. Кроме текстов они включают в себя тайные устные учения, которые передаются через посвящения. По прошествии месяцев я стал замечать некоторый прогресс в самом себе по мере того, как закладывал основы, пусть пока и незначительные, моего собственного духовного развития.
В это время, находясь в своем ежегодном затворничестве, я услышал, что Татхаг Ринпоче скончался. Я очень хотел присутствовать на его кремации, но не смог и поэтому совершил за него специальные молитвы.
Другое мое занятие в эту зиму состояло в том, чтобы делать все возможное для поддержки моих премьер-министров и Кашага. Я напоминал им буддийский тезис о непостоянстве и указывал, что теперешняя ситуация не может длиться вечно, даже если она будет продолжаться всю нашу жизнь. Но сам я следил за событиями со все возрастающим беспокойством. Единственным приятным событием был предстоящий визит Панчен Ламы, скорого приезда которого ожидали в Лхасе.
Тем временем после прибытия последней двадцатитысячной партии войск возникла серьезная проблема нехватки продовольствия. Население Лхасы почти удвоилось за какие-то недели, и через не такой уж долгий срок наши скудные ресурсы должны были подойти к концу. Поначалу китайцы более или менее придерживались условий "Соглашения из семнадцати пунктов", в котором утверждалось, что НОАК должна "соблюдать законность во всякой купле-продаже и не брать самовольно у населения даже иголки или нитки". Они платили за то зерно, которое давало тибетское правительство, и возмещали стоимость владельцам домов, реквизированных для расквартирования офицеров.
Однако вскоре эта система компенсаций развалилась. Деньги перестали выплачиваться, и китайцы начали требовать пищу и жилье бесплатно. Очень быстро наступил кризис. Разразилась инфляция. Такого у нас никогда не было, и люди не понимали, как может цена зерна возрасти вдвое за одну ночь. Они были возмущены беззаконием, и та пассивная неприязнь, которую они испытывали к захватчикам, резко переросла в активное высмеивание их. Применяя традиционный способ изгнания зла, они стали хлопать в ладоши и плевать всякий раз, когда видели группы китайских солдат. Дети бросали в них камни, и даже монахи брали в руку свободный край своего одеяния и хлестали им всякого проходившего мимо солдата.
Тогда же начали петь оскорбительные песни про генерала Чжана Дзинь-у, которого дразнили из-за его золотых часов. А когда узнали, что многие его офицеры под своими внешне одинаковыми мундирами носят дорогие меховые подкладки, презрение тибетцев перешло всякие границы. Это приводило китайцев в бешенство, я полагаю, главным образом потому, что хотя они и знали: над ними смеются, но не понимали ни слова. Это уязвляло их гордость. Такое было равносильно потере лица, а это самая страшная вещь, которая может случиться с китайцем. Результатом всего этого стала занимательная сцена с генералом Чжаном. Однажды он пришел ко мне и потребовал, чтобы я издал указ, запрещающий всякую критику китайцев, будь то в песнях или плакатах, поскольку это "реакционная деятельность".
Однако вопреки новым законам, запрещающим выпады против Китая, на улицах начали появляться листовки, осуждающие присутствие китайцев. Формировалось народное движение сопротивления. Наконец был составлен меморандум из шести пунктов, перечисляющий бедствия народа и требующий убрать гарнизон. Меморандум послали непосредственно генералу Чжану. Это привело его в ярость. Он предположил, что этот документ был делом рук "империалистов" и обвинил двух премьер-министров в тайном сговоре. Напряжение нарастало. Полагая, что они могут обойти Лобсана Таши и Лукхангву, китайцы стали обращаться непосредственно ко мне. Сначала я отказался принимать их в отсутствие министров. Но однажды, когда Лобсан Таши сказал что-то такое, что особенно взъярило Чжана, последний рванулся к моему премьер-министру, как будто хотел его ударить. Недолго думая я бросился между ними с воплем, чтобы они прекратили немедленно. Я был в ужасе. Никогда я не видел, чтобы взрослые так себя вели. После этого я согласился принимать две данные фракции отдельно.
Взаимоотношения между китайскими лидерами и моими двумя премьер-министрами продолжали ухудшаться по мере того, как больше и больше чиновников и бюрократов стало прибывать из Китая. Эти люди совершенно не собирались позволять тибетскому правительству заниматься своими собственными делами, как это было обусловлено "Соглашением из семнадцати пунктов", и постоянно вмешивались. Генерал Чжан устраивал бесконечные собрания с участием Кашага, главным образом для обсуждения устройства чиновников, своих солдат и многих тысяч верблюдов и других вьючных животных. Лобсан Таши и Лукхангва уже отчаялись объяснить ему, что такие требования не только чрезмерны, но просто невыполнимы.
Когда генерал попросил о предоставлении во второй раз 2 тысяч тонн ячменя, им пришлось объяснять, что такого количества продовольствия просто не существует. Тибетское население города уже жило в страхе перед нехваткой еды, и то малое количество зерна, которое оставалось в правительственных хранилищах, могло обеспечить армию самое большее еще на два месяца. Они говорили ему, что не может быть разумной причины для сохранения таких больших сил в Лхасе. Если их цель состоит в том, чтобы защищать страну, они должны быть отправлены на границы. В столице должны остаться только должностные лица и, может быть, один полк или около того для их сопровождения. Как мне сказали, генерал воспринял это спокойно и ответил вежливо, но ничего не сделал.
После своего предложения о выводе войск премьер-министры стали терять всякое понимание со стороны генерала Чжана. Для начала он обрушил свой гнев на Лобсана Таши, старшего из двоих премьер-министров, который немного знал китайский язык. Это раздражало генерала, и он взялся обвинять монахов во всех грехах, какие только можно было представить, одновременно при этом восхваляя Лукхангву, в котором он видел потенциального союзника.
Однако обнаружилось, что Лукхангва, несмотря на свою молодость, человек по характеру более глубокий, и он никогда не пытался скрыть от генерала своих истинных чувств. Он презирал генерала даже просто как личность. Помню, однажды мне рассказали, что Чжан спросил Лукхангву, сколько чая он выпивает обычно, "Это зависит от качества чая", – ответил Лукхангва. Когда я услышал это, то засмеялся, но понял, что взаимоотношения между этими двумя людьми очень плохие.
Кульминация сей драмы произошла вскоре, когда Чжан устроил собрание с участием двух премьер-министров, Кашага и всех своих чиновников. Едва собрание началось, он объявил, что они собрались, чтобы обсудить вхождение тибетской армии в состав НОАК. Для Лукхангвы это было уже слишком. Он открыто заявил, что такая идея неприемлема. Не имеет значения, что это условие записано в "Соглашении из семнадцати пунктов". Условия соглашения столько раз нарушались китайцами, что данный документ потерял всякий смысл. Немыслимо, сказал он, чтобы тибетская армия изменила своей присяге в пользу НОАК.
Чжан выслушал это спокойно. "В таком случае, – сказал он, – мы начнем ни с чего иного, как заменим тибетский флаг на китайский". "Его сорвут и сожгут, как только вы это сделаете, – ответил Лукхангва, – а вы окажетесь в глупом положении". Он продолжал говорить, что абсурдно ожидать, чтобы тибетцы имели дружественные отношения с китайцами, нарушившими целостность Тибета. "Вы уже проломили человеку голову, – сказал он, – и эта рана еще не зажила. Слишком быстро вы хотите, чтобы он стал вашим другом". На этом Чжан пулей вылетел с собрания. Через три дня должно было состояться следующее.
Естественно, я не присутствовал на этих собраниях, но меня информировали обо всем, что там происходило. И было похоже на то, что мне придется участвовать в этом более активно, если положение не улучшится.
Собрание состоялось, как было запланировано, через три дня. На этот раз председательствовал другой генерал, Фан Мин. Он начал с высказывания, что, без сомнения, Лукхангва желает принести свои извинения за последнее выступление. Лукхангва сразу же поправил его. Он не имел ни малейшего намерения извиняться. Он настаивал на том, что уже сказал, и добавил, что считает своим прямым долгом давать китайцам полную информацию о точке зрения тибетцев. Народ встревожен присутствием такого множества китайских солдат. Кроме того, он обеспокоен тем, что провинция Чамдо не возвращена под управление центрального правительства, и нет никаких признаков, чтобы где-либо в Тибете НОАК собиралась возвращаться в Китай. Если были бы приняты предложения, касающиеся тибетской армии, то, несомненно, последовали бы волнения.
Фан Мин был вне себя от ярости. Он обвинил Лукхангву в сговоре с иностранными империалистами и сказал, что потребует, чтобы Далай Лама освободил его от занимаемой должности. Лукхангва ответил, что если его попросит Далай Лама, то он с радостью расстанется не только со своим постом, но и с жизнью. Это привело в замешательство все собрание, которое на том и закончилось.
Вскоре я получил письменный доклад, в котором китайцы утверждали как неоспоримый факт, что Лукхангва является империалистическим реакционером, который не хочет улучшения отношений между Китаем и Тибетом, и просили удалить его с поста. Мне передали также устное предложение Кашага, в котором выражалось мнение, что, вероятно, было бы лучше, если я попросил бы премьер-министров уйти в отставку. Это очень огорчило меня. Оба они проявили такую преданность и убежденность, такую честность и искренность, такую любовь к народу, которому они служили!
Когда примерно через день они пришли ко мне, чтобы подать в отставку, в глазах у них были слезы. Я тоже не мог сдержать слез. Но я понимал, что если я не смирюсь с этой ситуацией, то их жизнь будет в опасности. Поэтому с тяжелым сердцем я принял их отставку, сознавая, что должен, насколько это возможно, стремиться улучшить отношения с китайцами, с которыми мне теперь предстояло иметь дело непосредственно. Впервые я понял истинный смысл слов "принудить угрозами".
Примерно в то же время в Лхасу прибыл Панчен Лама. К своему несчастью, он был возведен в это звание при активном участии китайцев и только теперь направлялся в монастырь Ташилхунпо, чтобы занять там свое законное место. Когда он прибыл из провинции Амдо, вместе с ним явилось одно большое подразделение китайских войск (его "личная охрана"), а также семья и наставники.
Вскоре после прибытия молодого Панчен Ламы я принял его в официальной обстановке, а затем мы встретились неофициально за завтраком в Потале. Помню, с ним был очень бесцеремонный китайский офицер безопасности, который пытался войти, когда мы находились наедине. Моя собственная (церемониальная) личная охрана бросилась остановить его, в результате чего инцидент едва не закончился трагически: этот человек был вооружен.
В конце концов мне удалось провести некоторое время наедине с Панчен Ламой, и он произвел на меня впечатление очень честного и заслуживающего доверие молодого человека. Будучи на три года младше меня и не обладая положением, дающим власть, он сохранял простодушное выражение лица и был удивительно счастливым и приятным человеком. Я чувствовал к нему большое расположение. Оба мы еще не знали, какая трагическая жизнь предстоит ему.
Вскоре после визита Панчен Ламы меня снова пригласили в монастырь Татхага Ринпоче, где я очень тщательно и скрупулезно выполнял 15-часовую церемонию освящения "ступы" (памятника), посвященного моему гуру. Я чувствовал глубокую печаль, когда простерся перед ней во весь рост. После этого я совершил поход в горы и по окрестностям, чтобы отвлечься от тягот нашего бедственного положения.
Во время посещения монастыря мне показали кусок черепа Татхага Ринпоче, который сохранился после кремации. На нем ясно был виден отпечаток тибетской буквы, соответствующей его божеству-хранителю. Действительно, этот мистический феномен довольно обычен среди высоких лам. Когда таким образом обжигают кости, на них обнаруживаются буквы или изображения. Бывают случаи, как у моего предшественника, когда такие отпечатки наблюдаются на самом теле.
После вынужденной отставки Лукхангвы и Лобсана Таши ранней весной 1952 года последовал период тревожного перемирия с китайскими властями. Я использовал этот случай для создания Комитета по реформе, который я задумал еще во время поездки в Дромо больше года назад. Один из моих главных замыслов состоял в учреждении независимой системы судебных органов.
Как я уже упоминал в связи со случаем с Ретингом Ринпоче, я ничего не мог сделать, когда был несовершеннолетним, для того, чтобы помочь людям, которые вступали в конфликт с правительством, хотя мне часто этого хотелось. Я помню, например, случай с человеком, который, работая в администрации, был уличен в припрятывании золотого порошка, предназначенного для использования в создании икон "танка". Я наблюдал в свою подзорную трубу, как ему связали руки, посадили на мула задом наперед и изгнали из города. Это было традиционным наказанием за такие преступления.
Был и другой подобный случай, свидетелем которого я стал в Потале. С самого раннего возраста я знал несколько мест, откуда можно было, заглядывая через окна или световые люки, рассмотреть происходящее в тех комнатах, которые иначе я не мог увидеть изнутри. Один раз я таким образом наблюдал заседание секретариата Регента, который собрался, чтобы разобрать жалобу некоего арендатора на своего землевладельца. Я хорошо помню, каким несчастным выглядел этот человек. Он был совсем старым, маленького роста, сгорбленный, с седыми волосами и жидкими усами. К его несчастью, семья его хозяина и Регента (в то время еще Ретинга Ринпоче) были дружны между собой, и иск оказался отклоненным. Я всем сердцем был за него, но ничего не мог поделать. Поэтому теперь, когда я слышал о таких случаях несправедливости, я еще более убеждался в необходимости судебной реформы.
Также я хотел сделать что-нибудь в отношении образования. В то время еще не было системы всеобщего образования. Существовало несколько школ в Лхасе и горстка в сельской местности, но большей частью единственными центрами обучения были монастыри, а образование, которое они давали, было доступно только для членов монашеской общины. Соответственно, я дал указание Кашагу выдвинуть предложение для разработки хорошей программы по образованию.
Другой областью, в которой, как я считал, существовала настоятельная потребность в реформе, были коммуникации. В то время во всем Тибете не имелось ни одной дороги, и почти единственными колесными средствами передвижения были три автомобиля Тринадцатого Далай Ламы. Очевидно было, что множество людей получат огромную выгоду от системы дорог и транспорта. Но, как и образование, она требовала долговременной разработки, и я понимал, что должно пройти много лет, прежде чем здесь может быть достигнут прогресс.
Однако существовали вопросы, разрешение которых могло бы принести немедленные положительные результаты. Одним из них был вопрос отмены наследственных долгов. Эти долги были, как я узнал и от моих уборщиков и из бесед по пути в Дромо, настоящим бедствием для крестьян и сельских общин в Тибете. Было принято, что долги, причитающиеся землевладельцу от его арендатора, хотя бы они и происходили вследствие ряда неурожайных лет, передавались по наследству от одного поколения к другому. В результате многие семьи не могли обеспечить себе достойное существование, не говоря уже о надежде когда-нибудь расплатиться. Почти столь же пагубной была и система, по которой мелкие собственники земли могли делать займы у правительства во времена нужды. Здесь тоже долг был наследственным. Поэтому сначала я решил отменить принцип наследования долгов, а потом списать все долги по займам у правительства, которые не могли быть выплачены.
Зная, что эти реформы не могут быть очень популярны среди знати и богачей, я настоял, чтобы гофмейстер обнародовал эти декреты, но не обычным путем расклеивая плакаты в публичных местах. Вместо того я хотел, чтобы они были отпечатаны на бумаге при помощи деревянных пластин, как это делается при издании священных текстов. Так оставалось больше шансов, что информация будет широко распространена. Это помогло бы избежать вмешательства тех, кто мог захотеть помешать введению реформ, узнав о них заранее.
В условиях "Соглашения из семнадцати пунктов" было оговорено, что "местное правительство Тибета может проводить реформы по своему собственному усмотрению" и что эти реформы не будут объектом "давления со стороны властей (т. е. китайцев)". Но хотя эти первые попытки проведения земельной реформы сразу же принесли пользу многим тысячам людей, вскоре стало ясно, что наши освободители имеют совершенно противоположный подход к организации сельского хозяйства. Уже началась коллективизация в Амдо. Со временем она была навязана всему Тибету и вызвала повальный голод и смерти сотен тысяч тибетцев от голодного истощения. Хотя в дальнейшем власти и смягчили несколько "культурную революцию", последствия введения колхозного строя ощущаются до сих пор. Многие люди, посетившие Тибет, свидетельствуют, что в сельской местности из-за недоедания люди выглядят физически неразвитыми, щуплыми. Но тогда это было еще впереди. В то время я побуждал правительство сделать все возможное для искоренения старых и непродуктивных способов ведения хозяйства. Я был полон решимости приложить все силы к тому, чтобы продвинуть Тибет в двадцатое столетие.
Летом 1953 года, насколько я помню, я получил от Линга Ринпоче посвящение Калачакры. Это одно из самых значительных посвящений в тантрийской традиции, которое имеет особую важность для мира на земле. В отличие от других тантрийских ритуалов оно дается большим собраниям народа. Посвящение Калачакры очень сложно, и подготовка к нему занимает от недели до десяти дней, а само посвящение длится три дня. Одним из его элементов является сооружение из цветных порошков большой мандалы, то есть изображение в двух измерениях трехмерного символа. Когда я в первый раз увидел одну такую мандалу, я был просто вне себя, только взглянув на нее, настолько потрясающе красиво она выглядела.
Самой церемонии предшествует продолжающееся месяц затворничество. Я вспоминаю это посвящение как очень волнующее событие, которое сильно подействовало и на Линга Ринпоче, и на меня. Я понимал, что мне оказана огромная честь принимать участие в традиции, исполнявшейся бесчисленными поколениями последователей высочайших духовных мастеров. Когда я исполнял последнюю строфу молитвы-посвящения заслуг всем живым существам, я был так взволнован, что голос прервался от волнения; потом я стал считать, что это было благоприятным признаком, хотя тогда ничего такого не думал. Теперь мне кажется, то было предчувствием, что я смогу дать больше посвящений Калачакры, чем любой из моих предшественников, и во всех уголках земли. Это действительно так, несмотря на то, что я никоим образом не являюсь самым компетентным в этом человеком.