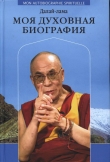Текст книги "Свобода в изгнании. Автобиография Его Святейшества Далай Ламы Тибета."
Автор книги: Нгагва́нг Ловза́нг Тэнцзи́н Гьямцхо́
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Результат был катастрофический. На следующее утро после молитв и завтрака я вышел на свежий утренний воздух, чтобы пройтись по саду, и вдруг услышал встревожившие меня отдаленные крики. Я поспешил внутрь и дал указание нескольким слугам выяснить, что это за шум вокруг. Вернувшись, они объяснили, что народ вышел из Лхасы и направляется в нашу сторону. Народ решил прийти, чтобы защитить меня от китайцев. Все утро число людей возрастало. Некоторые сходились в группы у каждого входа в Драгоценный Парк, другие стали окружать его. К полудню собралось, наверное, тысяч тридцать людей. В течение утра три члена Кашага никак не могли пробиться через толпу у главного входа. Люди проявляли враждебность к каждому, кого они считали виновными в сотрудничестве с китайцами. Один государственный деятель, вместе с которым в автомобиле находился его телохранитель, получил удар камнем и был тяжело ранен, потому что люди приняли его за предателя. Они ошибались. (В восьмидесятые годы его сын, который был членом делегации, принужденной подписать "Соглашение из семнадцати пунктов", приехал в Индию, где написал подробный отчет о том, что в действительности произошло). Но позднее кто-то был действительно убит.
Эта новость привела меня в ужас. Надо было что-то делать, чтобы разрядить обстановку. По доносившимся голосам показалось, что толпа в порыве гнева может даже попытаться атаковать китайский гарнизон. Народ тут же выбрал из своих рядов несколько лидеров, раздавались выкрики, призывающие китайцев оставить Тибет тибетцам. Я молился о том, чтобы все успокоилось. В то же самое время я понимал, что, каковы бы ни были мои личные чувства, не может быть и речи о том, чтобы поехать этим вечером в китайский штаб. Поэтому гофмейстер позвонил по телефону, чтобы передать мои сожаления по этому поводу, добавив по моему указанию, что я надеюсь на скорое восстановление нормальной обстановки и что толпу можно убедить разойтись.
Однако толпа у ворот Норбулингки и не собиралась трогаться с места. Как считал народ и их лидеры, жизни Далай Ламы грозила опасность со стороны китайцев, и они не должны уходить, пока я не дам личных заверений в том, что не поеду этим вечером в китайский военный штаб. Я передал такие заверения через одного моего сотрудника. Но этого оказалось недостаточно. Затем они стали требовать, чтобы я никогда не ездил в район расположения китайцев. Я опять дал свои заверения, после чего большинство лидеров ушли и направились в город, где были продолжены демонстрации; но многие люди остались у Норбулингки. К несчастью, они не понимали, что их продолжающееся присутствие представляет гораздо большую угрозу, чем их уход.
В тот же день я послал трех занимавших самые высокие посты министров, чтобы встретиться с генералом Тань Куан-сэнем. Когда они наконец добрались до его штаба, оказалось, что там уже находился Нгабо Нгаванг Джигмэ. Сначала китайцы были вежливы. Но когда появился генерал, он почти не скрывал своей ярости. Он и еще два других высших офицера в течение нескольких часов обрушивали на тибетцев поток слов о вероломстве "империалистических мятежников", добавив обвинение в адрес тибетского правительства в том, что оно тайно организует агитацию против китайских властей. Кроме того, оно игнорирует приказы китайских руководителей и отказывается разоружить "мятежников" в Лхасе. Теперь они могут быть уверены, что будут приняты крутые меры, чтобы сокрушить эту оппозицию.
Когда в тот же вечер в комнате для приемов министры доложили мне обо всем, я понял, что китайцы поставили ультиматум. Тем временем примерно в шесть часов около семидесяти младших сотрудников правительства вместе с оставшимися народными лидерами и членами моей личной охраны провели митинг у Драгоценного Парка и одобрили декларацию, отвергающую "Соглашение из семнадцати пунктов", добавив к этому, что Тибет больше не признает власть Китая. Когда я услышал об этом, то передал им, что долг лидеров состоит в том, чтобы уменьшить существующее напряжение, а не обострять его. Но мой совет, казалось, пропустили мимо ушей.
Позже в тот же вечер пришло письмо от генерала Тань Куан-сэня, в котором предлагалось в подозрительно мягких тонах, чтобы я в целях собственной безопасности переселился в его штаб. Меня изумила такая его наглость. Нельзя было и думать сделать что-либо подобное. Однако, для того, чтобы попытаться выиграть время, я написал ему, не выразив прямого отказа.
На следующий день, 11 марта, лидеры толпы объявили правительству, что они выставят караул у правительственного здания, которое находилось внутри внешней ограды Норбулингки. Это должно было помешать министрам покинуть территорию дворца. Они опасались, что если не будут сами контролировать события, китайские власти могут принудить правительство пойти на компромисс. В свою очередь, Кашаг провел встречу с этими лидерами и попросил их прекратить демонстрацию, так как она грозила перерасти в открытую конфронтацию.
Сначала лидеры проявили, готовность слушать, но затем от генерала Тань Куан-сэня пришло еще два письма. Одно из них было адресовано мне, другое Кашагу. Что касается первого из них, то оно походило на предыдущее, и я ответил на него опять вежливо, соглашаясь с тем, что в толпе действительно находятся опасные элементы, которые пытаются подорвать отношения между Китаем и Тибетом. Я согласился также, что было бы неплохо, если бы я для собственной безопасности перебрался в его штаб. (Но это опять было неосуществимо).
В своем другом письме генерал приказывал министрам дать указание толпе разобрать баррикады, воздвигнутые на дороге за Лхасой, ведущей в Китай. К несчастью, это имело пагубные последствия. Лидерам толпы показалось, будто своим пожеланием убрать баррикады китайцы явно давали понять, что они планируют ввести подкрепления, которые будут использованы для нападения на Далай Ламу. Последовал отказ разбирать баррикады.
Услышав это, я решил, что должен сам поговорить с этими людьми. Я объявил им, что если народ не уйдет отсюда как можно скорее, то существует опасность, что китайские войска прибегнут к силе, чтобы разогнать толпу. Очевидно, моя настоятельная просьба была частично принята во внимание, так как после этого лидеры объявили, что перейдут в Шол, деревню у подножия Поталы, где впоследствии было проведено много гневных демонстраций. Но большинство людей осталось у Норбулингки.
Примерно на этом этапе я стал советоваться с оракулом из Нэйчунга, которого поспешно вызвали. Остаться ли мне или попытаться бежать? Что я должен делать? Оракул дал понять, что я должен остаться и продолжать открытый диалог с китайцами. На этот раз я не был уверен, что это наилучший вариант. Я помнил замечание Лукхангвы, что боги лгут, когда впадают в отчаяние, и поэтому провел все послеполуденное время, совершая ритуал "Мо" – другой вид гадания. Результат был тот же.
Следующий день прошел, как в зловещем тумане. Я стал получать сообщения о том, что китайцы начали стягивать войска, а настроение толпы сделалось почти истерическим. Я посоветовался с оракулом во второй раз, но его совет оставался тем же самым. Затем, 16-го марта, я получил третье и последнее письмо от генерала с сопроводительной запиской от Нгабо. Письмо генерала во многом повторяло то, что содержалось в последних двух письмах. Письмо Нгабо, наоборот, подтверждало то, о чем я и все другие только смутно догадывались, а именно, что китайцы планируют использовать против народа войска и подвергнуть Норбулингку артиллерийскому обстрелу. Он хотел, чтобы я обозначил на карте, где буду находиться – чтобы артиллеристы могли получить указание не подвергать обстрелу те здания, которые я укажу. В этот момент открылся весь ужас нашего положения. Была в опасности не только моя жизнь, теперь, по-видимому, были обречены на смерть тысячи и тысячи моих соотечественников. Если б только их можно было убедить разойтись по домам! Несомненно, они понимали, что продемонстрировали китайцам всю силу своих чувств. Но им было мало этого. Они испытывали такую ярость против незваных гостей с их жестокими порядками, что ничто не могло сдвинуть их с места. Они собирались остаться до конца и умереть, защищая своего Драгоценного Покровителя.
Я заставил себя ответить Нгабо и генералу Таню, написав что-то насчет того, что встревожен позорным поведением реакционных элементов среди населения Лхасы. Я заверил их, что по-прежнему одобряю предложение перейти под защиту китайского штаба, но что в данный момент это очень трудно; и я надеюсь, что они также наберутся терпения дождаться окончания беспорядков. Только бы выиграть время! В конце концов, толпа не может оставаться на одном месте до бесконечности. Я позаботился о том, чтобы не сообщать, где нахожусь, в надежде, что отсутствие этой информации послужит причиной неопределенности и промедления.
Отправив эти письма, я не знал, как поступить дальше. На следующий день я снова попросил консультации у оракула. К моему удивлению, он воскликнул: "Иди! Иди! Сегодня вечером!" Медиум, продолжая находиться в трансе, пошатываясь, прошел вперед и, схватив бумагу и ручку, записал довольно ясно и четко тот путь, которым я должен идти из Норбулингки до последнего тибетского города на индийской границе. Направление было неожиданным. Сделав это, медиум, молодой монах по имени Лобсанг Джигмэ потерял сознание, что было знаком ухода Дорже Дракдэна из его тела. Как раз вслед за этим, как бы подтверждая указание оракула, в болоте у северных ворот Драгоценного Парка разорвались две мины, выпущенные из миномета.
Оглядываясь на это событие по прошествии более чем тридцати одного года, теперь я испытываю уверенность: Дорже Дракдэн всегда знал, что я должен покинуть Лхасу 17-го числа, но не говорил этого, чтобы предсказание не стало известно другим. Если не строить планов, то никто о них и не узнает.
Однако я не стал тут же готовиться к бегству. Сначала я хотел получить подтверждение предсказанию оракула, проведя ритуал "Мо" еще раз. Ответ оказался тот же, но шансы успешно прорваться были, казалось, ужасно малы. Не только толпа не пропускала никого на территорию и с территории дворца, не допросив и не обыскав его сначала, но и китайцы, как это было видно из письма Нгабо, уже учитывали возможность моей попытки к бегству. Они наверняка приняли меры предосторожности. Но советы свыше совпадали с моим собственным рассуждением: я был убежден, что мой уход из дворца – единственный способ заставить толпу разойтись. Если меня во дворце не будет, то и у людей исчезнет причина к тому, чтобы оставаться здесь. Поэтому я решил принять совет оракула.
Так как ситуация была отчаянной, я понимал, что должен посвятить в свои планы как можно меньше людей, и сначала информировать только моего гофмейстера и "Чикьяб Кенпо". Они взяли на себя подготовку группы к бегству из дворца этой ночью, но так, чтобы никому не стало известно, кто будет среди них. Когда мы обсуждали, как приступить к этому делу, то определили также состав группы беглецов. Я брал с собой только моих ближайших советников, включая двух наставников, и тех членов семьи, которые находились здесь.
Позднее в тот же день мои наставники и четыре члена Кашага покинули дворец, спрятавшись под брезентом в кузове грузовика; вечером моя мать, Тэнзин-Чойгьел и Церинг Долма, переодевшись, чтобы не быть узнанными, вышли под предлогом того, что они идут в женский монастырь на южном берегу реки Кьичу. Затем я вызвал народных лидеров и рассказал им о своем плане, подчеркнув, что нужно действовать не только сообща (что, я знал, было гарантировано), но также абсолютно тайно. Я был уверен, что у китайцев среди толпы были свои шпионы. Когда эти люди ушли, я написал им письмо, в котором объяснял причины своего ухода и просил их не открывать огонь, если только не возникнет необходимость самообороны, и выражал надежду, что они передадут содержание этого письма народу. Оно должно было быть оглашено на следующий день.
Когда наступили сумерки, я пошел последний раз в храм, посвященный Махакале, моему личному божеству-хранителю. Я вошел в комнату через тяжелую скрипучую дверь и на мгновение остановился, чтобы всмотреться в то, что увидел перед собой. У подножия большой статуи Охранителя сидело несколько монахов, читавших нараспев молитвы. В этой комнате не было электрического света, она освещалась только десятками жертвенных масляных светильников, золотых и серебряных, которые стояли рядами. Стены покрывали многочисленные фрески. На блюде перед алтарем лежала небольшая порция цампы – жертвоприношение. Один служитель, его лицо было наполовину в тени, склонился над большим сосудом, из которого он разливал масло по светильникам. Никто не взглянул на меня, хотя я знал, что мое присутствие должно было быть замечено. В подтверждение этого один из монахов поднял свои музыкальные тарелки, а другой поднес к губам раковину и издал протяжный печальный звук. Первый монах ударил в тарелки, и они зазвенели. Их звучание действовало успокоительно.
Я выступил вперед и поднес божеству "ката", длинный кусок белого шелка. Это традиционный тибетский жест при прощании; он обозначает не только жертвоприношение, но и намерение вернуться. На мгновение я застыл в безмолвной молитве. Теперь монахи могли понять, что я ухожу, но я был уверен в их молчании. Прежде, чем выйти из комнаты, я присел на несколько минут и прочитал сутры Будды, остановившись на той, где говорилось, что нужно "развивать в себе веру и мужество".
Выйдя, я попросил кого-то притушить свет во всей остальной части здания, а потом спустился по лестнице вниз. Там оказалась одна из моих собак, я погладил ее и порадовался, что она никогда не была слишком привязана ко мне – наше расставание не было трудным. Намного больше я был опечален тем, что оставлял здесь свою личную охрану и уборщиков. Затем я вышел на свежий мартовский воздух. У главного входа находилась лестничная площадка, от которой в обе стороны расходились ступеньки, спускавшиеся до земли. Я пошел вокруг этой площадки и остановился на противоположной от двери стороне, чтобы мысленно представить себе благополучное прибытие в Индию. Вернувшись по кругу к двери, я мысленно представил возвращение в Тибет.
За несколько минут до десяти часов, одетый в непривычные брюки и длинное черное пальто, я перебросил через правое плечо винтовку и обернул старинную танку, принадлежавшую Второму Далай Ламе, вокруг левой руки. Затем, сунув свои очки в карман, я вышел наружу. Мне было очень страшно. Два солдата встретили меня и молча проводили до ворот во внутренней стене, где ко мне подошел Кусун депон. Вместе с ними я ощупью пробрался через парк, не видя абсолютно ничего. Когда мы дошли до наружной стены, нас встретил Чикьяб Кенпо, который, как я мог только догадываться, был вооружен мечом. Он обратился ко мне негромким успокаивающим голосом, чтобы я держался во что бы то ни стало возле него. Проходя через ворота, он решительно объявил собравшимся там людям, что совершает обход по расписанию. После этого нам разрешили пройти. Больше не было произнесено ни слова.
Я ощущал присутствие большой массы людей, так как иногда наталкивался на кого-нибудь, но никто не обращал на нас никакого внимания, и через несколько минут мы снова были одни. Мы успешно проделали свой путь через толпу, но теперь могли иметь дело уже с китайцами. Мысль быть схваченным страшила меня. Впервые в жизни я по-настоящему боялся – не столько за себя, сколько за миллионы людей, которые возлагали на меня свои надежды. Если меня схватят, все будет потеряно. Была еще некоторая опасность того, что борцы за свободу, не зная что происходит, примут нас за китайских солдат.
Первым препятствием на нашем пути явился приток реки Кьичу, на который я часто бегал ребенком, пока Татхаг Ринпоче не запретил мне это делать. Переходить его надо было по выступающим камням, которые мне оказалось очень трудно разглядеть без очков, и не раз я лишь чудом не оказывался в воде. Затем наш путь лежал к берегу самой реки Кьичу. Недалеко от берега повстречалась большая группа людей. Гофмейстер обменялся краткими фразами с их вожаками, и мы вышли к реке. Несколько кожаных лодок ждали нас, и при них небольшая группа лодочников.
Переправа прошла спокойно, хотя я и был уверен, что каждый всплеск весел обрушит на нас пулеметную очередь. В то время в Лхасе и вокруг нее находился не один десяток тысяч солдат НОАК, и они, несомненно, патрулировали местность. На другой стороне реки нас встретил отряд борцов за свободу, поджидавших там с несколькими пони. Здесь к нам также присоединились моя мать, брат, сестра и наставники. Затем подождали моих министров, которые должны были прибыть и пополнить нашу группу позже. Ожидая, мы воспользовались возможностью обменяться, очень тихим шепотом, замечаниями о чудовищном поведении китайцев, которое вынудило нас отправиться в этот путь. Я опять надел свои очки – больше не мог выносить эту незрячесть – но сразу же пожалел об этом, потому что теперь я мог различить лучи фонариков часовых НОАК, охраняющих гарнизон, расположенный всего в нескольких сотнях ярдов от того места, где мы находились. К счастью, луну закрывали низкие облака, и видимость была плохая.
Как только прибыли все остальные, мы пошли по направлению к горе и перевалу, называемому Чела, который отделяет долину Лхасы от долины Цангпо. Около трех часов утра мы остановились в простом крестьянском доме, первом из тех многих, что давали нам приют в течение последующих нескольких недель. Но мы не задерживались там и вскоре вышли, чтобы продолжить переход к перевалу, которого достигли около восьми часов. Рассвет застиг нас почти у самого перевала, и мы с изумлением увидели плоды нашей спешки: пони и их сбруя совершенно не соответствовали всадникам. Так как монастырь, который дал животных, не должен был почти ничего знать, и к тому же было темно, то на самых лучших пони оказались самые плохие седла, и дали их не тем людям, в то время как на самых старых и страшных мулах были прекрасная сбруя, и на них ехали самые важные лица!
На вершине перевала (Чела означает Песчаный Перевал) на высоте 16 тысяч футов погонщик, который вел моего пони, остановился и повернул его назад, сказав, что это последняя возможность на нашем пути увидеть Лхасу. С этой высоты древний город казался таким же безмятежным, как и всегда. Несколько минут я молился, а затем спешился и спустился пешком по песчаному склону, который дал название этому месту. Мы опять передохнули и тронулись к берегам Цангпо, прибыв к цели незадолго до полудня. Здесь была единственная переправа, и мы надеялись, что НОАК не опередит нас. Никого не было.
На противоположной стороне мы остановились в одной маленькой деревушке, обитатели которой вышли приветствовать меня, многие плакали. Теперь мы находились на окраине самой труднодоступной части Тибета: в этом регионе существует всего несколько удаленных друг от друга поселений. Именно этот район принадлежал борцам за свободу. Мы знали, что начиная отсюда нас невидимо окружают сотни партизан, которые были предупреждены о нашем скором прибытии и в задачу которых входило охранять нас во время пути.
Китайцам было бы трудно преследовать нас, но если бы у них была информация о нашем местонахождении, то они могли вычислить наш предполагаемый путь и стянуть силы, чтобы попытаться перехватить нас. Поэтому для нашей непосредственной охраны был собран эскорт, состоявший почти из трехсот пятидесяти тибетских солдат и еще около пятидесяти добровольцев. Сама группа беженцев к этому времени возросла почти до ста человек.
Почти все кроме меня были вооружены с головы до ног, даже такие люди, как мой личный повар, который имел при себе огромную базуку и носил пояс с ее смертоносными гранатами. Он был одним из молодых людей, обученных ЦРУ. Ему так хотелось использовать свое внушительное и грозное оружие, что один раз он залег и сделал несколько выстрелов по чему-то, напоминающему, по его мнению, позицию врага. Но чтобы перезарядить базуку, потребовалось так много времени, что я был уверен: реальный враг быстро разделался бы с ним. В общем, вооружение не внушало доверия.
В группе находился еще один агент ЦРУ – радист, который, очевидно, поддерживал связь со своим центром во время всего пути. Я до сего дня не знаю точно, кому он адресовал свои передачи. Знаю только, что у него был передатчик Морзе.
Этой ночью мы остановились в монастыре под названием Рамэ, где я написал торопливое письмо Панчен Ламе, сообщив ему о своем бегстве и советуя присоединиться к нам в Индии, если сможет. Я не имел от него никаких известий с середины зимы, когда он написал, чтобы выразить свои добрые пожелания на приближавшийся Новый год. В особом тайном послании он также говорил о том, что нам надо выработать стратегию на будущее, так как ситуация во всей стране ухудшается. Это был его первый намек на то, что он больше не является невольником наших китайских хозяев. К сожалению, моя записка не попала к нему, и он остался в Тибете.
Следующий перевал назывался Сабо-ла, мы добрались до него через два-три дня. Наверху было очень холодно и мела вьюга. Я сильно беспокоился за некоторых своих спутников. Я-то был молод и здоров, а некоторым пожилым людям из моего окружения идти было очень трудно. Но мы не могли позволить себе замедлить шаг, так как подвергались еще серьезной опасности быть перехваченными китайскими войсками. Особенно большая опасность заключалась в том, что нас могли взять в клещи войска, размещенные в Гьянцзе и в районе Конгпо.
Сначала я имел намерение задержаться в Лхунцзе Дзон-ге, недалеко от индийской границы, где я отказался бы от "Соглашения из семнадцати пунктов", восстановил свое правительство в его правах законной власти всего Тибета и попытался бы начать переговоры с китайцами. Однако примерно на пятый день нас нагнал отряд всадников, принесший ужасные новости. Через сорок восемь часов после моего ухода китайцы начали обстреливать Норбулингку из артиллерийских орудий и расстреливать из пулеметов безоружную толпу, которая все еще оставалась на том же месте. Подтвердились мои самые худшие опасения. Я понял, что невозможно вести переговоры с людьми, действующими таким жестоким и преступным образом. Теперь ничего уже нельзя было поделать, а нам надо было уходить как можно дальше, хотя до Индии оставалось много дней пути и впереди было еще несколько горных перевалов.
Когда спустя более недели мы достигли наконец Лхунцзе Дзонга, то остановились здесь на две ночи, только чтобы успеть официально отказаться от "Соглашения из семнадцати пунктов" и провозгласить формирование моего собственного правительства, представляющего единственную законную власть в стране. Около тысячи людей присутствовало на этой церемонии. Мне очень хотелось бы остаться здесь подольше, но поступала информация о том, что недалеко происходят передвижения китайских войск. Поэтому нам пришлось собираться в путь к индийской границе, которая была уже в шестидесяти милях отсюда по прямой, хотя по земле выходило все сто двадцать. Надо было пересечь еще одну горную цепь. Чтобы покрыть это расстояние, требовалось еще несколько дней, к тому же наши пони уже выдохлись, а корма для них было мало. Чтобы сохранить энергию, они должны были часто останавливаться. Перед нашим отъездом я послал вперед небольшую группу самых крепких людей, которые должны были как можно скорее добраться до Индии, найти ближайших должностных лиц и предупредить их, что я планирую попросить здесь убежища. Из Лхунцзе Дзонга мы прошли через небольшую деревню Джора и вышли к перевалу Карпо у самой границы. Как раз в тот момент, когда мы приближались к самой высокой точке перевала, мы испытали ужасное потрясение. Откуда ни возьмись, появился аэроплан, он летел прямо над головой и скрылся слишком быстро, чтобы кто-то мог рассмотреть его опознавательные знаки, однако не настолько быстро, чтобы люди на борту не могли бы обнаружить нас. Это был недобрый знак. Если самолет был китайский (а он наверняка был китайским) теперь скорее всего они знали, где мы находимся. Имея эту информацию, они могут вернуться, чтобы атаковать нас с воздуха, защититься мы никак не могли. Но какова бы ни была принадлежность этого самолета, он явился хорошим напоминанием о том, что ни в какой части Тибета я не находился в безопасности. Все сомнения, связанные с решением покинуть страну, исчезли, когда я окончательно убедился: Индия – наша единственная надежда. Немного позже отправленные мною вперед из Лхунцзе Дзонга люди вернулись с известием, что индийское правительство сообщило о готовности принять меня. Я услышал это с большим облегчением, так как не хотел вступать на территорию Индии без разрешения.
Свою последнюю ночь в Тибете я провел в крошечной деревушке под названием Мангманг. Как только мы добрались до этого последнего форпоста Страны Снегов, пошел дождь. Целую неделю непогода обрушивала на нас один за другим бураны и метели, а в довершение всего нас вымочил дождь. Все были измучены, и только этого нам не хватало, но дождь шел стеной всю ночь. Хуже всего, что моя палатка стала протекать, и куда бы я ни перетаскивал свою постель, нигде не мог спастись от воды, которая ручьями текла внутрь. В результате лихорадка, с которой я боролся последние несколько дней, за ночь обернулась самой настоящей дизентерией.
На следующее утро я был слишком болен, чтобы продолжать путь. Мои спутники перевели меня в небольшой домик поблизости, но он ненамного лучше спасал от дождя, чем моя палатка. Кроме того, угнетало зловоние, исходившее от скота, который помещался на первом этаже. В тот день я услышал по небольшому переносному приемнику, который был у нас, сообщение Всеиндийского Радио о том, что я нахожусь на пути в Индию, но упал с лошади и тяжело ранен. Это скорее ободрило меня, так как только этого несчастья мне еще удалось избежать, хотя я и знал, что мои друзья будут обеспокоены.
На следующий день я решил продолжать путь. Теперь предстояла нелегкая задача попрощаться с солдатами и борцами за свободу, которые сопровождали меня на протяжении всего пути от Лхасы. Пришло время им возвращаться и снова встретиться лицом к лицу с китайцами. Пожелал также остаться один из членов правительства. Он сказал, что не думает, чтобы мог принести много пользы в Индии, поэтому предпочел бы остаться и бороться. Я был искренне восхищен его решимостью и мужеством.
Со слезами попрощавшись с этими людьми, я с посторонней помощью взобрался на широкую спину дзомо, потому что был еще слишком слаб, чтобы ехать верхом на лошади. Это и был тот скромный вид транспорта, на котором я покинул свою родную землю.