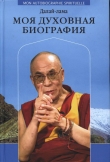Текст книги "Свобода в изгнании. Автобиография Его Святейшества Далай Ламы Тибета."
Автор книги: Нгагва́нг Ловза́нг Тэнцзи́н Гьямцхо́
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Последовавшая за этим церемония, в ходе которой на меня возложили духовное руководство моим народом, продолжалась целый день. Помню я ее смутно. Запомнилось только охватившее меня сильное чувство того, что я вернулся домой и бесконечные толпы людей: я никогда не думал, что их может быть так много. По общему мнению, для четырехлетнего возраста я вел себя хорошо, это признали даже два очень высокопоставленных монаха, которые явились, чтобы убедиться, что я действительно являюсь воплощением Тринадцатого Далай Ламы. Затем, когда все закончилось, меня вместе с Лобсан Самтэном отвезли в Норбулингку (что означает Драгоценный Парк), которая расположена к западу от самой Лхасы.
Обычно она используется только как летний дворец Далай Ламы. Но Регент решил отложить официальное возведение меня на трон в Потале, резиденции тибетского правительства, до конца следующего года. До этого мне не было нужды жить там. Это оказалось просто подарком, так как Норбулингка гораздо более приятное место, нежели Потала. Окруженная садами, она состояла из нескольких небольших зданий, в которых было светло и просторно. В Потале же, которая виднелась вдали, величественно возвышаясь над городом, напротив, внутри было темно, холодно, и мрачно.
Таким образом, целый год я наслаждался свободой от всяких обязанностей, беззаботно играя с братом и довольно регулярно встречаясь с родителями. Это была последняя мирская свобода, которую я когда-либо знал.
Глава вторая
Львиный трон
Эту первую зиму я помню очень мало. Но одна вещь крепко врезалась в мою память. В конце последнего месяца года монахи монастыря Намгьел по традиции исполняли цам, ритуальный танец, символизирующий изгнание злых сил уходящего года. Однако из-за того, что я еще не был официально возведен на трон, правительство посчитало неудобным для меня приехать в Поталу, чтобы на него посмотреть, Лобсан Самтэна же взяла с собой моя мать. Я страшно ему завидовал. Когда поздно вечером он вернулся, то замучил меня подробнейшими описаниями прыжков и бросков причудливо разодетых танцоров.
Весь следующий, то есть 1940, год я оставался в Норбулингке. В весенние и летние месяцы я часто виделся с родителями. Когда меня провозгласили Далай Ламой, они автоматически получили статус высшей знати, а с этим и значительное состояние. Кроме того, каждый год на этот период в их распоряжение отводился дом на территории дворца. Почти ежедневно вместе с сопровождающим я потихоньку выбирался из дворца, чтобы провести время с ними. В действительности, это не разрешалось, но Регент, который за меня отвечал, предпочитал не замечать таких прогулок. Особенно я любил убегать в обеденное время. Это объяснялось тем, что мальчику, которого определили в монахи, запрещалось есть яйца и свинину, и только в доме своих родителей я мог отведать такой пищи. Помню, однажды Гьоп Кэнпо, один из моих старших чиновников, застиг меня за поеданием яиц. Он был потрясен, и я тоже. "Уходи!" – закричал я во весь голос.
В другой раз, помню, я сидел рядом с отцом и, словно собачка, смотрел, как он ест свинину с поджаристой корочкой, надеясь, что он даст мне немножко – что он и сделал. Было так вкусно! Итак, мой первый год в Лхасе был, в общем, очень счастливым временем. Я еще не являлся монахом, и учеба была еще впереди. Лобсан Самтэн, в свою очередь, радовался тому, что этот год он был свободен от школы, в которую начал ходить в Кумбуме.
Зимой 1940 года меня привезли в Поталу, где я был официально введен в должность духовного главы Тибета. Мне не запомнилось ничего особенного в церемонии, сопровождавшей это событие, за исключением того, что я впервые сидел на Львином троне – огромном, инкрустированном драгоценными камнями и украшенном резьбой деревянном сооружении, которое стояло в зале "Сиши-пунцог" (Зале Всех Благих Деяний Духовного и Земного Мира), главном парадном покое восточного крыла Поталы.
Вскоре меня отвезли в храм Джокханг, в центре города, где я был посвящен в монахи. Состоялась церемония, называемая "тапху", что означает "отрезание волос". Отныне я должен был брить голову и носить темно-бордовую монашескую одежду. И об этой церемонии я почти ничего не помню, только то, что, увидев ослепительно яркие одежды исполнителей ритуальных танцев, я совершенно забылся и возбужденно крикнул Лобсан Самтэну: "Смотри сюда!".
Прядь волос мне символически срезал Регент, Ретинг Ринпоче, который, кроме того, что занимал должность главы государства до достижения мной совершеннолетия, также был назначен моим Старшим Наставником. Сначала я относился к нему сдержанно, но вскоре очень полюбил. Помнится, самой примечательной его особенностью был постоянно заложенный нос. Он был человеком с богатым воображением, очень гибким умом и ко всему относился легко. Он любил пикники и лошадей, из-за чего крепко подружился с моим отцом. К сожалению, за годы своего регентства он стал довольно противоречивой фигурой, да и само правительство к этому времени совершенно коррумпировалось. Продажа и покупка высоких должностей, например, стали обычным делом.
Во время моего посвящения в монашеский сан ходили слухи, что Ретинг Ринпоче недостоин выполнять церемонию обрезания волос. Подозревали, что он нарушил обет целомудрия, и потому больше не является монахом. Открыто критиковали и за то, как он расправился с одним чиновником, который выступил против него в Национальном Собрании. Тем не менее, согласно древнему обычаю, я лишился своего имени Лхамо Тхондуп и принял его имя, Джампэл Еше, а также несколько других, так что мое полное имя стало теперь Джампэл Нгаванг Лобсан Еше Тэнзин Гьяцо.
Кроме Старшего наставника, Ретинга Ринпоче, мне был назначен Младший наставник, Татхаг Ринпоче, который являлся человеком в высшей степени духовным, а кроме того, очень сердечным и добрым. После наших уроков он часто беседовал и шутил со мной, что я очень ценил. Кроме того, пока я был еще мал, глава поисковой группы Кевцанг Ринпоче получил неофициальную должность третьего наставника. Он подменял первых, когда кто-нибудь из них был в отъезде.
Кевцанга Ринпоче я особенно любил. Он, как и я, происходил из Амдо. Ринпоче был так добр, что я не мог воспринимать его всерьез. Во время наших занятий, вместо того, чтобы повторять наизусть заданный текст, я частенько повисал у него на шее и говорил: "Ты сам повтори!" Позже он советовал Триджангу Ринпоче, который стал Младшим наставником, когда мне было около девятнадцати лет, воздерживаться от улыбки, потому что иначе я непременно буду злоупотреблять его добротой.
Однако такое распределение должностей просуществовало недолго, потому что вскоре после принятия мною монашества Ретинг Ринпоче отказался от регентства, главным образом по причине своей непопулярности. Хотя мне было всего шесть лет, меня спросили, кто, по моему мнению, должен заменить его. Я назвал Татхага Ринпоче. Впоследствие он стал моим Старшим наставником, а Младшим наставником вместо него сделался Линг Ринпоче.
В противоположность Татхагу Ринпоче, который был человеком очень мягким, Линг Ринпоче оказался крайне сдержан и суров, вначале я просто панически его боялся. Я пугался даже при виде его слуги и быстро научился распознавать звук его шагов – при котором сердце мое замирало. Но в конце концов мы стали друзьями и между нами установились очень хорошие отношения. Он оставался моим самым близким доверенным лицом вплоть до своей смерти в 1983 году.
Кроме наставников в мою личную свиту были назначены еще три человека, все монахи. Это – "Чойпон Кхэнпо", Мастер Ритуала, "Солпон Кхэнпо", Мастер Кухни", и "Симпон Кхэнпо", Хранитель Одежд. Последним стал Кенрап Тэнзин, тот член поисковой группы, чьи пронзительные глаза произвели на меня такое впечатление.
Будучи совершенным ребенком, я очень привязался к Мастеру Кухни. Эта привязанность была так сильна, что он все время должен был находиться в моем поле зрения, чтобы виднелся хотя бы краешек его одежды в дверях или под занавесками, которые использовались в тибетских домах вместо дверей. К счастью, он терпимо относился к моему поведению. Он был очень добрый и простой человек, и почти совершенно лысый. Он не был ни хорошим рассказчиком, ни веселым товарищем по играм, но это совершенно ничего не значило.
С тех пор я часто задавал себе вопрос о природе наших взаимоотношений. Теперь я понимаю, что они были похожи на узы, связывающие котенка или какое-то другое маленькое животное с человеком, который его кормит. Иногда я думаю, что акт приношения пищи есть один из основных корней любых взаимоотношений.
Сразу после посвящения в монахи началось мое образование. Оно поначалу состояло исключительно в том, что меня учили читать. Лобсан Самтэн и я учились вместе. Я очень хорошо помню наши классные комнаты (одну в Потале и другую в Норбулингке). На противоположных стенах висели две плетки: одна из желтого шелка, а другая кожаная. Нам сказали, что первая предназначалась для Далай Ламы, а вторая – для брата Далай Ламы. Эти орудия пыток нас обоих приводили в ужас. Один только взгляд учителя на ту или другую из этих плеток заставлял меня дрожать от страха. К счастью, желтую так никогда и не употребили, но кожаную раз или два снимали со стены. Бедный Лобсан Самтэн! На его горе он был не таким прилежным учеником, как я. Я подозреваю к тому же, что били его по старинной тибетской пословице: "Бей козу, чтобы овца боялась". Ему приходилось страдать ради меня.
Хотя ни Лобсан Самтэну, ни мне нельзя было иметь друзей нашего возраста, мы никогда не испытывали недостатка в товарищах. И в Норбулингке, и в Потале имелся обширный штат комнатной прислуги (лакеями назвать их нельзя). По-преимуществу это были люди средних лет, малообразованные или совсем не образованные, некоторые из них пришли на эту работу после службы в армии. Их обязанность состояла в том, чтобы поддерживать в комнатах чистоту и следить, чтобы полы были натерты. К последнему я был особенно неравнодушен, так как любил кататься по полу, как на коньках. Когда в конце концов Лобсан Самтэна забрали домой, потому что вдвоем мы плохо себя вели, эти люди стали единственными моими товарищами. И какими товарищами! Несмотря на свой возраст, они играли как дети. Мне было около восьми лет, когда Лобсан Самтэна отправили учиться в частную школу. Конечно же, это меня опечалило, ведь он являлся единственной моей связью с семьей. Теперь я виделся с ним только вовремя его школьных каникул в периоды полнолуния. Помню, что всякий раз, как брат уезжал, я стоял у окна и с печалью в сердце смотрел, как он исчезает вдали.
Помимо этих ежемесячных встреч время от времени меня навещала мать. Она приезжала обычно вместе с моей старшей сестрой Церинг Долмой. Их посещениям я особенно радовался, так как они неизменно привозили что-нибудь вкусненькое. Мать была чудесной кухаркой и славилась своей замечательной выпечкой и пирожными.
Когда мне перевалило за десять, мать стала брать с собой Тэнзин Чойгьела, самого младшего моего брата. Он на двенадцать лет младше меня, и если есть более непослушный ребенок, чем был я, то это может быть только он. Одна из его любимых игр состояла в том, чтобы заводить пони на крышу родительского дома. Еще хорошо помню, как однажды, будучи еще совсем маленьким, он бочком подошел ко мне и сказал, что мама только что заказала у мясника свинину. Это запрещалось, потому что, хотя и не возбраняется покупать мясо, заказывать его нельзя, ведь в таком случае животное могут забить специально, чтобы выполнить ваш заказ.
Отношение тибетцев к вегетарианской еде довольно любопытно. Буддизм не запрещает есть мясо категорически, однако говорится, что не следует убивать животное для еды. В тибетском обществе допустимо есть мясо – оно действительно необходимо, так как кроме цампы часто нет ничего другого, но никоим образом нельзя заниматься убоем. Это предоставляется другим. Отчасти этим занимались мусульмане, которые составляли процветающую общину со своей собственной мечетью в Лхасе. Во всем Тибете насчитывалось несколько тысяч мусульман, Около половины из них пришли из Кашмира, остальные – из Китая.
Однажды, когда мать принесла мне в качестве гостинца мясное (колбаски, фаршированные рисом и фаршем – Такцер ими славился), помню, я съел все в один присест, потому что знал: если рассказать кому-нибудь из прислуги, придется с ними делиться. На следующий день я был совершенно болен. Из-за этого случая Мастер Кухни чуть не лишился своего места. Татхаг Ринпоче решил, что это он виноват в моей болезни, и я вынужден был рассказать всю правду. Это явилось хорошим уроком.
Хотя Потала очень красива, жить в ней не слишком приятно. Она была возведена на голой скале, называемой "Красная Гора" на месте прежней небольшой постройки в конце правления Великого Далай Ламы Пятого, который правил в семнадцатом веке по христианскому календарю. Когда в 1682 году он умер, до окончания строительства было еще далеко, поэтому Дэси Сангьей-Гьяцо, его верный премьер-министр, в течение пятнадцати лет скрывал факт смерти до тех пор, пока здание не было завершено, и сообщал лишь, что Его Святейшество удалился в длительное затворничество.
Сама Потала была не только дворцом. В ее стенах находились не только правительственные учреждения и бесчисленные кладовые, но и монастырь Намгьел (что означает "Победоносный") с 175 монахами и множеством молитвенных помещений, а также школа для молодых монахов, которым предстояло занять должности в "Цэдрунге".
Мне, ребенку, предоставили личную спальню Великого Далай Ламы Пятого, находившуюся на седьмом (верхнем) этаже. Она была ужасно холодная и сумрачная, и я сомневаюсь, чтобы ею пользовались со времен Пятого Далай Ламы. В ней все было древним и обветшавшим, а за драпировками, свисавшими вдоль всех четырех стен, лежали скопления многовековой пыли. В одном конце комнаты стоял алтарь. На нем помещались небольшие масляные светильники (чашки с прогорклым маслом "дри", куда вставляется фитиль) и тарелочки с едой и водой, поставленные в подношение Буддам. Каждый день они опустошались мышами. Я очень полюбил этих маленьких тварей. Они были такие красивые и совершенно не боялись, поглощая свое ежедневное пропитание. Ночью, лежа в постели, я слышал, как эти мои товарищи бегали туда-сюда. Иногда они забирались на мою кровать. Помимо алтаря, это был единственный крупный предмет обстановки в моей комнате. Кровать представляла собой большой деревянный ящик, наполненный подушками и окруженный длинными красными занавесями. Мыши вскарабкивались и на них, и их моча капала на одеяло, под которым я лежал, свернувшись калачиком.
Моя повседневная жизнь была одинакова и в Потале, и в Норбулингке, хотя в последней распорядок дня передвигался на час раньше, поскольку дни летом длиннее. Но это не составляло проблемы. Мне никогда не нравилось вставать после восхода солнца. Помню, однажды я проспал и, встав, обнаружил, что Лобсан Самтэн уже играет во дворе. Я очень рассердился.
В Потале я обычно вставал около шести часов утра. После одевания примерно час отводился на молитвы и медитацию. Затем в начале восьмого приносили завтрак. Он неизменно состоял из чая и цампы с медом или карамелью. Потом начинались утренние занятия с Кенрап Тэнзином. С того времени как я научился читать, и до тринадцати лет это всегда были занятия по каллиграфии. В тибетском языке существуют два основных варианта письма: "у-чен" и "у-мэ". Один для книг, а другой для документов и личной переписки. Мне необходимо было знать только "у-мэ", но я самостоятельно довольно быстро выучил и "у-чен".
Не могу удержаться от смеха, вспоминая эти утренние уроки. Дело в том, что, сидя под бдительным оком Хранителя Одежд, я слышал, как за дверью Мастер Ритуала нараспев читает молитвы. "Классная комната" примыкала к моей спальне и являлась на самом деле обычной верандой с рядами растений в горшках. Часто бывало довольно холодно, но зато светло, и можно было без помех рассматривать маленьких черных птичек с ярко-красными клювами, называемых "дун-гкар", которые имели обыкновение строить свои гнезда под крышами Поталы. Тем временем Мастер Ритуала сидел в моей спальне. К несчастью, он имел привычку засыпать во время чтения своих утренних молитв. Когда это случалось, звук его голоса начинал плыть, как у граммофона, у которого кончается электрическое питание, пение переходило в невнятное бормотание и наконец затихало. Наступала пауза, потом он просыпался, и все начиналось заново. Зачастую он сбивался, так как не помнил, где остановился, и поэтому повторял одно и то же по несколько раз. Это было очень смешно. Но здесь имелся и положительный момент. Когда впоследствии я сам начал учить эти молитвы, то уже знал их наизусть.
После каллиграфии шло запоминание. Оно заключалось в простом заучивании какого-либо буддийского текста с тем, чтобы потом повторять его в течение дня. Мне это казалось очень скучным, потому что заучивал я быстро. Нужно заметить, однако, что часто настолько же быстро и забывал.
В десять часов наступал перерыв после утренних занятий, и в это время происходило собрание членов правительства, на котором несмотря на свой юный возраст я должен был присутствовать. С самого начала меня готовили к тому дню, когда кроме положения духовного руководства я приму на себя и светское управление Тибетом. Зал в Потале, где проходили эти собрания, находился за стеной моей комнаты. Чиновники поднимались в него из правительственных учреждений, расположенных на втором и третьем этаже здания. Сами эти собрания были довольно формальными мероприятиями – во время которых распределялись текущие поручения – и, конечно же, часть этикета, касающаяся меня, соблюдалась очень строго. Мой гофмейстер, "Доньэр Ченмо", должен был заходить в мою комнату и вести меня в зал, где сначала меня приветствовал Регент, а затем четыре члена "Кашага", каждый в соответствии со своим рангом.
После утренней встречи с правительством я возвращался в свою комнату для дальнейших наставлений. Теперь со мной занимался Младший наставник, которому я читал наизусть отрывки, выученные утром во время урока запоминания. Затем он прочитывал мне текст на следующий день, сопровождая его подробными разъяснениями. Это занятие продолжалось примерно до полудня. В этот момент звонил колокольчик (он звонил каждый час – и только однажды звонарь забылся и прозвонил тринадцать раз!). Кроме того, дули в раковину. Затем следовал самый важный пункт в расписании юного Далай Ламы: игры.
Мне посчастливилось иметь прекрасный набор игрушек. Когда я был маленьким ребенком, один чиновник из Дромо, деревни на границе с Индией, частенько посылал мне импортные игрушки, а также ящики с яблоками, когда они были доступны. Еще мне дарили подарки различные иностранные деятели, приезжавшие в Лхасу. Одной из любимых игрушек у меня был конструктор, подаренный руководителем Британской торговой миссии, имевшей офис в столице. Становясь старше, я получал все новые и новые конструкторские наборы, и к тому времени как мне исполнилось пятнадцать, у меня была полная коллекция конструкторов, начиная с простейших и кончая самыми сложными.
Когда мне было семь лет, в Лхасу прибыла делегация из двух американских официальных лиц. Они привезли с собой кроме письма президента Рузвельта пару прекрасных певчих птиц и великолепные золотые часы. Оба эти подарка я принял с большим удовольствием. Дары же, которые поднесли приезжавшие китайские деятели, не произвели на меня такого впечатления. Рулоны шелка – вещь совсем неинтересная для маленького мальчика.
Другой любимой игрушкой была заводная железная дорога. И еще у меня имелся замечательный набор оловянных солдатиков, которых, став постарше, я научился переплавлять в монахов. В их первоначальном виде я играл с ними в войну. Я проводил, бывало, целую вечность, расставляя их. Когда же начиналась битва, тот прекрасный порядок, в котором я их располагал, разрушался в считанные минуты. То же самое происходило в другой игре, в которой использовались маленькие танки и самолетики, сделанные мной из цампового теста, или "па", как оно называется.
Прежде всего я устраивал соревнование среди моих взрослых друзей, чтобы узнать, кто делает самые лучшие модели. Каждому давалось одинаковое количество теста и отводилось, к примеру, полчаса, чтобы вылепить армию. Затем я оценивал результаты. На этом этапе проиграть никакой опасности для меня не было, так как лепил я сам очень проворно. Иногда я дисквалифицировал участников за то, что они делали плохие модели. Потом я иногда продавал противникам часть своих моделей за двойное количество теста, шедшее на их изготовление. Таким путем я ухитрялся собрать гораздо больше сил и в то же время получал удовольствие от обмена. Затем мы начинали сражаться. До сих пор все делалось по-моему, и когда я постепенно начинал в пух и прах проигрывать, то пытался все обернуть в свою пользу. Однако мои соперники ни в каких состязаниях не давали мне пощады. Часто я пытался использовать свое положение Далай Ламы, но это было бесполезно. Я старался выиграть изо всех сил, довольно часто выходил из себя и пускал в ход кулаки, но они все равно не сдавались. Иногда они даже доводили меня до слез.
Другим моим любимым занятием была строевая подготовка, в которой меня наставлял Норбу Тхондуп, мой любимый товарищ из уборщиков, отслуживший в армии. Как у всякого мальчика у меня было столько энергии, что я обожал все, что связано с физической активностью. Особенно мне нравилась одна игра с прыжками – официально она была запрещена, – состоявшая в том, чтобы как можно быстрее взбежать по доске, поставленной под углом 45°, и спрыгнуть вниз. Однако моя склонность к агрессии однажды чуть не довела меня до беды. Среди вещей моего предшественника я нашел трость с железным набалдашником и взял ее себе. Однажды я вертел тростью над головой, она вырвалась из моей руки и со всего размаха, вращаясь, полетела Лобсан Самтэну прямо в лицо. Он рухнул на пол. В первое мгновение я был уверен, что убил его. Спустя несколько невыносимых секунд он встал, обливаясь слезами и кровью, которая струилась из ужасной глубокой раны на левой брови. Потом она загноилась и долго не заживала. Бедный Лобсан Самтэн остался с этой отметиной на всю жизнь.
Вскоре после часу дня наступало время легкого полдника. Потала была расположена так, что теперь, после полудня, когда кончались мои утренние занятия, комнату заливал солнечный свет. Но к двум часам дня он начинал угасать, и комната снова погружалась в тень. Я терпеть не мог этот момент: когда комната вновь погружалась в полумрак, мое настроение тоже мрачнело. Вскоре после полдника начинались дневные занятия. Первые полтора часа отводились на общее развитие под руководством моего Младшего наставника. Он делал все, чтобы привлечь мое внимание. Я учился безо всякого энтузиазма и не любил все предметы в равной степени.
Программа, по которой я учился, была та же, что и у всех монахов, претендующих на степень доктора буддийских наук. Она была очень несбалансированна и во многих отношениях не подходила для главы государства во второй половине двадцатого столетия. Учебная программа включала в себя пять главных и пять второстепенных предметов; к первым относились: логика, тибетское искусство и культура, санскрит, медицина, буддийская философия. Последний предмет был самым важным (и самым трудным) и распадался, в свою очередь, на пять разделов: "Праджняпарамита" – совершенство мудрости; "Мадхьямика" – философия Срединного пути; "Виная" – устав монашеской дисциплины; "Абхидхарма" – метафизика; "Прамана" – логика и эпистемология.
Пять "малых" предметов – это поэзия, музыка и драматургия, астрология, метрика и композиция, синонимы. На деле докторская степень присуждается только на основе буддийской философии, логики и диалектики. По этой причине до середины семидесятых годов я не занимался санскритской грамматикой, а некоторые предметы, такие как медицина, никогда не изучал иначе, чем неформальным образом.
Основу тибетской системы монашеского образования составляет диалектика, искусство диспута. Два участника диспута поочередно задают вопросы, сопровождая их стилизованными жестами. Задавая вопрос, спрашивающий поднимает правую руку над головой и затем хлопает ею по вытянутой левой руке, топая при этом левой ногой. Затем он медленно убирает правую руку с левой, поднося ее к голове своего оппонента. Человек отвечающий сохраняет пассивность и сосредоточивается на том, чтобы постараться не только ответить, но и побить оппонента его же оружием, а оппонент при этом все время ходит кругами вокруг него. Важным элементом этих диспутов является находчивость, и большой заслугой считается умение с юмором обратить постулаты противника в свою пользу. Все это делает диалектику популярной формой развлечения даже среди необразованных тибетцев, которые, хотя могут и не понимать интеллектуальных хитросплетений, тем не менее способны оценить юмор и зрелищную сторону. В старые времена можно было увидеть кочевников и других сельских жителей, приехавших в Лхасу издалека, которые проводили время, наблюдая за учеными диспутами на монастырском дворе.
Способность монаха к этой уникальной форме диспута является критерием, по которому судят о его интеллектуальных достижениях. Поэтому, будучи Далай Ламой, я должен был не только получить хорошую подготовку в буддийской философии и логике, но и овладеть искусством диспута. Таким образом, в возрасте десяти лет я начал очень серьезно изучать эти предметы, а в двенадцать мне назначили двух "ценшапов", знатоков, которые тренировали меня в искусстве диалектики. Следующий час после первого из дневных занятий мой наставник посвящал объяснению того, как дискутировать на тему, которую мы проходили сегодня. Затем в четыре подавался чай. Если кто-то пьет чая больше, чем британцы, то это тибетцы. Согласно китайским статистическим данным, которые попались мне недавно, Тибет импортировал из Китая до вооруженного вторжения десять миллионов тонн чая ежегодно. Это никак не может быть правдой, так как получается, что каждый тибетец потребляет почти две тонны чая в год. Очевидно, эти цифры должны были доказывать экономическую зависимость Тибета от Китая. Но они все-таки отражают и нашу любовь к чаю.
Впрочем, хотя я так говорю, сам я не совсем разделяю любовь к нему моих соотечественников. В Тибете чай по традиции пьют подсоленным и с маслом "дри" вместо молока. Получается очень хороший и питательный напиток, конечно, если он правильно приготовлен, но вкус его очень зависит от качества масла. Кухни Поталы регулярно снабжались свежим сливочным маслом, и чай заваривался великолепный. Только там я действительно наслаждался тибетским чаем. Сейчас я обычно пью чай по-английски, утром и вечером. Днем пью чистую горячую воду, эту привычку я приобрел в Китае в пятидесятых годах. Может прозвучать банально, но это действительно очень полезно. Горячая вода считается первейшим средством в тибетской медицине.
После чая приходили два монаха "ценшапа", и следующий час с лишним мы проводили в обсуждении таких абстрактных вопросов, как, например, природа сознания. Приблизительно в половине шестого дневные мучения наконец подходили к концу. Я не могу указать точного времени, поскольку тибетцы, в отличие от многих других людей, не придают большого значения смотрению на часы, и все начинают и заканчивают тогда, когда это удобно. Спешки всегда избегают.
Если это происходило в Потале, то едва только уходил наставник, я мчался на крышу со своим телескопом. Благодаря ему открывалась великолепная панорама Лхасы от медицинской школы Чакпори близ Священного Города – той части столицы, которая окружает храм Джокханг – и дальше. Однако меня больше интересовала деревня Шол, которая лежала далеко внизу у подножия Красной Горы, потому что именно там находилась государственная тюрьма, и это было время прогулки заключенных по тюремному дворику. Я считал заключенных своими друзьями и пристально следил за их движениями. Они это знали и всегда, когда замечали меня, простирались ниц. Я знал их всех в лицо, всегда был в курсе, если кто-то освобождался или если прибывал новенький. Еще я любил пересчитавать штабеля дров и кучи кормов, лежавшие во дворе.
После этой инспекции у меня оставалось время еще немножко поиграть в доме или порисовать, пока не наступало время вечерней еды, которую мне приносили вскоре после семи. Еда состояла из чая (неизменно), супа, иногда с небольшим количеством мяса и простокваши, или "шо", а также представлявшего мне возможность выбора разнообразного хлеба, выпеченного моей матерью и присылаемого каждую неделю. Моим любимым был хлеб по-амдосски: это небольшие круглые хлебцы с твердой корочкой и воздушные внутри.
Довольно часто мне приходилось есть вместе с одним или несколькими моими уборщиками. Они все как один были прожорливыми едоками. У них были такие большие чашки, что в каждую могло поместиться все содержимое чайника. Иногда я ел вместе с монахами из монастыря Намгьел. Однако обычно я разделял трапезу только с тремя прислуживающими мне монахами, к которым временами присоединялся Чикьяп Кенпо, Руководитель Персонала. В отсутствие последнего у нас всегда было шумно и весело. Особенно мне запомнились наши вечерние зимние трапезы, когда мы сидели у огня и ели горячий суп при трепещущем свете масляных светильников, слушая, как на улице завывает вьюга.
После еды я спускался по лестнице из семи пролетов во двор, где мне полагалось гулять, повторяя тексты и молитвы. Но пока я был юн и беззаботен, вряд ли я когда-либо это делал. Вместо этого я проводил время в придумывании историй или предвкушал те, которые мне расскажут перед сном. Очень часто они были о сверхъестественном, поэтому в девять часов вечера в свою темную, населенную вредными тварями спальню прокрадывался совершенно перепуганный Далай Лама. В одной из самых жутких историй рассказывалось о гигантских совах, которые хватали маленьких мальчиков после наступления темноты. В основе таких историй лежали древние фрески в храме Джокханг. Это заставляло меня очень точно соблюдать правило находиться в доме с наступлением ночи.
Моя жизнь и в Потале, и в Норбулингке была очень монотонной. Ее течение нарушалось только во время больших праздников или тогда, когда я уходил в затворничество. Во время последнего около меня находился один из моих наставников, а иногда и оба, или же это были другие старшие ламы монастыря Намгьел. Обычно я совершал одно затворничество в год, зимой. Оно продолжалось три недели, в это время у меня был всего лишь один короткий урок, и мне не разрешалось играть на улице – только долгие молитвы и медитации, проводимые под присмотром. Когда я был мал, мне не всегда это нравилось. Я проводил много времени, глядя то в одно, то в другое окно моей спальни. Через окно, смотревшее на север, на фоне гор виднелся монастырь Сера. Южное окно выходило в большой зал, где проводились утренние встречи с правительством.