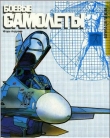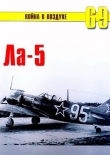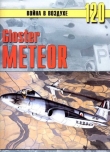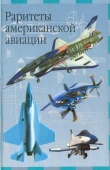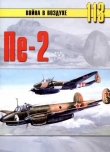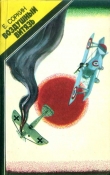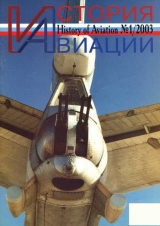
Текст книги "История авиации 2003 01"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Боевая работа, хотя и не с такой высокой интенсивностью, продолжалась и в последующие месяцы. Целью № 1 являлись немецкие аэродромы, а следующей по приоритетности – позиции осадной артиллерии. Потери при этом были весьма незначительны – один самолет в январе и два в феврале, причем один из них по небоевой причине. Обстановка на Черном море в этот период была сравнительно спокойной – казалось, что дальнейшее продвижение противника остановлено, и вскоре он сам побежит с крымской земли. В этот период части Люфтваффе были скованы на других участках фронта, наши же наоборот набирали силу. В начале февраля аэродром Херсонесский маяк был расширен, и с 8-го числа туда с Кубани перелетели шесть «Ильюшиных» во главе с комэском Чумичевым. Вылеты девяткой стали более эффективными, круг решаемых задач расширился. Усилия и боевые успехи части были отмечены присвоением ей 3 апреля гвардейского звания, после чего 2-й МТАП стал 5-м гвардейским минно-торпедным авиаполком. С весны «Ильюшины» начали привлекаться к воздушному обеспечению морских конвоев, и однажды одиночный ДБ-3 смог расстроить атаку немецких торпедоносцев, повредив один из них. Для нас же наиболее интересными являются попытки командования ВВС ЧФ возобновить действия на морском направлении.
В середине марта Нарком ВМФ издал очередную директиву, в которой требовал от флота активизировать минную войну на коммуникациях противника. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский ответил в том смысле, что главная задача флота – защита Севастополя, и наличных сил недостаточно даже для этого. Кузнецов указал, что, действуя на коммуникациях, флот как раз и защищает Крым. А адмиралу Октябрьскому ничего не оставалось делать, как поставить перед ударной компонентой Севастопольской авиагруппы и эту задачу. Уместно также заметить, что за неполный год боевых действий лётный состав 5-го ГМТАП значительно обновился. По состоянию на 16 апреля лишь пять самолетов авиаполка имели оборудование для постановки мин и сбрасывания торпед. Низкое торпедометание могли осуществлять И экипажей и ещё шесть – высотное. В результате первые вылеты на морском театре экипажами торпедоносцев Ил-4 выполнялись с использованием только осколочно– фугасных авиабомб небольших калибров.

2 апреля два звена Ил-4 по данным воздушной разведки вылетели для атаки «транспортов, обнаруженных в районе севернее Констанцы». На самом деле нашему разведчику удалось застать в море отряд румынских минных заградителей, занятых постановкой противолодочных минных полей вдоль фарватера Констанца – Сулина. Одновременно заграждения ставили две группы кораблей, в которые входили минные заградители «Амирал Мурджеску» и «Дачиа». В качестве первой ударной волны в воздух поднялось по звену Ил-4 и СБ. Вскоре звено Ил-4 обнаружило отряд с минзагом «Дачиа» во главе и отбомбилось по вражескому флагману. Прямых попаданий не было, но близкий разрыв нанес заградителю легкие повреждения, ранив на его борту пятерых моряков. Кого бомбило звено СБ точно не ясно – с борта румынских кораблей их вроде бы даже не видели, зато один бомбардировщик в Севастополь не вернулся. Спустя полчаса второе вылетевшее звено «Ильюшиных» атаковало шедший в авангарде румынского соединения миноносец «Сборул». Несмотря на то, что бомбометание осуществлялось с высоты около 3000 м, нашим летчикам снова удалось добиться близких разрывов, ранивших двух человек. Поскольку к моменту атаки минные поля уже были выставлены, сорвать их постановку не удалось, но опасение новых ударов с воздуха затормозило выполнение румынского плана по минированию примерно на 1,5 месяца.
Малочисленность севастопольской группы и обилие стоявших перед ней задач обусловили большие перерывы в действиях на румынских коммуникациях. Следующий налет пришелся на 22 апреля. Обнаружить румынский конвой, шедший из Констанцы в Бугаз не удалось, в результате чего ДБ-3 сбросили бомбы на Сулину. Повторная атака этого порта была осуществлена уже силами пяти бомбардировщиков 3 мая. 7-го числа два Ил-4 вместе с Пе-2 и СБ принимали участие в нападении на конвой, состоявший из быстроходных десантных барж в районе Днестровского лимана. И на этот раз прямых попаданий добиться не удалось, но как минимум одна БДБ получила серьезные повреждения, а её экипаж понёс потери в личном составе. Спустя три дня вылетавший на разведку Ил-4 отбомбился по одиночной шхуне в районе мыса Олинька, после чего наблюдал на ней взрыв и пожар, однако зарубежные материалы на сегодняшний день не дают возможности как– либо прокомментировать это донесение. Кульминацией действий нашей авиации весной 1942 г. в западной части Черного моря безусловно, стал удар 21 мая.
Утром экипаж разведчика (традиция посылать одиночные «Илы» в дальнюю разведку сохранялась на Черноморском театре вплоть до второй половины 1943 г.), пилотируемого старшим лейтенантом А.Ермолаевым, обнаружил одиночный транспорт, шедший из порта Сулина в направлении Одессы. Командование приказало нанести по транспорту удар, причем не только силами бомбардировщиков, но и торпедоносцев. Штурман эскадрильи С.Дуплий (впоследствии – Герой Советского Союза) так вспоминал этот вылет: «Можете представить состояние комэска Чумичева и мое. Ведь это был первый боевой вылет в истории полка на торпедный удар. Готовились мы к нему по тревоге. Решено было лететь к цели двумя группами. Ведущая группа, – три бомбардировщика, которую мы возглавляли, за нами на пределе видимости – пара низких торпедоносцев.
Обнаружили транспорт севернее Килийского гирла. Выйдя на береговую черту, наше звено, где летчиками были Чумичев, Беликов и Агапкин, атаку произвело с берега в сторону моря. Самолеты-торпедоносцы атаковали транспорт со стороны моря одновременно с бомбардировщиками. Торпедоносцы капитан Селявко и старший лейтенант Гаврилов произвели индивидуальное прицеливание. Их штурманы лейтенант Грязнов и старший лейтенант Петроченко сбросили торпеды с дистанции 1200–1400 метров. Одна торпеда попала в корму транспорта водоизмещением 5000 тонн. Произошел сильный взрыв, и он стал окутываться дымом. Упредило торпеду ещё попадание в судно одной ФАБ-100. После удара транспорт развернулся в сторону берега. По торпедоносцам велся огонь зенитной артиллерии с транспорта, по бомбардировщикам зенитки не стреляли…
На свой аэродром возвращались все мы ободренные успешным выполнением задания. Жаль, что экипажи торпедоносцев сбрасывали торпеды с больших дистанций. Но это им можно простить. Ведь это была их первая торпедная атака…»
К этому следует добавить, что, как водится, первый блин получился комом. Реальной целью торпедоносцев оказалась всего лишь 535-тонная плавбаза немецкой Дунайской флотилии «Ута», которая в тот день совершала переход из Жебриянской бухты в направлении Одессы. Торпеды в цель не попали, но бомбардировщикам удалось нанести судну повреждения. То ли в момент уклонения, то ли после прямого попадания бомбы оно выскочило на мель. Имелись убитые и раненые среди экипажа, причем за четырьмя тяжелоранеными немцы даже прислали спасательный гидросамолет. Впоследствии противник ввел плавбазу в строй, и она продолжала принимать участие в боевых действиях на Черном море и Дунае вплоть до апреля 1945 г., когда была потоплена авиабомбой. Поднятая после войны она служила в нашем флоте под названием «Ангара».
Последняя попытка атаковать корабли противника у румынского побережья имела место 25 мая. Звено вылетевших Ил-4 не обнаружило целей, зато само оказалось перехвачено двумя «Мессершмиттами» в районе Сулины. Бомбардировщикам удалось оторваться от противника, но два самолета получили серьезные повреждения. Усиление ПВО в западной части моря и изменение обстановки под Севастополем сделало этот вылет последним на долгое время.
К действиям на морском направлении следует отнести и минные постановки в Азовском море в конце мая. Здесь следует дать определенные разъяснения. Хотя северное побережье моря было захвачено противником еще в октябре 1941 г., мы сохранили контроль над Керченским проливом, причем в период с конца декабря 41-го по май 42-го владели обоими его берегами. С учетом этого трудно было даже гипотетически предположить, что противнику удалось создать в этом районе сколько-нибудь серьезную корабельную группировку. Фактически она состояла из двух саперно-десантных батальонов вермахта (паромы Зибеля) и нескольких флотилий охраны побережья. Их корабельный состав комплектовался за счет найденных в портах рыболовных сейнеров и шаланд, а экипажами стали военнослужащие Хорватского морского легиона. Этих сил с трудом хватало для несения дозорной службы у побережья, а также постановки оборонительных минных заграждений. Никакого сколько-нибудь серьезного вражеского судоходства здесь не существовало. Командование же Черноморского флота, не усвоившее в необходимой мере уроков прошлого года, ожидало от противника… десантной операции на побережье Кубани. При этом силы Азовской флотилии, куда входили канонерские лодки, бронекатера и торпедные катера, считались недостаточно сильными для противодействия. «Ильюшины» 5-го ГМТАП неоднократно бомбили Мариуполь, Геничевск и Таганрог, стремясь уничтожить плавсредства, единственная вина которых состояла в том, что мы сами не смогли или не успели уничтожить их при отступлении. В конце мая штаб ВВС решил приступить к минным постановкам. В ночь на 28-е число десять Ил– 4 поставили мины АМГ-1 у Мариуполя и возле косы Кривая, а на следующую ночь пять машин, слетав по три раза, выставили еще три небольших минных банки. Успехов эти заграждения не имели, но это и не удивительно. Достаточно вспомнить, что мины АМГ имели размеры, вполне сопоставимые с теми судами, против которых они ставились, а заданное углубление их было таково, что рыбацкое судно могло встретится с миной, разве что поймав ее в сети.
К сожалению, с апреля обстановка в воздухе начала изменяться в пользу противника. Начался этот процесс незаметно, но уже в мае обозначился очень резко. Оправившись от зимних потерь, части ВВС противника приступили к активным действиям. Над морем отдельные звенья бомбардировщиков и торпедоносцев нападали на идущие в Севастополь конвои, над сушей пары истребителей охотились на наши самолеты. Заметно возросло число воздушных боев, но опытным стрелкам эскадрильи Чумичева долгое время удавалось отбивать все атаки, хотя только в течение марта четыре Ил-4 получили серьезные повреждения. Общая численность машин в полку в результате боевых и эксплуатационных потерь постепенно снижалась. Так. на 7 января 5-й ГМТАП располагал 33 (28) ДБ-3 и ДБ-ЗФ, на 22 апреля – 30 (25) Ил-4, на 22 мая – 24 (22) (в т. ч. семь (все исправны) в Севастополе).
В апреле наша разведка отметила стягивание в Крым дополнительных сухопутных и воздушных сил противника. Экипажи «Ильюшиных» с аэродромов Херсонеса и Кубани старались всячески сорвать вражеское сосредоточение, но сделать это им оказалось не по силам. Так почти каждые сутки, а то и по несколько раз бомбился аэродром в Саки, откуда действовали торпедоносные НеШ из состава II/KG26. После каждого вылета летчики докладывали об уничтожении десятков вражеских машин, но силы противника на наших коммуникациях каждый раз возникали как феникс из пепла. После потери ряда ценных судов с грузами для Севастополя командование решило привлечь к перевозкам подводные лодки, на которых при всем желании много не навозишь. В результате внезапных бомбоударов на севастопольских аэродромах сгорело несколько самолетов, а 24 апреля погиб командующий ВВС ЧФ генерал-майор Н.А.Остряков. Новым командующим стал генерал-майор В.В.Ермаченков, руководивший в начале войны ВВС Балтфлота. 8 мая войска Манштейна внезапно перешли в наступление на Керченском полуострове. Армии Крымского фронта сами готовились к наступлению и потому оказались не готовы к обороне. Это обстоятельство, усугубленное многочисленными ошибками оперативно-тактического характера, а также плохой связью, стало главной причиной сокрушительной катастрофы, постигшей войска фронта. После того, как 20 мая немцы взяли Керчь стало ясно, что защитников Севастополя ожидают новые тяжелые испытания.
Они начались в первых числах июня. Ситуация стала складываться неблагоприятно фактически с самого начала штурма. Дело в том, что, как уже говорилось ранее, противник на протяжении уже нескольких месяцев систематически срывал план перевозок в главную базу ЧФ. Даже на протяжении затишья в начале года больших запасов продовольствия и, в особенности, боеприпасов создать не удалось. Львиную долю объема морских перевозок отнимал Крымский фронт, на ликвидацию которого у немцев ушло менее двух недель. Когда в конце мая противник начал наносить по объектам СОРа мощные артиллерийские и авиационные удары, первое время они встречали довольно интенсивное противодействие. Однако, наземный штурм начался только 7 июня, когда боекомплект зенитных орудий снизился до критически низкого уровня, а многие батареи уже были уничтожены. Новые на смену не прибывали.
Как следствие этого, высота бомбометания немецких самолетов значительно снизилась, а их удары стали намного точнее. Звенья вражеских истребителей начали висеть над аэродромом Херсонесский маяк в несколько «этажей», а отогнать их было практически нечем. 1 июня «Мессершмитта» подожгли на взлете Ил-4 старшего лейтенанта Юрина, который, несмотря на смертельное ранение, сумел посадить самолет на ВПП, где бомбардировщик и сгорел. Другая машина погибла в этот же день под градом вражеских бомб. Спустя три дня трагическая участь постигла экипаж капитана Разумова. Самолет с выработавшими сроки замены моторами должен был перелететь на Кубань, и потому летчик согласился принять на борт пять человек технического персонала. Разумов не успел уйти в море, когда его настигли истребители. С аэродрома видели, как после четвертой атаки объятый пламенем «Ильюшин» рухнул в море…

Для авиагруппировки противника, базировавшейся на крымском аэродроме Саки, ночные рейды бомбардировщиков из состава 2-го МТАП прошли отнюдь не безболезненно, о чём можно судить хотя бы по приведённой ниже фотографии, на которой запечатлены разбитые He111 из состава II/KG100.

Оставшиеся в строю самолеты эскадрильи Чумичева продолжали бомбить наступающие немецкие войска, но теперь из-за активности истребителей им пришлось ограничиваться лишь одним вылетом в сутки на рассвете, когда противник ещё не успевал помешать взлету бомбардировщиков. 8 июня в одном из вылетов пропал без вести самолет капитана Куприянова. В целом же, потери за 12-й месяц войны (22.05–22.06.1942) составили восемь машин – больше, чем за весь период с 22.12.1941 по 22.05.1942. Многие бомбардировщики получили повреждения от огня с земли и постоянных артобстрелов на аэродроме. Число исправных Ил-4 в Севастопольской авиагруппе за первую декаду июня сократилось с семи машин до одной, а общее число машин в части к 23 июня снизилось до 17 (7) бомбардировщиков. На земле же, несмотря на героизм моряков и летчиков, враг продолжал рваться вперед. К исходу 20 июня он полностью захватил северную сторону и вышел к восточным окрестностям города. Огонь по аэродромам стал настолько точен, а блокирование истребителями настолько плотным, что дальнейшее базирование бомбардировщиков было равносильно их потере. Остатки эскадрильи Чумичева вернулись на Кубань, где вместе с главными силами полка приняли участие в ночных налетах перед фронтом СОРа. Полк из-за удаленности своих аэродромов не мог произвести более одного вылета за ночь, но экипажи, имевшие ранее практику посадок на Херсонесском аэродроме, садились там и за ночное время успевали совершить ещё по два-три вылета. После последнего предрассветного удара они, забирая раненых бойцов, брали курс на восток и приземлялись в Анапе. Весь день экипажи отдыхали, а с наступлением сумерек всё повторялось вновь.
Слов нет, авиаторы действовали самоотвержено, но что могли изменить 20–30 ночных самолето-вылетов в то время, как ПВО СОРа фиксировало не менее 600 самолето– пролетов Люфтваффе ежедневно! Итог борьбы был предрешен. Немцы захватили неограниченное превосходство в воздухе, доставка подкреплений и снабжения морем стала невозможна. На рассвете 29 июня противник внезапно переправился через Северн™ бухту и вышел в тыл войскам СОРа. Артиллеристы отражали высадку с винтовками в руках – для их орудий не было снарядов. В течение следующего дня в результате ожесточенных уличных боев немцы захватили центр Севастополя. Силы оборонявшихся оказались исчерпаны во всех отношениях. В ночь на 1 июля командование СОРа «осуществило» эвакуацию войск в лице самих себя. Рядовым защитникам главной базы Черноморского флота оставалось погибнуть или сдаться в плен. В их числе оказались и 15 техников 5-го ГМТАП, до последнего момента обеспечивавших действия наших самолетов…
Обострение обстановки весной 1942 г. на южном направлении не осталось незамеченным и со стороны командования ВВС ВМФ. В начале июня было принято решение усилить морскую авиацию, действовавшую на южном направлении, за счет свежесформированного 36-го минно-торпедного полка Особой Морской Авиационной Группы. Эта часть начала создаваться 4 марта 1942 г. на основании приказа Наркома ВМФ № 0053, согласно которому предписывалось сформировать полк на аэродроме Богослово в составе 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС КБФ, но впоследствии решение изменили, и базой формирования стал Саранск, где дислоцировался 1-й запасной авиаполк ВВС ВМФ. Первым командиром стал бывший командир 2-го МТАП подполковник А.Г.Биба. Командиры эскадрилий и звеньев прибыли с Тихоокеанского флота, а летчики – прямиком из летных училищ. Полк создавался по штату 030/255-А т. е. имел две эскадрильи десятисамолетного состава. Получение матчасти – новеньких Ил-4 московского завода – затянулось, к тому же сопровождалось потерей одного бомбардировщика 5 мая.
15 апреля формирование 36-го МТАП было в основном завершено, и он приступил к боевой подготовке. Она продолжалась не слишком долго. Уже 5 июня начальник ВВС ВМФ генерал-лейтенант С.Ф.Жаворонков приказал части немедленно передислоцироваться на аэродром Майкоп, где она поступала в распоряжение находившегося на Черном море заместителя наркома ВМФ адмирала И.С.Исакова. Выполнить это плохо подготовленном авиаторам оказалось не так-то просто. 6 июня один бомбардировщик потерпел катастрофу на промежуточном аэродроме в селе Борское (Куйбышевская обл.) где базировался 2-й ЗАН ВВС ВМФ. В обломках «Ила» погиб стрелок-радист и два механика. Не успели перелететь в Майкоп, как произошло новое происшествие. 12 июня во время учебно-тренировочного полета разбилась машина командира 2-й эскадрильи капитана П.Осипова. Весь экипаж погиб. Это переполнило чашу терпения командования – командир полка Биба был снят, а на его место назначили бывшего комэска из состава 1-го ГМТАП Героя Советского Союза, участника первого налета на Берлин майора А.Я.Ефремова. Впрочем, волну катастроф это не остановило, и 27 июня под Майкопом вместе с экипажем разбился Ил-4, который пилотировал младший лейтенант М.Щукин. Лётная подготовка и изучение театра заняло еще некоторое время, в результате чего полк фактически не успел принять участие в боях за Севастополь. Первый боевой вылет состоялся в ночь на 28 июня, когда бомбардировщики 5-го ГМТАП и 36-го МТАП бомбили ялтинский порт, где базировались вражеские торпедные катера. Первый вылет сопровождался и первой боевой потерей – пропал без вести «Ильюшин» командира звена лейтенанта А.Черемисова. 5 июля самолеты обоих полков поставили шесть английских мин (первый случай применения) в севастопольской бухте, потеряв один из восьми вылетавших. Впрочем, и это не принесло желаемых результатов – таким количеством мин нанести потери можно было разве что случайно.
В этот период в очередной раз проявилось неумение командования ЧФ правильно оценить обстановку и сосредоточить все силы для выполнения главной задачи, которой применительно к описываемому периоду безусловно представляются действия по поддержке сухопутных войск. Еще в конце июня, до завершения боев под Севастополем, германское командование начало мощное наступление на южном фланге советско-германского фронта. Хотя главный удар наносился из района достаточно удаленного от моря Воронежа, очень скоро выяснилось, что вражеский замысел предусматривает окружение войск Юго-Западного и Южного гронтов в районе севернее Ростова-на-Дону, середины июля по указанию Ставки авиация Черноморского флота приняла активное участи в нанесении ударов по войскам противника в районе станицы Тацинской. Не являлись здесь исключением и оба минно-торпедных полка. Тем не менее, противнику удалось нанести тяжело поражение войскам обоих фронтов и 24 июля взять Ростов. Реакцией Сталина на это стало появление известного приказа № 227 «Ни шагу назад». С 25 июля в непосредственное соприкосновение с противником вступили войска Северо– Кавказского фронта (командующий – маршал С.М.Будёный), которому в оперативном отношении и подчинялся Черноморский флот. С учетом этого кажется парадоксальным, что командованию ЧФ удалось доказать командованию фронтом и Ставке, что главная опасность для Кавказа исходит не с суши, по которой энергичными темпами продвигались немецкие войска, а из портов Азовского моря и Крыма!
В результате, в конце июля ВВС ЧФ начали новую серию ударов по ним. 26-го числа 11 Ил-4 бомбили железнодорожную станцию Керчь, 28-го – порт Керчи, 29 и 30-го – снова станцию и т. д. В ночь на 31 июля ставились мины – у мыса Камыш-Бурун и у порта Геническ (соответственно две и четыре). 26–28 июля три групповых вылета на «свободную охоту» совершили торпедоносцы. Во всех случаях сбрасывались торпеды, но лишь один раз по морской цели (конвой БДБ), да и то неудачно. В других случаях не обнаружив целей экипажи торпедоносцев сбрасывали свой боезапас на Ялту и Феодосию. Эти вылеты продолжались даже тогда, когда под давлением немецкого наступления в 4–5 августа полкам пришлось перебазироваться с аэродромов Майкоп и Белореченская в Гудауты и Алахадзи на территории Абхазии. К этому моменту в 5-м ГМТАП оставалось 10, в 36-м – 16 машин.

Итальянские торпедные катера в порту Ялты, лето – осень 1942 г.
10 августа пал Майкоп, а 12-го – Краснодар. Противник продолжал на широком фронте продвигаться к побережью Черного моря, угрожая разрезать наши части в районе Тупасе или Новороссийска. Лишь ввиду непосредственной угрозы базам флота в бой за них была брошена морская авиация. Первый налет в интересах сухопутных войск имел место только 17 августа, когда 18 Ил– 4 в дневное время бомбили вражеские колонны, наступавшие из района Краснодара на Новороссийск. Мощные удары периодически наносились и впоследствии, однако эти действия не считались приоритетными, и потому не планировались штабом ВВС как следует. В частности, бомбардировщики не обеспечивались истребителями и штурмовиками для подавления зенитных батарей. В результате в период с 22 августа по 22 сентября из состава обоих полков было потеряно девять Ил-4 и четыре экипажа. Враг продолжал рваться вперед и 31 августа взял Анапу, отрезав, таким образом, части Керченской военно-морской базы от сухопутной связи с Новороссийском. Лишь спустя два дня после этого части 46-й немецкой и 19-й румынской пехотных дивизий на катерах и паромах начали форсировать Керченский пролив, чтобы высадится на Тамани. Эта высадка фактически никак не влияла на общую обстановку – наши отрезанные части все равно не могли удержать Таманский полуостров и нуждались в немедленной эвакуации, но командование ЧФ, получив подтверждение десантным намереньям противника, немедленно переключило свои ВВС с танков под Новороссийском на паромы у деревни Кучгуры. В результате за несколько дней ударов противник лишился одного парома Зибеля и нескольких рыболовных катеров. И в дальнейшем, уже после захвата немцами и румынами Новороссийска (10 сентября) мы продолжали бить по портам Крыма, тратя на это около 50 % всех самолето-вылетов ударной авиации! Наибольший успех был достигнут при налете восьми Ил– 4 на Ялтинский порт днем 9 сентября. В знаменитом налете приняли участие самолеты обоих полков, причем группу 5-го гвардейского вел комэск майор Ф.Чумичев, 36– го – комэск капитан Н.Балин. Залогом успеха стали два обстоятельства: налет оказался внезапным для вражеской ПВО, а само бомбометание осуществлялось с небольшой высоты. ФАБ-250 попала в мол, у которого базировались итальянские торпедные катера. Её взрыва оказалось достаточно чтобы потопить «MAS-571» и «MAS-573», а также нанести повреждения ещё трем катерам. Вот так в результате одной единственной бомбы вышла из строя целая флотилия «москитов»! БДБ «F 125» после попадания бомбы выбросилась на мелководье и сильно обгорела, «F 134» в результате другого попадания полностью вышла из строя и в дальнейшем использовалась в качестве маяка в Феодосии. Успехов, хотя и не столь значительных удалось добиться в налетах на Керчь 17 сентября и Балаклаву 18-го. Тогда от попаданий «соток» выгорела БДБ «F 533», осколочные повреждения получил наливной лихтер «Мозелле» и несколько катеров-тральщиков.
Радуясь этим успехам, нельзя не заметить, что все они были достигнуты в стороне от главного направления, которым в тот момент, вне всякого сомнения, являлась поддержка наших сухопутных войск на Кавказе. Именно там противник сосредоточил свои главные усилия, и именно по этому он не смог обеспечить необходимой плотности системы ПВО своих крымских портов. Не обошлось и без чувствительных потерь. Так, 15 сентября с воздушной разведки морских коммуникаций противника не вернулся самолет командира 2-й эскадрильи 36-го МТАП Балина. В результате к 24 сентября 5-й ГМТАП располагал 7 (5) Ил-4 на аэродроме Гудауты, а 36-й МТАН – 11 (7) на аэродромах Бабушеры и Алахадзи. В конце сентября – октябре было потеряно еще две машины: 26 сентября пропал без вести бомбардировщик старшего лейтенанта Кудрина, 6 октября в катастрофе на аэродроме Бабушеры погиб экипаж 36-го МТАП капитана Гаврилова. 28 октября командование ВВС ЧФ приказало передать И оставшихся Ил-4 и 14 экипажей 36– го МТАП в состав 5-го ГМТАП. Оставшись «безлошадными» остальные экипажи 36-го авиаполка в ноябре выехали в Казахстан на станцию Тайнча, где части предстояло переформироваться на базе 3-го запасного полка. Однако, спустя полтора месяца планы командования изменились. 36-й МТАП вернулся в Грузию, где он был вновь пополнен и подготовлен к действиям, но уже на ленд-лизовских «Бостонах». Что касается же 5-го ГМТАП, то ему суждено было стать единственной частью ВВС ВМФ трех западных флотов, провоевавшей с первого до последнего дня войны исключительно на заслуженных ильюшинских ветеранах.

Бомбардировщики 2-го МТАП над Таврией, лето – осень 1942 г.

Капитан Д.Минчугов, участвовавший в неудачной атаке транспорта «Ташкент» (25 ноября 1942 г.) >, оставленного при эвакуации нашими порта Феодосии.
Боевая работа аналогичного характера, хотя и не с таким напряжением и результатами продолжалась гвардейцами и в оставшиеся месяцы 1942 г. Дважды (2 и 25 октября) ставились мины: шесть в Керченском проливе и две у Феодосии. С небольшой интенсивностью продолжались вылеты торпедоносцев, особенно после очередной директивы Наркома ВМФ от 21 октября, в которой он ставил в пример ВВС КБФ. Два небольших конвоя были атакованы в октябре (3 и 31-го), по одному в ноябре (4-го; кроме того, 1 ноября атаке подвергся одиночный транспорт) и декабре (21-го). Поскольку при отсутствии противодействия Люфтваффе торпедоносцы действовали в светлое время, летчики могли легко определить результаты своих атак – их не было. Официально считается успешным лишь удар трех торпедоносцев (пилоты капитаны Д.Минчугов, И.Василенко и лейтенант Андреев) по корпусу транспорта «Ташкент» (5552 брт) в порту Феодосии днем 25 ноября. Это судно было потоплено вражескими бомбардировщиками еще 1 января 1942 г. в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, и теперь, по данным нашей воздушной разведки, противник пытался его поднять и ввести в строй. В 13:55 экипажи атаковали стоявшее у южной стенки дамбы судно и доложили об одном попадании, после которого «Ташкент» окутался дымом. Журнал боевых действий Морского коменданта Крыма не подтверждает этого донесения. По немецким данным первая торпеда попала в южную стенку и её взрыв проделал в ней отверстие диаметром 4 метра, вторая угодила в северную дамбу, не нанеся ей повреждений, а третья вызвала оползень причальной стенки. Впрочем, на судьбу «Ташкента» это никак не повлияло – немцы на самом деле не планировали его восстанавливать. Успехи у черноморских торпедоносцев были ещё впереди.
Окончание следует.
В СТРОЮ СОВЕТСКИХ ВВС