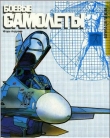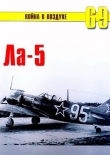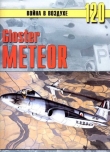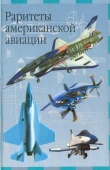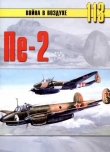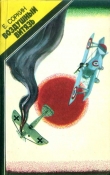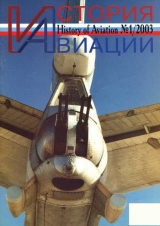
Текст книги "История авиации 2003 01"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Торпедоносцы Ильюшина над Чёрным морем
канд. ист. наук подполковник Мирослав Морозов
Несмотря на то, что 2-й минно-торпедный полк ВВС ЧФ был официально сформирован более чем за год до начала войны, по состоянию на 22 июня 1941 г. он все ещё находился на этапе организационного периода. Полностью готовыми к действиям могли считаться из пяти эскадрилий полка только 1-я и 2– я. Хотя 3-я эскадрилья была укомплектована личным составом, имевшим хорошую лётную подготовку, но её экипажи не успели отработать групповую слётанность даже в составе звеньев, а о том, чтобы выполнять задание всем составом эскадрильи даже речи не шло. Два последних подразделения (4-я и 5-я эскадрильи) были укомплектованы исключительно «желторотиками» – лётчиками выпуска весны 1941 г., имевшими, незначительный налёт да и то в простых метеоусловиях.
Таким образом, из 62 экипажей авиаполка полностью боеготовыми считались всего лишь 12. Поскольку часть формировалась недавно, то для её вооружения использовали только новейшие бомбардировщики-торпедоносцы ДБ-ЗФ с моторами М-87, остаточный моторесурс которых, даже после довольно интенсивной почти годовой эксплуатации был ещё весьма значительным и составлял (в среднем по эскадрильям) 74 %. К 22 июня подразделения, выполнявшие различные задачи по курсу боевой подготовки, базировались в Сарабузе, а полностью боеготовые – в Карагозе. Именно этот крымский аэродром в первые месяцы войны и стал основным местом базирования 2-го минно-торпедного полка ВВС ЧФ.
Обстановка первых недель войны на Черном море серьезных опасений не внушала. Грозный вал немецкого наступления стал ощущаться здесь лишь в конце июля – начале августа, а до этого времени командование флота всецело посвятило себя реализации довоенных замыслов. Согласно директиве Наркома задачи флота на военное время заключались в обеспечении господства на Черном море, недопущении высадки десантов и действий кораблей противника по советскому побережью, блокаде побережья Румынии, уничтожении или захвате румынского флота, а также содействию сухопутным войскам. При этом стоит заметить, что наш Черноморский флот по всем статьям намного превосходил выделенные для действий на театре объединенные силы немцев и румын и фактически самого момента начала войны господствовал на море.


Сбитый в районе Констанцы советский СБ. На фото вверху – взрыв 250-кг бомбы, внизу – разрушения на одной из улиц Констанцы.

Боевая работа началась в первые же сутки с начала агрессии, поскольку еще днем своей шифровкой Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов приказал нанести бомбовые удары по основным военно-морским базам противника на театре – Констанце и Сулине. В 23 часа 22 июня Констанцу бомбило звено ДБ– 3 (командиры экипажей майор И.Сафонов, капитаны Ф.Костькин и Ф.Гапоненко), совершивших первый боевой вылет черноморских ДБ-3 и, открывших, таким образом, более чем трехлетнюю эпопею по разрушению этого порта. Первый её этап, пришедшийся на тяжёлое лето 41-го, завершился не в нашу пользу…
Главные силы полка в составе 33 ДБ-3 (в этом же налете участвовали также 27 СБ 40– го БАП ВВС ЧФ) бомбили порт на рассвете следующего дня. Бомбардировка с больших высот не принесла ощутимых результатов, хотя некоторые городские кварталы серьезно пострадали, а связь местного командования со столицей страны временно нарушилась. Из военных объектов пострадала одна немецкая зенитная батарея, на которой попаданием бомбы убило пять солдат. С учетом того, что из числа вылетевших на задание обратно не вернулся лишь один СБ, сбитый случайно оказавшимся над базой румынским «Харрикейном», общий результат можно охарактеризовать как удовлетворительный. В штаб, естественно, поступали более радужные донесения. Тактика бомбардировочной авиации по сравнению с «финской войной» не претерпела никаких изменений – повторные удары производились отдельными эскадрильями или даже звеньями с интервалами в несколько часов, действовавших с высот от 1800 до 4000 м. До конца суток порт «обработали» ещё две эскадрильи ДБ-3 (совершивших в сумме 16 самолёто-вылетов), а суммарный вес бомбовой нагрузки, сброшенной на Констанцу за сутки, достиг 53,3 тонн (в том числе 8,4 тонны зажигательных бомб).
Развить успех планировалось на следующий день, но в течение ночи обстановка в районе Констанцы претерпела коренные изменения – из-под Бухареста на находившийся вблизи города аэродром Мамайя перебазировалось не менее двух эскадрилий немецкой истребительной авиагруппы III/JG52. Вопросы взаимодействия и связи между немцами и румынами были отработаны заранее, благодаря чему появившиеся на рассвете 24-го ударные волны советских бомбардировщиков встретили жестокий отпор. Несмотря на яростное противодействие «мессеров», нашим самолетам удалось не только сохранить строй, но прорваться к назначенным объектам налета и прицельно сбросить бомбы, в том числе и на аэродром перехватчиков, где разрывами «фугасок» были уничтожены три Bf109, а ещё один был сбит в воздухе. Однако плата за этот Scnex оказалась слишком высокой. Из 14 [Б-3 и 18 СБ, принимавших участие в налете, на базу не вернулось три и семь машин указанных типов соответственно. Несомненно, что большая часть этих жертв приходилась на счет немецких истребителей, которые доложили о восьми победах, в то время, как их румынские коллеги – о четырех, а зенитчики о двух. Вызывает удивление тот факт, что наши потери не были большими. Дело в том, что по совершенно непонятным причинам машины 2-го минноторпедного не прошли оснащение нижними люковыми установками, необходимость которых показал опыт «зимней войны»! Это были первые, причем достаточно болезненные потери ВВС Черноморского флота.

Bf109E-7 из состава III/JG52 на румынском аэродроме Мамайя, лето 1941 г.

Результаты советских авиаударов по району порта Констанца временами выглядели весьма внушительно.



Экипаж этого ДБ-ЗФ попытался совершить вынужденную посадку в районе Констанцы.
Несмотря на неудачу, командование флота не могло своим решением прекратить налеты на порт. Тогда решили изменить тактику. В течение 25 июня для бомбежки нефтяных терминалов группами по два-три самолёта вылетало 11 «Ильюшиных». Очевидно, ставка делалась на внезапность появления небольших групп самолетов, которые сразу после нанесения удара должны были ложиться на обратный курс, а при необходимости «прятаться» в облака. Впоследствии она оправдала себя, но в тот день противник готовился к отражению нового крупного налета и держал в воздухе большое количество истребителей. Первая же группа наших самолетов была встречена истребителями на удалении 30–35 км от береговой черты. В результате немцам в течение дня удалось сбить ещё пять бомбардировщиков, что стало самыми большими суточными потерями ДБ– 3 на Черноморском театре за время войны. Многие самолеты получили тяжелые повреждения. Например, «ильюшин» лейтенанта Б.Беликова, «привез» на аэродром 700 пулевых и осколочных пробоин! Экипаж одной сбитой машины целиком попал в румынский плен, пяти других (имеются ввиду общие потери за 24–25 июня) – пропали без вести. Повезло летчикам из экипажей лейтенантов В.Юра и М.Абасова. Пилотам удалось посадить израненные бомбардировщики на воду в нескольких десятках миль от крымского берега. Первый экипаж пять, а второй шесть дней скитались на шлюпках по морю, героически сражаясь со стихией, но в конечном итоге были найдены и спасены.
Утром 26-го наше командование повторило удар по Констанце, на этот раз использовав в качестве главной ударной силы корабли Черноморского флота – лидеры «Москва» и «Харьков». Наша потрепанная авиация не смогла оказать им эффективной поддержки – по направлению к порту вылетели всего пара ДБ-3 и девятка СБ. Из-за неполадок в матчасти «Ильюшины» не дошли до цели, а группа СБ от противодействия ПВО потеряла четыре машины.
Лидеры, встреченные огнем береговых батарей, отстрелялись с дальней дистанции, а на отходе попали на оборонительное минное поле. «Москва» подорвалась и затонула. Узнав о результатах действий «господствующего на море» флота, Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов в тот же день приказал временно прекратить бомбардировки порта. С 30 июня, когда поступило указание приступить к бомбардировкам Плоешти, Констанца стала запасной целью. Спустя двое суток Народный комиссар вновь уточнил задачи: ВВС ЧФ следовало уничтожить нефтяные объекты в Плоешти, «поддерживать разрушения» в Констанце, а после выполнения задачи в Плоешти разрушить стратегически важный Чернаводский мост через Дунай. Таким образом, удары одиночных самолетов по Констанце продолжались и в дальнейшем. Всего же только за первый месяц войны по порту было нанесено 25 бомбардировочных ударов, в которых приняло участие 109 ДБ-3, 81 СБ и один Пе-2.
Некоторый всплеск активности наших ВВС наблюдался в начале августа. Так, вечером 3-го числа порт одновременно бомбили 18 ДБ-3, такое же количество СБ и два звена Пе-2, сбросивших в общей сложности восемь ФАБ-1000,18 ФАБ-500,18 ФАБ-250 и 102 ФАБ-100. К сожалению, даже несмотря на длительный перерыв вражеская ПВО оказалась настороже – на базу не вернулись два ДБ-3 и один СБ. Общие же потери при ударах по данному пункту составили по меньшей мере 13 ДБ-3. Следует признать, что гораздо больший эффект имели налеты эскадрильи Пе-2 и И-16 из «звена Шубикова». Последних к цели удара траспортировали с крымских аэродромов носители ТБ-3. Справедливую оценку всех этих действий сделали авторы труда «Военно-морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: «Своими действиями авиация вызывала большое напряжение в работе констанцкого порта, что влекло за собой сокращение вывоза нефтепродуктов. Однако разрушить военно-морскую базу противника авиация Черноморского флота не смогла. Это объясняется главным образом тем, что в ударах участвовало сравнительно небольшое число сил и они использовались не совсем правильно». Под последним, авторы труда подразумевали практиковавшийся в то время принцип выделения каждому звену или даже одиночному самолету самостоятельной точечной цели (корабля, нефтяного терминала, склада, аэродрома, позиции зенитной батареи и т. д.) в пределах черты порта. Сосредоточенного удара не получалось, хотя одновременно могло атаковываться до десяти объектов. Вера в высокие боевые возможности бомбардировочного звена, изрядно подорванная «зимней войной», на Черном море сохранялась в течение длительного времени.
Несколько раз самолеты полка, опять же в качестве бомбардировщиков, привлекались к налетам на речные порты Дуная. Наиболее интенсивные атаки пришлись на 10–13 июля. Основными целями при этом являлись мониторы противника – наиболее крупные и мощные корабли румынской дунайской дивизии. Хотя накрыть их бомбами не удалось, жертвами налётов (в них участвовали и СБ 40-го БАП) стали буксир и две баржи, большое число речных плавсредств получило повреждения. Всего же за первый месяц ДБ-3 вылетали для атаки этой группы целей 58 раз, но основную роль в этих действиях сыграли все же экипажи СБ, совершившие 249 самолёто-вылетов.
В ходе этих налетов 10 июля необычный подвиг совершил штурман 4-й эскадрильи полка старший лейтенант А.Толмачев. Во время удара по Тульче машина, пилотируемая комэском капитаном П.Семенюком, была атакована «Мессершмиттами». Их очереди прошили пилотскую кабину, убили Семенюка и тяжело ранили Толмачева. Бомбардировщик пошёл к земле. В этой ситуации истекающий кровью Толмачев успел вставить в гнездо имевшееся в передней (штурманской) кабине ручку управления, откинуть педали и взять управление самолетом на себя. «Ильюшин» управлялся, но с большим трудом – отказал левый мотор, поврежденные створки бомбоотсека остались в открытом положении, что сильно снижало и без того не слишком высокую скорость бомбардировщика. К счастью, для того, чтобы оказаться на своей территории нужно было всего лишь перетянуть через Дунай. Чудом истекающему кровью штурману удалось совершить посадку на фюзеляж на окраине села.
Попытки нанести потери флоту противника в районе устья Дуная одними бомбардировочными ударами не ограничивались. Здесь, как и на Балтике, после напомина ния Наркома ВМФ попытались развернуть минную войну.
Первая постановка имела место в ночь на 30 июня. Из четырех вылетавших экипажей ДБ-3 двое поставили по одной мине АМГ в Тульчинском гирле, один – в Сулинском. Четвертый самолет потерял ориентировку, вышел к Одессе и лишь затем взял верный курс. Над Дунаем он появился уже после рассвета, был атакован вражескими истребителями, но, несмотря на повреждения, сумел вернуться на базу и произвести весьма рискованную посадку с миной под фюзеляжем. Неудачи продолжали преследовать летчиков и в дальнейшем. На следующую ночь из-за неполадок в моторе ведущего самолета паре пришлось вернуться, не выполнив задания. Два других ДБ-3 сбросили свои мины в Сулинском гирле, но никаких потерь в этом районе противник не понёс. Затем последовал труднообъяснимый почти месячный перерыв. По всей вероятности, командование флотом просто не имело плана минной войны, который соответствовал бы сложившимся условиям. С одной стороны, конечно, хотелось бы засорить минами все румынские прибрежные воды, с другой – боялись затруднить действия своих сил, в частности подводных лодок, которым предписывалось прорываться на внешние рейды Констанцы и Сулины. В конце концов, подходы к Констанце все же решили заминировать.

Экипаж лейтенанта П.С.Скатова читает опубликованную в газетах речь И.В.Сталина от 3 июля 1941 г. Данный экипаж был сбит зенитным огнём противника в районе Одессы. Пилот и штурман погибли, а стрелок, сумевший выбросится с парашютом из горящей машины, попал в плен.
В ночь на 24 июля в направлении порта вылетело шесть самолетов. Двое из них были бомбардировщиками, имевшими задачу отвлечь ПВО порта. Свою задачу они выполнили, чего нельзя сказать о заградителях – двое из них сбросили мины южнее порта у Тузлы, а два других оторвались от ведущего, потеряли ориентировку и вернулись на аэродром. Вылет на следующую ночь прошел более организованно. Все шесть ДБ-3 сбросили мины севернее порта, перекрыв, таким образом, северный прибрежный фарватер. Последняя постановка состоялась на рассвете 26-го – пара «Ильюшиных» сбросила у Тузлы те самые мины, которые «не долетели» до требуемого пункта в первую ночь. Этой постановкой выполнение плана было закончено и больше в 1941 г. ВВС ЧФ мин не ставили. Никаких видимых результатов это минирование не имело, если не считать странного случая, когда патрулировавшая в районе Тузлы подводная лодка «М-58» зафиксировала на небольшом удалении за кормой сильный взрыв. Поскольку вражеских мин в этом районе не было, позднее в штабе предположили, что лодка подцепила минреп одной из АМГ. Нам эта версия представляется крайне маловероятной, да и взрыва АМГ даже на небольшом удалении вполне хватило бы, чтобы поставить в боевой карьере «малютки» жирную точку.
Наиболее длительной эпопеей активного периода войны на Черном море стали удары нашей авиации по Плоешти – центру нефтедобывающей промышленности Румынии. Первый налет состоялся вечером 1 июля. Из шести вылетевших ДБ-3 до цели дошли только два, а остальные повернули назад из-за неполадок в матчасти (одна пара сбросила бомбы по запасной цели; качество технического обслуживания самолетов в полку в то время находилось на недостаточно высоком уровне). Не меньше проблем создавала и штурманская подготовка. Хотя к налетам на город привлекались не более 12–16 наиболее опытных экипажей, какое-то количество самолетов постоянно не доходило до цели. Бомбы сбрасывались на запасные цели, причем один бомбардировщик в ночь на 15 июля вывалил свой груз на Бухарест, который, в утверждённый список целей не входил.

Знаменитый Чернаводский мост, по которому пролегал стратегический нефтепровод. На фото запечатлён результат попадания 100-кг фугасной авиабомбы с одного из советских бомбардировщиков летом 1941 г.
Помимо Чернаводского моста авиаударам подвергалась и железнодорожная станция Плоешти, где формировались эшелоны. На фото внизу запечатлены железнодорожные цистерны, разбитые в результате налётов советской авиации.


Штурман одного из сбитых самолётов ВВС ЧФ лейтенант Чобанов, подобранный экипажем румынского торпедного катера 26 июня 1941 г.
Кстати, факт бомбардировки румынской столицы был использован Гитлером в качестве официального повода для проведения воздушных ударов по Москве. Впрочем, малая эффективность ударов в значительной мере объясняется расстоянием, которое приходилось преодолевать пилотам. По прямой от аэродромов 2-го МТАП до Плоешти было около 650–700 км, но маршрут с облетом Констанцы с юга составлял все 850. И если первые налеты совершались на рассвете или в вечерние сумерки, то вскоре из-за возрастания противодействия вражеской ПВО на всем маршруте полета вылеты пришлось планировать исключительно на ночное время.
Сначала летали небольшими группами, звеньями или даже отдельными машинами, но после 5 августа Нарком ВМФ потребовал применять авиацию реже, но более массированно, после чего в ночи на 12, 14 и 18 августа город бомбили семь, девять и шесть ДБ-3 соответственно. Всего, вплоть до 18 августа, ВВС ЧФ нанесли по нефтеперегонным заводам, расположенным на окраинах города, 22 удара, в которых приняли участие 73 ДБ-3 и восемь Пе-2 (последние вылетали только 3 и 13 июля). Несмотря на сильную систему ПВО противника (налеты стоили нам девяти ДБ-3 и двух Пе-2) лётчикам удалось нанести серьезный ущерб нефтедобывающей промышленности Румынии. По свидетельствам иностранных журналистов в Плоешти почти после каждого налёта полыхали пожары, в огне которых погибло около 250 тысяч тонн нефтепродуктов, а для полного восстановления причиненных разрушений требовался полугодовой срок.
Участвовали ДБ-3 и в операции по разрушению Чернаводского моста через Дунай. Этот мост фактически являлся «ахиллесовой пятой» не только нефтепровода, но и румынской нефтедобывающей отрасли в целом, поскольку при обрушении моста перекачка нефти из Плоешти в Констанцу могла прерваться на несколько месяцев. На рассвете 10 августа пять из шести вылетавших «Ильюшиных» с высоты 1500–3000 м сбросили свой бомбовой груз по этой цели. Бомбардировка оказалась совершенно внезапной для противника и никакого противодействия не встретила. Успех в 05:00 развила четверка истребителей-пикировщиков И-16, знаменитого капитана А.Шубикова, несших 250-кг «фугаски» и доставленная к району удара двумя ТБ-3. Спустя ещё два часа с большой высоты атаковали шесть Пе-2. Всего в тот день на мост было сброшено четыре ФАБ-500 и 17 ФАБ-250, но дешифровка снимков показала, что успеха достигли только И-16, добившиеся трех прямых попаданий, в то время как самолеты других типов их не имели вовсе. Поэтому к повторному удару привлекались исключительно «звенья Вахмистрова». 13 августа шесть «ишачков» сбросили на мост 12 ФАБ-250, добились пяти попаданий, разрушивших две фермы моста и нефтепровод. Задача была решена.
Август, по сути дела, был последним месяцем 41-го года, когда черноморская авиация решала флотские задачи. В сентябре последние удары по экономическим и военным центрам на вражеской территории уже имели непосредственную привязку к борьбе на сухопутном фронте. Так, 6 сентября Нарком ВМФ порекомендовал Военному совету ЧФ нанести воздушные удары по Бухаресту с целью оттянуть туда с фронта часть сил вражеской истребительной авиации, а также вызвать соответствующий моральный эффект у румынских войск. Поскольку к этому времени уже был накоплен определенный опыт налетов на Берлин, авиаторам приказали использовать максимально тяжелые бомбы. Военный совет с готовностью взялся за дело. Уже в ночь на 8 сентября семь ДБ-3, ведомые замкомандира полка майором Н.Токаревым (тем самым, что 30 ноября 1939 г. случайно бомбил Хельсинки), сбросили три ФАБ-1000 и восемь ФАБ-500 на вражескую столицу. По всей видимости, произведенный эффект и сразу же возникший резонанс в мировой прессе оказались даже большими, чем ожидалось, в связи с чем уже на следующий день Нарком приказал временно воздержаться от налетов, а уже 11 сентября вражеская авиация дважды бомбила жилые кварталы Одессы, в результате чего погиб 121 и получили ранения 162 мирных жителя. Командование Одесским оборонительным районом взывало к мщению. Увы, осуществлять его было практически нечем – дневные вылеты полностью выматывали экипажи, большое число машин вышло из строя. Второй и последний налет состоялся в ночь на 13-е, когда три ДБ-3 сбросили на город три ФАБ-1000 и две ФАБ-250. Силы для продолжения налетов отсутствовали, а 26-го числа сам Нарком приказал использовать авиацию исключительно для поддержки сухопутных войск.
Подводя итог действиям нашей ударной флотской авиации в течение первых двух месяцев начального периода войны на Черном море, следует заметить, что их результаты оказались не слишком впечатляющими. Как и в ходе «зимней войны», нашим авиаторам не удалось уничтожить с воздуха немногочисленный вражеский флот, причем «балтийские» оправдания типа плохих метеоусловий и обширности шхерного района тут не проходят. Чуть больший успех имелся при нанесении ударов по экономическим объектам, но это достижение легко объяснить сосредоточенностью последних в одном месте и, как следствие, их гораздо большей уязвимостью. Помимо недостатков в боевой подготовке, техническом обеспечении, а также чисто тактического характера, на которых мы уже останавливались выше, следует выделить ещё один.
Дело в том, что оперативное напряжение ВВС ЧФ в два первых месяца войны было, пожалуй, наименьшим по сравнению со всем последующим временем. Судите сами: до 17 августа, т. е. практически за два месяца боев примерно 50–55 самолетов 2-го МТАП совершили всего 324 боевых вылета, что давало примерно три вылета на самолет в месяц. Это примерно в пять-шесть раз меньше той интенсивности, с которой летали их балтийские коллеги. Объяснить это можно только одним: командование ЧФ берегло ударную авиацию для выполнения главной задачи, которой оно считало… отражение вражеского морского десанта в Крыму и (или) на Кавказе.

ДБ-ЗФ, сбитый в районе Бухареста в ходе одного из двух налётов(справа) и румынское зенитное орудие (внизу).

В отечественной литературе не раз с гордостью отмечалось, что советская разведка смогла многое узнать о сосредотачивавшихся на границе вражеских группировках. Однако, наряду с несомненными удачами, наша зарубежная агентура регулярно «заглатывала» в значительных количествах даже не слишком аккуратно слепленную «дезу», которой вовсю снабжала Центр. В частности, разведка всерьёз сообщала, что противник стягивает в румынские порты многочисленные плавсредства и сухопутные войска, готовясь высадить десанты в Крыму и на Кавказе! К этому надо добавить, что немецкая контрразведка распространяла слухи о скором появлении в Черном море могучего итальянского флота. Последний к середине лета 1941 г. на самом деле уже был изрядно потрепан в ходе годичного противостояния с англичанами и с огромным трудом обеспечивал конвои со снабжением для «Африканского корпуса» генерала Э.Роммеля. Внутреннее ощущение превосходства противника над нами было настолько велико, что полностью закрывало глаза командованию на реальное соотношение сил.
В начале августа обстановка на южном крыле советско-германского фронта начала претерпевать серьезные изменения. Их важность руководство флотом осознало далеко не сразу, хотя с 9-го числа начались бои на дальних подступах к Одессе. Вскоре немцы форсировали Днепр в его нижнем течении, и передовыми отрядами начали выдвигаться к Перекопу. 12 августа стал первым днем, когда бомбардировщики ВВС ЧФ в дневное время действовали по наступающим колоннам войск противника. 2-й МТАП подключился к этим действиям только спустя десять дней, после того, как Начальник ГМШ ВМФ своей телеграммой потребовал усилить действия авиации по войскам противника в районе Одессы. От летчиков требовалось, действуя с крымских аэродромов, обнаружить наступающие вражеские колонны и, преодолев зенитный огонь и противодействие истребителей, нанести бомбовой удар. Об истребительном прикрытии вопрос не ставился – ограниченный состав одесской авиагруппы был загружен собственной боевой работой.
С 27 августа 2-й МТАП добавил к своим многочисленным боевым задачам разрушение переправ, наведенных противником в низовьях Днепра. По сравнению с предыдущими месяцами летать стали очень много. Только между 25 и 31 августа экипажи ДБ– 3 совершили 110 боевых вылетов, сбросив 730 ФАБ-100 и 74 РРАБ. Еще 22 групповых удара (106 самолёто-вылетов) последовали между 12 и 28 сентября. Потери при такой интенсивной боевой работе были неизбежными. 22-го, в первый же день налетов, в Карагоз не вернулись три «Ильюшина», а до конца месяца – ещё четыре машины. 3 сентября Нарком ВМФ обратил внимание командования ЧФ на большие потери бомбардировщиков, но изменить что-либо в данной ситуации не представлялось возможным. К 20 сентября в полку оставалось всего 24 ДБ-3 и ДБ-ЗФ, из которых исправными были только 16. Общие потери с начала войны до 25 сентября составили 37 самолётов (два сбиты истребителями, 10 зенитной артиллерией, 19 не вернулись на аэродром базирования по неизвестным причинам и ещё шесть разбилось в результате небоевых причин). 30 сентября во время ожесточенных боев на Перекопе полк, в значительной степени утративший свою боеспособность перелетел на аэродромы Анапы и Краснодара для отдыха и доукомплектования.
Благодаря директиве Ставки о создании командования войсками Крыма, ВВС Красной Армии предписывалось выделить в состав ВВС Черноморского флота некоторое количество ДБ-3. В конце сентября поступили 10 первых машин, а в октябре и ноябре – еще по семь. Лётный состав полка был пополнен за счет экипажей, переведённых с ВВС Тихоокеанского флота. Эти вливания позволили сохранить боеспособность 2-го МТАП на удовлетворительном уровне, не в пример тому, как это имело место на Балтике. На 8 октября в полку насчитывалось 31 ДБ-3 и ДБ-ЗФ, из них исправными были 27, а спустя месяц количество самолётов в полку возросло до 41 (38 исправных). Боевые вылеты с середины октября, правда, возобновились (4-я и 5-я эскадрильи даже ненадолго вернулись на крымский аэродром Карогоз), но с этого момента они стали исключительно ночными. Тем временем противник в конце октября ворвался в Крым, вслед за чем началась осада Севастополя. «Ильюшины» 2-го МТАП принимали посильное участие в поддержке сухопутных войск, но теперь очень многое зависело от подготовки пилотов и штурманов к ночным полетам.
Набор целей для ударов был традиционен – станции, аэродромы и населенные пункты, в которых отмечалось сосредоточе-, ние войск противника или осуществлялась перегрузка и складирование предметов снабжения. Местным изыском были бомбежки войск противника непосредственно перед фронтом Севастопольского оборонительного района. Поднявшись с кубанских аэродромов (с октября полк базировался на полевых аэродромах в районах станиц Крымская, Константиновская и Курганная), бомбардировщики летели вдоль береговой черты Крыма, определялись по мысу Сарыч и брали курс на север. Долетев по расчету времени до нужного места, сбрасывали серию САБов и уже тогда бомбили как днем. Потери уменьшились, но в начале ноября при попытке поддержать днем отступающие войска разбитого Крымского фронта в районе Керчи полк потерял сразу пять машин.

Командиры 2-го МТАП полковник А.Биба (вверху) и майор Н.Токарев (внизу) на снимке второй справа.

| Месяц | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | |
| (22.6-22.7) | (22.7-22.8) | (22.8-22.9) | (22.9-22.10) | (22.10-2.11) | (22.11-2.12) | (22.12–22.1) | Всего | |
| Потери | 15 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 56 |

Подготовка ФАБ-100 перед подвеской в бомбоотсек.
В начале ноября произошла и смена командования части. Подполковник А.Биба, имевший большой опыт формирования и подготовки авиачастей, убыл в распоряжение начальника ВВС ВМФ. Командиром полка стал его бывший заместитель майор Н.Токарев, заместителем – командир одной из эскадрилий капитан Ф.Костькин – тот самый, который в начале 1943 г. возглавит 24-й МТАП ВВС Северного флота.
Боевая работа аналогичного характера продолжалась и в последующие месяцы. После эвакуации наших войск из Керчи 2– й МТАП переключился на бомбардировку целей перед фронтом Севастопольского оборонительного района (СОРа), с конца декабря поддерживал высадившиеся на Керченском полуострове десанты. В начале декабря новый командуюший ВВС ЧФ генерал– майор Н.А.Остряков (сменил генерал-майора В.А.Русакова в ноябре) отдал распоряжение о перебазировании звена из состава 2-го МТАП непосредственно под Севастополь на аэродром Херсонесский маяк. 3 декабря приказ был выполнен. С этой взлетной полосы бомбардировщики могли действовать по текущим заявкам командования перед фронтом оборонительного района днем с непосредственным сопровождением истребителей. К сожалению, малые размеры аэродрома, находившегося к тому же в пределах дальности стрельбы немецкой полевой артиллерии, не позволяли разместить здесь большего число самолетов. Те, что были, в промежутках между полетами отстаивались в выдолбленных в скальной породе капонирах. Командовал звеном старший лейтенант М.Буркин, ставший впоследствии Героем Советского Союза и командиром 5-го гвардейского МТАП, летчиками были старшие лейтенанты И.Мурашев и В.Мироновский.

Развалины Севастополя.

Румынские минные заградители «Мурджеску» и «Дачия», являвшиеся достаточно крупными боевыми кораблями противника, не раз привлекали внимание авиации Черноморского флота.
Надо признать, что переброска пусть даже небольшой части сил на передовой аэродром была сделана весьма своевременно – 17 декабря 11-я армия Манштейна начала второй штурм главной базы Черноморского флота. Тройка «Ильюшиных», благодаря небольшой дальности до целей, могла по несколько раз в день взлетать с испещренной воронками взлетной полосы и наносила весьма эффективные удары по позициям вражеской артиллерии и подходящим резервам. По этой же причине за счёт большей части горючего экипажи могли брать полную бомбовую нагрузку (десять «соток» в бомбоотсек и до трёх «пятисоток» на подфюзеляжных бомбодержателях). Ночью в небе над Севастополем базировавшиеся на Херсонесе бомбардировщики сменяли самолеты остальных эскадрилий полка. Однако уже на второй день штурма обстановка обострилась настолько, что в дополнение к звену Буркина на Херсонесский маяк прибыло еще два ДБ-3 комэска капитана Ф.Чумичева и старшего лейтенанта А.Агапкина. Эти машины приходилось ставить под открытым небом, где они в любой момент могли быть уничтожены. Впрочем, застать их на аэродроме было не так просто – в дни отражения штурма пилоты эскадрильи Чумичева совершали по три – четыре вылета в день. К счастью, потерь долгое время не было, так как плохая погода серьёзно затрудняла действия немецких истребителей, но 27 декабря один ДБ-3 был потерян при взлете с полуразбитой ВПП. Поскольку накал боев к этому времени начал стихать – немцы прекратили штурм из-за высадки наших морских десантов под Керчью и Феодосией, число действовавших в составе авиагруппы СОРа «Ильюшиных» вновь сократили до трех.