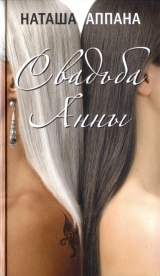
Текст книги "Свадьба Анны"
Автор книги: Наташа Аппана
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
8
Кортеж с шумом возвращается, раскрасневшиеся молодожены выходят из машины, гости торопятся к столам, накрытым для аперитива. Анна ищет меня глазами, а мне не надо ее искать, мне она видна отсюда, со стула, на котором я сижу близ алтаря, на опушке леса. Она улыбается сразу всем, все время, как будто улыбка приклеилась к ее лицу, но в этом нет ни малейшего напряга. Интересно, сколько раз она мысленно проигрывала эту сцену до сегодняшнего дня, до 21 апреля? Так ли она представляла себе чувства, которые сейчас испытывает? Мне хотелось бы, чтобы она мне об этом рассказала. Чувствует ли она, как сердце колотится в груди? Удается ли ей поймать хоть одну мысль из тех, что проносятся в голове? Превосходит ли это все ее ожидания или недотягивает до них?
Анна позволяет себя целовать, позволяет восхищаться собой, касаться своего платья, ее берут за руку, а она ищет меня, все-таки она ищет меня, я знаю этот ее взгляд, я знаю, что за ним стоит все возрастающая тревога, которая уже переходит в раздражение. И пусть доченька моя об этом раздражении помалкивает, а думает она тем не менее так: «Ну и куда она, черт возьми, подевалась опять? Что еще она там вытворяет?» Ив, стоящий рядом с молодыми, пожимает плечами в ответ на что-то, нашептанное моей дочкой ему на ухо, Анна вдруг оборачивается к лесу – и вот она я, спокойно сижу, положив руку на спинку стула, не курю, не пью, одна, потому что Роман, едва заслышав гудки машин на дороге, пошел встречать новобрачных. Анна пробирается ко мне сквозь толпу гостей. Я горжусь собой, я ничего не натворила, она сейчас похвалит меня за то, что так образцово себя вела, сидела тихо-спокойно, но не тут-то было…
– Что ты сделала со своей прической?!
Этот вопрос – как стена, на которую я внезапно налетела. Сухо отвечаю, что, пока не доказано противного, я имею право делать с собственными волосами что хочу. Она смотрит на меня удивленно, и, конечно, я на этом не останавливаюсь, мне надо оправдаться. Я мать и потому не могу позволить себе беспричинного гнева, не могу позволить себе бессмысленно раздражаться, нет, я должна найти какие-то разумные, логичные оправдания своему поступку, неопровержимые, как дважды два четыре. Говорю, что волосы были стянуты слишком туго и у меня начала болеть голова. Взгляд Анны становится чуть мягче, но я вижу, что она недовольна этой моей первой оплошностью. Она считает, что это только начало серии промахов, что распущенные волосы – подножка ее организованной не хуже военного парада свадьбе, здесь не должно быть ничего, выходящего за рамки, эти распущенные волосы открывают путь невесть каким осечкам и огрехам, из-за которых все может покатиться в тартарары, посыпаться, и день будет безнадежно испорчен. Я знаю, что она такая, что она терпеть не может неожиданностей, вообще всего незапланированного, потому и дала мне список – один-два-три-четыре, большое «А», маленькое «а», большое «Б», маленькое «б», все расписано по часам, каждое примечание обозначено звездочкой, рамки строго очерчены, чтобы ни разу, ни на минуту я не могла выскользнуть, сделать что-нибудь лишнее, бесполезное, непредусмотренное, эти большие «А» и «Б», эти цифры и звездочки не дадут мне вырваться. Анна почти строго приказывает мне пойти выпить со всеми, и я встаю, повинуясь собственному ребенку. Мне стыдно за себя, за свою бесхарактерность, за то, что меняю в последний момент правила собственной игры, лишь бы не идти на конфликт.
У накрытых столов застаю Ива за разговором с молодой женщиной, по-видимому страшно заинтересованной профессией издателя. Коротко стриженная пепельная блондинка, в профиль напоминающая Джин Сиберг, [27]27
Джин Сиберг (1938–1979) – американская актриса, обязанная своей известностью в основном европейским режиссерам, прежде всего – Годару, у которого снялась в его знаменитой дебютной картине «На последнем дыхании» (1959).
[Закрыть]– матовая кожа, красиво очерченные плечи, платье без бретелек, без всякой необходимости приподнимающее и без того упругую молодую грудь… Понимает ли она, какое это счастье – то, чем она сейчас обладает? Хорошо ли мы понимаем, насколько обманчива молодость, хорошо ли понимаем, что гладкая кожа без единой морщинки, сильное, не поддающееся усталости тело… что все это неминуемо начнет рыхлеть, увядать, обвисать, что вскоре и нам понадобятся всевозможные уловки, чтобы пускать пыль в глаза: утягивающее белье, лифчики на размер меньше, коронки и мосты, кремы против морщин, пилинг, визаж-макияж-татуаж, краска для волос, декоративная косметика – то, над чем мы смеялись и к чему относились с таким презрением?
Девушка слушает Ива, чуть склонив голову набок. Она ему явно нравится – вижу по тому, как он ею любуется, как заглядывает ей в глаза. Господи, да он просто оторваться от нее не может, будто магнитом его тянет. Подхожу ближе и слышу, что он рассказывает байку про автора, который не знает французского языка. Она звонко хохочет, как бы невзначай кладет руку на лацкан его пиджака, чуть наклоняется, неприметно подвигается к нему. Наверное, вот так и дают мужчине понять, что его хотят, наверное, вот так и соблазняют… Так и надо делать, если собираешься поймать мужчину на крючок… Ив видит меня, слегка краснеет и уже открывает рот, но я не намерена мешать этому любовному дуэту, прикладываю палец к губам и ухожу на цыпочках, прихватив бокал шампанского. Музыканты переместились на террасу и играют старые песенки, чтобы добавить сепии в окраску этой религиозной церемонии: «Му Funny Valentine»; «You Look Wonderful Tonight»; «Strangers in the Night»; «Like a Bridge over Troubled Water»; «Smoke Gets in Your Eyes»… [28]28
Песни Фрэнка Синатры, группы «Платтерс», Саймона и Гарфункеля, Эрика Клэптона.
[Закрыть]
Небо розовеет, свет, меняясь, кое-где падает на долину, а лес от этого кажется гуще, ближе. Оглядываюсь. Никто на меня не смотрит, никто не обращает внимания. Роман что-то говорит Анне, держа руку на плече сына. Ив все еще занят своей девчушкой. Другие – кто парами, кто группами. Музыканты играют сосредоточенно, и это делает их чуть-чуть смешными: можно подумать, они выступают в Зальцбурге, такие у них серьезные лица, такие серьезные и выражающие такую забавную уверенность в собственном таланте.
Отрываюсь от стрекочущей толпы, от звона бокалов, от смеха и потихоньку двигаюсь к темной чаще. Склон, ведущий к замку, весь целиком порос лесом, и нижняя дорога этот лес огибает. Обхожу алтарь, как будто это и впрямь что-то священное, машинально проверяю, есть ли в сумке сигареты, и ступаю на лесную тропинку. Сначала деревья стоят так далеко одно от другого, что я могла бы пройти между ними, разведя руки. Здесь сыро, земля почти мокрая, иду дальше, убеждая себя, что не рискую заблудиться, что максимум того, что мне грозит, – оказаться у подножия холма, ну и что тут такого… Делаю еще несколько шагов и оборачиваюсь – теперь уже не видно ничего, кроме деревьев, одни деревья кругом. Елки с шершавой чешуйчатой корой, под ногами – хвоя, у подножий стволов – мох. Закуриваю под их защитой: никто не увидит, никто не заметит дым. Ели дарят мне убежище, какого у меня нет, какого у меня никогда не было, стена, щит, преграждающий путь шуму, пустым разговорам, по-английски есть для этого дивное определение – «small talk». Глубоко затягиваюсь, и с каждой затяжкой мне все печальнее. Я думаю об Анне, о ее муже, которого она любит и уверена, что вот так же будет любить вечно. Ловлю себя на том, что, восхищаясь тем, как бесстрашно она пошла на замужество, немножко завидую дочери. Я-то всегда себя сдерживала, всю жизнь только этим и занималась, а теперь вдруг, с Романом, почувствовала себя другой. С ним я и была другой, была той, кого всю жизнь в себе душила, а она вдруг на мгновение пробудилась и страстно пожелала стать свободной. Той, что готова рисковать.
Когда окружающие меня люди узнают в конце концов, что у меня есть взрослая дочь, которую я вырастила совсем одна, вот эту вполне расцветшую женщину, они, наверное, восхищаются, удивленные смелостью «этой иностранки», пусть не очень сильно, но все-таки восхищаются. А ведь на самом деле с Анной я никогда не чувствовала, что проявляю смелость. Наоборот: она росла – и это было мне поддержкой и утешением, я знала, что ребенок – мой якорь, что ребенок не позволит мне уйти, что даже в самые тяжелые минуты одиночества и депрессии у меня не возникнет желания покончить со всем, уснуть и не проснуться. И потом, Анна – такая… она – как самая моя тайная мечта, как исполненное заветное желание. Я никогда не видела другого настолько же послушного, настолько же рано повзрослевшего ребенка. Настолько же ровного, настолько же сознающего свою ответственность по отношению к матери. Ко мне. Как будто она очень-очень рано поняла, что я родила ее, чтобы совпасть с миром, чтобы повзрослеть самой и стать взрослой в глазах других, чтобы обрести тень, где можно укрыться.
Кажется, что земля под моими ногами двигается, – наверное, из-за того, что ступаю по гниющим листьям. Они не могут тут высохнуть, тут слишком мало солнца, потому им только и остается, что стареть в сумерках, дряхлеть в сумерках, – и это немножко похоже на нас самих: они теряют соки, теряют жизненную силу, чтобы наконец, выдыхая сладковатый аромат, превратиться в бесформенную массу. Здесь, в этой сырости, в этом мире, где мертвые питают живых, я жалею, что больше не захотела рисковать. Не захотела остаться с мужчиной навсегда. Почему я думаю об этом сейчас, я, специалист по жизни в одиночестве, я, так мало чему доверяющая? Доверяющая только Анне, своим книгам и своему замкнутому пространству, где все знакомо до мелочей.
В глубине души я завидую женщинам, у которых на безымянном пальце два кольца: одно, с бриллиантом, свидетельствует о помолвке, другое – обручальное. Женщинам, которые показывают таким вот образом, что у них есть их собственный, накрепко привязанный к ним мужчина. Надо было мне это сделать. Надо было поселиться вместе с любовником, никуда от него не спешить, позволить обыденности поглотить себя, отправляться в магазины за окружной дорогой в поисках мебели, выбирать всякие мелочи и безделушки, которые мы расставили бы по полкам, а потом я бы смотрела на них и вспоминала, как мы покупали их вдвоем… Я могла бы научиться тому, как существовать с мужчиной в одном пространстве, я научилась бы удобно устраиваться рядом с этим телом, непохожим на мое, этим телом, часто сплетающимся с моим и утоляющим мою жажду. Я должна была бы научиться удерживать мужчину, делать семейную жизнь для него приемлемой, пробуждать в нем желание быть со мной, оставаться со мной, не встречать его с хмурым лицом, не встречать его молчанием, а иногда и грубостью… Я могла бы пойти на этот риск – такой, в общем-то, заурядный для большинства людей и так ужасающий меня…
Ужасающий. Потому что, слишком хорошо себя зная, я понимаю, что постоянно ждала бы, когда это кончится. Ждала бы минуты, когда все пошатнется и любовь сбежит от меня, вытечет, как из дырявой бочки. Ждала бы дня, когда спокойно пройду мимо того, кого так любила, и мне не захочется провести рукой по его волосам, прикоснуться к его плечу, поцеловать – и не потому, что он станет мне противен, а только потому, что я привыкну к его присутствию, перестану его замечать. Я все время ждала бы прихода того смутного, неопределенного раздражения, которое кажется беспричинным. Мои чувства смешались бы, превратившись в одну серую массу, в какой-то переваренный суп, из них ушла бы вся острота, я больше не ощущала бы, что его не хватает, не радовалась бы, увидев его снова, не закрывала бы глаза, когда он входит в меня, потому что это сделалось бы привычным, обыденным, потому что ничего не осталось бы от дивного чувства нетерпения, когда два тела тянутся друг к другу, соприкасаются… Вялость чувств – вот чего я боюсь, и я уверена: только и именно тем, что жду этой вялости, только и именно тем, что подстерегаю ее появление, я навлеку это на себя, и любовь обернется братскими отношениями, и постель будет казаться инцестом.
Не знаю, сколько времени я провела здесь, в тени деревьев, полная до краев лесными запахами, неподвижная, такая неподвижная, что стала безразлична насекомым. Черви выползли из-под мертвых листьев, муравьи снова тронулись в путь, я слышала шелесты, шорохи, я стала частью их мира, они ко мне привыкли. Мне казалось, что не хватит сил вернуться туда, слышать смех, видеть, как они едят и жестикулируют, ну почему мне это так трудно? И все-таки я сошла с места, двинулась в ту сторону, потому что стало немножко страшно: а вдруг меня ищут, мне нельзя портить такой день. Каблуки увязали в мягкой земле, в мягком слое опавших листьев, словно меня пытались тут удержать, но я все-таки шла.
Вся зыбкость моей жизни собралась здесь, в этом мгновении, когда все мое тело просилось остаться в тени, а я не захотела его слушать, не сумела его послушаться. Я запихиваю, словно в корзину с грязным бельем, которому незачем быть на виду, свои сожаления, свои угрызения, свои желания, я уминаю их, уминаю, уминаю, я набиваю эту корзину плотнее некуда, я запихиваю туда все, что есть, в том числе и свой пол, я смыкаю веки, я затыкаю уши, я сжимаю губы, я захлопываю крышку.
9
В семь мы садимся за стол в парадном зале на первом этаже. Тут кругом украшения из оранжевой папиросной бумаги, а на столах – обернутые фольгой горшочки с пылающими маками и застенчивыми гипсофилами. Тарелки – белые, сверкающие, такие чистые, что скрипят, если провести пальцем. Черноволосая Анна в белом платье – точь-в-точь итальянская мадонна. Иногда она искоса на меня поглядывает, наблюдает за мной, и я стараюсь держаться прямо, улыбаться, бодрюсь изо всех сил. Думаю, никто не заметил моего побега в лес. А может, мне только кажется, что я надолго исчезала отсюда, может, меня не было всего лишь несколько минут и только в моем сознании отсутствие растянулось на часы.
Анна подходит, приобнимает меня за талию, шепчет на ухо: «Все в порядке, мама?» Ее пальцы касаются меня, я чувствую ее тело рядом, от нее исходит тепло, мягкая ткань ее платья ласкает мою руку, ее аромат окутывает меня, как я люблю ее в эту минуту, мою дочку, как я ее люблю.
Когда она была у меня в животе, я все думала, а как я буду ее любить. Смогу ли любить ее так, как ей бы хотелось? Сумею ли прислушиваться к ней так, чтобы измениться, если ей не понравится, как я ее люблю? Если моя любовь окажется неуклюжей, это ее отдалит от меня или она поймет, что любовь – не только то, как ее выражают? Мы еще минутку стоим рядом, и этой минутки хватает, чтобы ей сказать, как я ее люблю. Она удивлена, я чувствую, как она вздрагивает, напрягается, но прижимается ко мне еще сильнее. Я не из тех родителей, которые постоянно повторяют детям «я тебя люблю», может быть, потому, что сама в детстве таких слов не слышала, а может быть, мне казалось, что слова эти говорят слишком часто и оттого они перестали что-нибудь значить. Наверное, я ошибалась. Я думала, что каждый прожитый вместе день жизни, все мелочи, из которых каждый день складывается, все поступки, все прощения, все компромиссы – лучшие доказательства любви и вполне искупают отсутствие этих трех слов…
После долгой паузы Анна отвечает: «И я тебя люблю, мама», и сердце мое лопается, как шарик, наполненный водой, и ничем, ничем уже не остановить потока. Все напряжение этого дня, когда я должна была постоянно следить за собой, все эти нахлынувшие на меня воспоминания, и этот человек, который появился так поздно, так поздно, и дочка, с которой я расстаюсь… У меня, разумеется, нет платка, я хлюпаю носом, опустив голову, и на моей груди расплываются два темных пятна. Мне стыдно, я уверена, что все на меня смотрят. Анна тянется к столу, хватает с первой попавшейся тарелки колом стоящую от крахмала салфетку, с хрустом ее разворачивает и дает мне.
– Да это же салфетка!
– Наплевать!
Мне до того нравится эта новая, легкомысленная Анна, что я начинаю смеяться сквозь слезы. Вообще-то жест вполне безобидный – взять со стола салфетку, если она понадобилась, – но я знаю, как важно для Анны, чтобы каждая вещь была на своем месте, знаю, какое огромное значение она придавала малейшей детали той огромной конструкции, которую так старательно рисовала, чертила, высчитывала, планировала. Сложенные в виде митры салфетки, стоящие точно в центре тарелок, – сколько тарелок, столько и салфеток, выверенное до миллиметра расстояние между тарелками. Будто бы прочитав мои мысли, Анна говорит этим своим спокойным, хорошо поставленным голосом:
– Как видишь, мама, не такие уж мы с тобой и разные.
Эта фраза… я буду слышать ее всю свою жизнь. Она будет, как нынче, синонимом сообщничества, а иногда, боюсь, и знаком того, что я не сумела распознать в Анне свою родную дочь, убежденная, будто я прямая ее противоположность. Ну и сама, всю сознательную жизнь воевавшая с любыми обобщениями, закипавшая, стоило кому-то обратить внимание на цвет кожи или тип волос, сама, сама, удивительно простым и очевидным образом, отдалила от себя дочку. Потому что у нее светлая кожа, потому что она любит цифры и ежедневники, потому что для нее главное – порядок во всем, потому что она хочет выйти замуж и жить как положено замужней женщине, потому что ей не нравится то, без чего не могу я, без расплывчатости и недоговоренностей. Наверное, я забыла, что она – это тайная часть меня самой, я – несбывшаяся, я – какой была бы, если бы осталась с родителями в этой солнечной, в этой тесной для меня стране, в этой стране красоты и расизма, в этой стране, где работа – добродетель, а ложь свидетельствует, что ты умеешь жить. Может быть, если бы я не прочитала столько книг, если бы не познакомилась с Мэтью, не узнала магии слов, приходящих ниоткуда, может быть, если бы я не стала сознательно и смело исследовать ту часть тени, ту часть пустоты, которую ношу в себе, может быть, я бы стала Анной.
Сколько времени мы отдаем тому, чтобы осложнить свою жизнь? Сколько времени мы тратим на светскую жизнь, на свой имидж, на то, чтобы казаться, и на то, чтобы схитрить, увильнуть, отвертеться, забывая о тех, кто нам дорог? Сколько мы разрабатываем теорий равенства, терпимости и сколько раз при этом доказываем – у себя дома, сняв маску, – что мы самые обыкновенные расисты?
Вытерев слезы, я торжественно заявляю Анне, что счастлива сидеть за столом для почетных гостей. Она улыбается, она меня поддразнивает, говорит, что я люблю красивые слова и пышные эпитеты. Молодые, их родители, свидетели на самом деле сидят за единственным длинным столом лицом к другим гостям, а те – за круглыми столиками. У нас – слева направо: Ив, раскрасневшийся то ли от шампанского, то ли оттого, что сердце уже забилось неровно из-за той девицы; Эвелина, мама Алена, в своей неизменной шляпе; Эрик, свидетель Алена, который вез нас на машине; Анна, Ален, потом я, мама новобрачной, и – рядом – Роман, папа свежеиспеченного мужа.
Да, он уже тут, похоже, он изучает под столом свои руки. Интересно, а как я сейчас выгляжу? Роман привстает, увидев меня. Такая старинная вежливость, и я уже начинаю таять от нее. Ну кто, кто сейчас так делает? Как было бы чудесно, если бы мужчина, который ведет вас куда-то, приподнимался всякий раз, когда вы выходите или садитесь за стол… Не такие ли мелочи делают человека в ваших глазах чуть-чуть лучше других? Он говорит: «Вы плакали». Я улыбаюсь куда печальнее, чем хотелось бы, он берет меня под локоть и помогает сесть. Там, перед нами, в зале, гости суетятся в поисках своего места, передвигают стулья, громко смеются, кого-то окликают, и я вдруг понимаю, что сидим только мы двое – Роман и я. Мы сидим и молчим, и я думаю, что первый раз в жизни молчу с человеком, которого едва знаю. И в этом молчании, в котором мы живем, осознавая, какой гвалт стоит кругом, защищенные неведомо какой волшебной силой, нам хорошо, так хорошо.
Я поворачиваюсь к нему, улыбаюсь, на мгновение он тонет взглядом в моих волосах, где-то между левым ухом и плечом, эта черная завеса мешает ему видеть то, что за моим плечом. Думает ли он о том, что было недавно, думает ли о том, что будет дальше, хочет ли меня поцеловать, нет, не просто коснуться губ губами, словно новичок в этом деле, а вобрать мой рот, вобрать целиком, как спелую ягоду, оставить мне свою слюну?
Вопреки всем ожиданиям, я заговариваю первая:
– Ален мне сказал, что вы журналист…
– Он так сказал? Хм… Смешные представления о нас у наших детей, правда? Да, я был журналистом, когда Ален был маленький. А сейчас живу в Африке.
Сердце дрогнуло. Я подумала и на мгновение, на крохотную минутку поверила, что он живет в Мали, у него дом в Бамако, в городе, куда двадцать три года назад Мэтью уехал, не обернувшись. Я придумала это для себя, словно от этого сегодняшний день осветился бы, все в моей жизни внезапно встало бы на место, она сложилась бы, подобно гигантскому пазлу, и я наконец смогла бы посмотреть на нее без страха.
Нет, нет и нет. Роман живет в Кении, в Западной Африке, может быть, у подножия Килиманджаро, далеко от красной пыли и реки Нигер, протекающей через Бамако, работает в какой-то международной организации.
– А я работаю в женском журнале.
– Да? Анна мне сказала, что вы писательница.
Я расхохоталась так, словно это была удачная шутка. Пока ведь мне не приходилось выбирать, какое из двух занятий – моя профессия. А какой смысл я придаю этому слову – «профессия»? Одна работа необходима для того, чтобы у меня был какой-то распорядок, чтобы, потрудившись, я могла отдохнуть, чтобы у меня были обязанности, чтобы я научилась наконец вести себя на людях, чтобы знала, что делается в мире. Другая – для того, чтобы ускользать, высвобождаться, жить своей жизнью, одной своей – и многими жизнями.
Мне часто хочется уйти из редакции, особенно с тех пор, как Анне не нужен мой заработок, но я думаю, что в писательском ремесле – во всяком случае, у меня это так – безумие всегда где-то рядом. Однажды я была особенно близка к нему. Это случилось лет десять назад или около того. Анна впервые уехала от меня на каникулы, уехала совсем одна в Бретань, погостить у Ива и Каролины. А я сняла дом в Вассербурге, в Эльзасе, в департаменте Верхний Рейн. Увидела фотографию в газете – и сняла. Дом был с красной крышей, и я вспомнила Кап-Малере, я особенно любила это место на Маврикии: маленький пляж, буквально горсточка песка, колкая высохшая трава – все то, что люди не любят, потому что не сядешь, церковь с красной крышей, такая четкая на фоне синего моря, а далеко-далеко, у горизонта, черная скала, остров-камень, Куэн-де-Мир. Несколько казуарин [29]29
Свое название эти растения получили за сходство ниспадающих ветвей с оперением казуаров – птиц, близких страусу эму. Листья казуарин представляют собой маленькие колечки, которые обвивают стебли, свисающие вниз длинными узкими плетьми.
[Закрыть]почти у моря, но тут не полежишь в тенечке. На Кап-Малере нужно стоять лицом к морю, отчасти из уважения к нему. Ну, в общем, посмотрела на дом – и вспомнила все это, хотя, конечно, здесь все было не совсем так. Здесь красная крыша на фоне зеленого холма, а ворота выкрашены в светло-голубой цвет. Я подумала, что проведу в Вассербурге две тихие недели, буду по утрам писать, потом гулять, потом отдыхать, потом возвращаться к столу, писать, читать, писать, жить этим, этим жить…
Так я и делала в первые дни: просыпалась рано и писала до одиннадцати часов. Я устраивалась в маленькой гостиной, где мебель, как мне казалось, подпирала стены и потолок, держа на себе весь дом. Если я что-то переставляла – чашку, скажем, или стул, – то замирала на минутку, прислушиваясь к малейшему потрескиванию, почти ожидая, что следом за ним дом задрожит, а потом медленно – филенка за филенкой, кирпичик за кирпичиком – развалится, как постройка из костяшек домино. В одиннадцать я выходила во двор завтракать – сидя спиной к холму, к вишневому дереву, к овцам и к чаще леса, рассматривая долину, где ниже угадывалась речушка – по вечерам было слышно журчание воды. Потом я отправлялась на прогулку, часов до двух-трех, шла в лес, там было прохладно, я была одна, но ничего не боялась. Как-то я проходила через поле маков и в эту минуту необычайно остро почувствовала, как не хватает рядом Анны.
Прогулки мои получались очень долгими – не потому, что я забиралась куда-то далеко, а потому, что никуда не торопилась, часто останавливалась, мечтала, говорила сама с собой. Возвращалась вся потная, быстренько переодевалась в купальник и бросалась мыться под душем во дворе. Около дома было построено из грубых шершавых камней нечто вроде купальни, и я там в первый же день стала все драить как ненормальная. Из крана текла только холодная вода, у меня от нее становилась гусиная кожа по всему телу, зато уж спала после такого купания – как убитая. Около пяти просыпалась и снова садилась писать, а поработав, читала, ела, слушала радио. Вечером засыпала – таким глубоким, таким чудесным сном, какой бывает, когда ты совершенно свободен и когда чувствуешь, что потрудился на славу и что день прошел не напрасно.
Поначалу этот безупречный ритм вызывал у меня эйфорию, я ощущала, как оживаю в тишине. А четверо суток спустя проснулась от того, что мне послышался шум. Открыла дверь – и испугалась ночи: черной, непроницаемой, беззвездной, безлунной, укутанной тишиной, как толстым слоем ваты. Назавтра я не писала, я обшаривала шкафы, ящики, чемоданы. Нашла старую одежду – примерила. Нашла старые фотографии – разложила их перед собой и стала рассматривать людей, которые жили и бывали в этом доме. Почему они его бросили, почему уехали из этой прелестной деревушки?
Я часами сидела взаперти, ставни не давали дневному свету проникнуть в комнату, я потеряла счет времени и обо всем забыла. Забыла, что надо звонить Иву и Каролине, забыла, зачем сюда приехала. Я шла на голоса, которые слышала в доме, снова и снова шарила в ящиках, целые часы проводила, изучая прожившую много десятков лет посуду… и в конце концов поняла, как мало останется после меня самой: несколько книжек, пыль, прах, едва ли – воспоминания. Я вглядывалась в лицо женщины на снимке, смотрела ей в глаза, я забывала поесть, я писала не роман, который писала в это время, а что-то другое, я забывала, забывалась… Вспоминаю сейчас, как стояла на берегу реки, другой, пониже, той, что стекала с гор, ледяной, темной, как ступила в нее одной ногой, сразу же погрузившейся до икры в тинистое ложе, потом другой; вспоминаю, что стояла так долго, до тех пор, пока не перестала чувствовать ноги, бедра, живот, грудь, плечи, себя, что бы то ни было. Только рот, втягивавший в себя холод этой тревожной воды, только глаза чуть повыше быстрого потока. Я делала это методично, аккуратно, я продвигалась вперед и вперед, мне хотелось понять, как далеко я могу зайти. Я подумала о Вирджинии Вульф, о том, как она утопилась в Оусе, набив карманы камнями. [30]30
Вирджиния Вульф (1882–1941) – английская писательница, критик, литературовед, переводчик. Первые попытки самоубийства были ею совершены в тринадцать лет и в двадцать три года. В 1938 г. в Испании погиб ее племянник, к которому они с мужем относились как к сыну, писательница попыталась с головой уйти в работу, но была уже в состоянии тяжелой депрессии. В начале 1941 г. бомбардировкой был разрушен дом Вульфов, они переехали в Родмэлл графства Сассекс. Здесь Вирджиния стала жаловаться домашним на то, что все время «слышит голоса птиц, поющих на оливах Древней Греции», а затем, не желая, чтобы остаток своей жизни муж провел в заботах, связанных с ее помешательством, 28 марта 1941 г. исполнила то, что не раз описывала в своих произведениях и что не раз пыталась осуществить на практике, – покончила с собой, утопившись в реке Оус.
[Закрыть] «Дорогой мой, дорогой, – написала она тогда Леонарду, – я уверена, что снова схожу с ума».
И вот именно в это мгновение я вспомнила, что у меня есть дочь тринадцати лет, и, стало быть, я не имею права играть со своей жизнью и своими призраками. В тот же вечер я уехала, и мне понадобился добрый месяц, чтобы прийти в себя. Я потеряла шесть кило, я не написала ничего путного – сплошные помарки и обрывки фраз, мне казалось, что я лишилась кожи, что каждая моя клетка ободрана, сочится кровью, любое прикосновение причиняло мне адские муки. Доктор обнаружил аритмию и шумы в сердце. Лекарства, отдых, регулярное наблюдение, диета – он прописал мне все, что только можно. Но я знала, что дело не в болезни – дело в том доме, населенном скрипами и следами умерших людей, в доме, где призраки, живущие во мне самой, встретились со своими собратьями, где я чуть не сошла с ума. Вот. Именно поэтому всякий раз, как мне приходит в голову бросить работу корректора, я вспоминаю тот отпуск. Вспоминаю беспричинный смех, мною овладевавший, безнадежную тьму, меня окружавшую, и ледяную реку, в которую я погружалась.
Роман смотрит на меня.
– Анна так сказала? Ну да, я и пишу тоже. Но работаю корректором в женском журнале.
– А пишете – что? Романы?
– Да.
Он не спрашивает, как делают многие, сколько романов я уже написала, – можно подумать, самореализация и успех зависят от количества написанного. Он не спрашивает, хорошо ли они продаются, он не спрашивает, о чем я пишу, потому что знает: я не смогу сказать об этом одной фразой, как назвала бы тему диссертации. Он не спрашивает, есть ли у меня литературные премии, показывают ли меня по телевизору, он не спрашивает даже, какой фамилией я подписываю свои книги. Он не задает ни одного вопроса из тех, на которые я научилась отвечать с вежливой улыбкой. Папа Алена ни о чем не спрашивает больше, он просто улыбается во весь рот, я вижу его зубы – чуть желтоватые от никотина, и моя симпатия к нему возрастает. И тогда спрашиваю я – спрашиваю, не хочет ли он выкурить сигаретку, спрашиваю шепотом, он озирается, видит, что все стоят, никто не сел к столу, похоже, они ждут какого-то сигнала, может быть, гонга, решительно кладет салфетку на стол, подхватывает меня под руку, и мы, так и оставшись под руку, быстренько исчезаем – подальше от этой какофонии. Кажется, никто не обратил на нас внимания, я успела только глянуть в сторону Анны, у которой вроде бы какие-то проблемы с рассадкой гостей, потому что брови у нее нахмурены, пальцами она трет лоб, и понятно, что решение головоломки потребует времени.
Мы выходим. Ночь не спешит наступать, в воздухе висит розоватый туман. Мы остаемся возле замка, он дает мне прикурить и не морщится, когда я протягиваю ему пачку своих длинных ментоловых сигарет, почти без никотина, пижонских, как говорит Ив, и мы оба молча вдыхаем белый дым. И тут он говорит, что завтра после обеда у него самолет.
– А ночуете здесь?
– В смысле – в замке? Нет. Ален снял для меня комнату для гостей в деревне чуть пониже замка. А вы? Возвращаетесь в Лион?
– Нет, я-то ночую здесь. У меня чудесная комната в левой башне. Оттуда видны лес и долина.
– И олени по вечерам?
– Может, и олени…
Он мечтательно улыбается. Его сигарета погасла, он держит фильтр большим и указательным пальцами, смотрит вперед – на пустой алтарь, на сдвинутые кое-как стулья, на бегающих с пронзительными криками детей, на лес и огни долины. Мне так хорошо здесь стоять, прислонившись к стене, так приятно прижиматься голой спиной к холодному камню, и мне хочется, чтобы это длилось и длилось, мне хочется, чтобы мы были вдвоем, только вдвоем, и больше ничего бы не было, и у меня хватило бы смелости взять его за руку, повести за собой в левую башню, откуда видны лес, и долина, и, может быть, олени по вечерам. Но нам надо возвращаться, нам надо производить хорошее впечатление на собравшихся, идеальная мама, идеальный папа бок о бок.
Бесшумно усаживаемся на те же места. Анна идет к нам, бросает на ходу: «А-а, вы уже познакомились!» – потом тоже садится, все начинают звенеть ложечками по бокалам с шампанским, и Ив поднимается, чтобы произнести речь. Ему подают микрофон, он отказывается, ему хватит голоса, он не читает по бумажке, но бумажка все-таки зажата в кулаке. Воцаряется странное молчание: это не ее отец; это ее отец; это человек, все еще влюбленный в свою жену, которая умерла пять лет назад; это человек, который еще хочет нравиться; это человек, у которого никогда не было детей и который сейчас выдает замуж дочку писательницы, чьи книжки публикует в числе прочих. Он начинает так:








