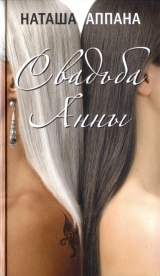
Текст книги "Свадьба Анны"
Автор книги: Наташа Аппана
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Я поехала к нему и прожила в его бретонском доме с ним вместе неделю после похорон. Ив тогда совершенно обезумел от боли, он каждое утро стискивал меня в объятиях, он плакал у меня на груди, он гладил меня по спине и так крепко сжимал мои руки, будто боялся, а вдруг я тоже сейчас исчезну. А я знала, что в эти минуты он думает о жене, об одиночестве, с которым ему предстоит научиться справляться… В этом доме, наполненном присутствием Каролины, его милой, милой женушки, которая варила такие дивные варенья, а Ив сладкоежка, и во время поездок в Африку он неизменно объедался мерзким липким желе отвратительного розового цвета, хотя в это желе не кладут ничего, кроме сахара и красителя. Ему уже не хватало близости с Каролиной, и он страшился, что впереди только и есть, что долгая-долгая пустота.
Да, конечно, это было очень важно для них, я знаю. Ведь всякий раз, как я видела их вдвоем, нежность, близость, сообщничество прорывались в каком-нибудь жесте, и я сразу отводила взгляд, сразу чувствовала свою отдельность, непричастность, будто единогласие их тел отгораживало их от всего остального мира. Она перебирала пальцами его волосы, а он, положив голову ей на плечо, одной рукой придерживал ее локоть, а другой ласково поглаживал ее спину. Эту пару – после двадцати-то лет совместной жизни – все еще тянуло в постель! Иногда они обменивались за столом понимающими улыбками – и Каролина краснела… Кожа у нее была тонкая, напоминала шелковую бумагу, и – как я себе представляю – не только на лице, но и везде такая же: шелковистая, нежная, и вообще она была тоненькая, хрупкая, чувствительная, и думаю, если Ив сжимал ее в объятиях слишком сильно, на коже сохранялись отпечатки его объятий.
Мы с Ивом часто получали приглашения на книжные фестивали, где вечера проводили наедине друг с другом. И всегда между нами оставалась явственная линия любовной дружбы, которую никто из нас не хотел переступить. Каждый раз, как эта линия делалась зыбкой, тот, кто в эту минуту был сильнее, на шаг отступал, и назавтра мы оба были страшно довольны отсутствием перемен. Уже шесть лет, как Каролины не стало, но Ив до сих пор носит с собой в бумажнике ее снимок. В издательстве, на письменном столе, – фотография: они в горах, она впереди, он смотрит ей в спину, не в камеру. Его изображение неясное, ее – совершенно четкое, на нее падает свет, она словно сама вся светится. У них всегда было так: жена на свету, муж – как будто чуть в стороне, чуть позади, и не просто из галантности, но из-за того, что его тело и его сердце таяли от любви, и он становился слишком уязвимым рядом с ней. Когда они были вместе, его силой была она. Так я думаю. С тех пор как ее нет, он больше не ест пересахаренных африканских сластей, чересчур сильно они напоминают о потере, о том, чего он лишился.
Ив и Анна задремали. Я снимаю туфли, подбираю под себя ноги. В этой машине я чувствую себя защищенной. И – сама не знаю почему – вспоминаю фотографию моей ноги, сделанную, когда мне только-только сравнялось тридцать. Дело было в Сете, [19]19
Сет – город и порт на юге Франции, на берегу Средиземного моря, в департаменте Эро.
[Закрыть]городе, который я недолюбливаю, мне не нравятся отдыхающие, которые жарятся под солнцем так, будто оно вот-вот исчезнет навсегда, мне не нравятся гостиницы с почерневшими стенами, и густо поросшие шерстью мужчины с тяжелыми перстнями на пальцах и цепками на запястьях, и морщинистые дамочки с волосами морковного цвета. Но в Сете устроили книжный фестиваль, и я приехала туда читать последнюю главу «Постороннего» Камю. [20]20
Роман, содержащий ключ к философии автора. Сознание Мерсо, героя «Постороннего», пробуждается лишь к самому концу повествования, когда он оказывается перед лицом смертной казни за случайное, беспричинное убийство незнакомого араба. Прототип современного антигероя, он бесит судей неприятием их лицемерия и отказом признать собственную вину. Альбер Камю (1913–1960) – французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 г.
[Закрыть]Другие читали модных авторов – много секса, шуток, театральности в голосе и жестах…
Я поднялась на сцену – в красной юбке с белой блузочкой чувствуя себя одновременно желанной и недоступной. Я прочла эту последнюю главу «Постороннего» стоя, бестрепетно, я ощущала, как зал замирает, как концентрируется на мне его внимание, люди затаили дыхание, и вот уже нет ничего, кроме моего голоса, моей красной юбки, легко касающейся щиколоток; есть только я и ветер, ветер, ветер, уносящий слова Камю… «…Чувствую готовность все пережить заново. Как будто недавнее мое бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира… Для того чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного: пусть в день моей казни соберется много зрителей и пусть они встретят меня криками ненависти». [21]21
А. Камю. Сочинения. М.: Прометей, 1989 (пер. Н. Немчиновой).
[Закрыть]
Когда все закончилось, я спустилась со сцены, опустошенная так, как не было еще никогда. Я вся дрожала, у меня были слезы на глазах, и какой-то парень подошел ко мне с большой бутылкой воды – держи, мол, успокойся.
Я устроилась под акацией, сбросила туфли, мне ужасно хотелось лечь на спину и раскинуть руки крестом… Чуть подальше стоял мужчина с фотоаппаратом, он смотрел на меня с легкой тревогой, – наверное, ему показалось, что я слишком бледная. Я закрыла глаза, чтобы вокруг меня не было никого, кроме ветра. Мне было тридцать лет, Анне десять, она осталась в Лионе у одной из моих подруг, и я чувствовала, что нет у меня не только сил, но и надежд. Когда я открыла глаза, фотограф стоял передо мной – он протягивал снимок. У него, оказывается, был «поляроид», а я даже не слышала щелчка затвора. Он сказал: «Надеюсь, я вам не помешал». Он сделал фотографию моей ноги.
Прошло больше тринадцати лет, я еду в машине, которая везет нас к замку, вокруг пейзаж небывалого спокойствия, я вытаскиваю записную книжку – там между обложкой и последней страничкой фотография. Старая, покоробившаяся, но нога – та же самая.
Левая. С напряженным подъемом и вяло лежащими пальцами. Под кожей бугрятся вены, жара, одна нога давит на другую, скоро пойдут мурашки. Ногти покрашены чуть выцветшим лиловым лаком. Недавно проявленное кокетство: лак покрывает весь ноготь, пока еще нет белой полосочки, которая мало-помалу увеличивается по мере того, как ноготь растет.
На лодыжке – татуировка. По тому, как она обрисовывает косточку и впадинки, видно, что настоящая – не из тех переводных картинок, которые приклеиваются водой, а потом, высохнув, по кусочкам осыпаются. Хороша ли, плоха ли татуировка, нет вопроса. Но вообще-то ее наличие на этой журавлиной ноге, с выпирающими, обтянутыми кожей костями, с этим выцветшим лиловым лаком… вообще-то ее наличие вызывает какое-то смутное беспокойство. На втором плане, за ногой, на фотографии высохшая трава, жара, виден носок сброшенной наспех черной туфли, она лежит подошвой к объективу, показывая приклеенную к подошве этикетку. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Что меня потрясло в тот день, и что я вижу и сегодня: это нога взрослой женщины, и даже не молоденькой женщины, а совершенно взрослой. Взрослой – и точка. Это я увидела сразу, и мне было страшно трудно в это поверить, когда я взяла в руки фотографию. Неужели эта нога – моя…
Я и представить себе не могла, что у меня такие большие, такие сухие, такие узловатые ступни. Эти ноги находились, набегались – по твердости подошвы видно, будь на них побольше мяса, все было бы в порядке, могли бы, что называется, ввести кого-нибудь в заблуждение. Ан нет – эта левая нога была ногой женщины, и годы сделали свое дело. Это была нога женщины решительной, женщины, у которой есть муж, дети, дом, свекор со свекровью, друзья… и немножко шопинга в свободное время… Но у меня-то к тридцати годам ничего такого не было!.. Я еще не перестала быть по духу подростком, во мне все еще жила уверенность в том, что все удастся, меня все еще одолевали несвойственные взрослым порывы нежности к некоторым людям, я не умела выстраивать никаких стратегий, а если врала, то всегда по-идиотски или чересчур изобретательно. Я мечтала о месте, где не бывает больно, лелеяла безумные идеи, верила, что можно все начать сначала. С нуля. С чистой страницы.
И даже сегодня, в сорок два, я иногда целыми часами строю планы и выбираю страну, где можно начать новую жизнь. Потерянные часы, потому что не могу же я на самом деле все бросить вот так, вдруг, и уехать. Может быть, если бы я это сделала, меня бы здесь быстро забыли, меня поместили бы в разряд тех, кто необъяснимо исчез, я стала бы тенью, призраком, вроде бы умершей, но не захороненной, мои фотографии переместили бы в ящик со старыми вещами, а потом уже никто и не спрашивал бы, куда я делась, я была бы далеко, в другой стране, с другим именем и другим паспортом, я жила бы другую жизнь и больше не оборачивалась, когда кто-то окликнет: «Соня!» Но я не могу уехать, я просто теряю время, я тешусь иллюзиями, мои радости обманчивы, а в реальной жизни у меня дочь, и она меня ждет, моя дочь – частица меня самой и человека, которого я любила как могла, я любила его нежно, спокойно, этого человека, который слушал музыку моей речи и которому я позволила уехать, потому что так всегда делают, когда любят. Позволяют уехать, ждут, ничего не ждут, получают, возвращают…
Мне тогда было тридцать, и я часто думала о смерти – тоже как подросток. Но я не была так уж страшно несчастна, вовсе нет. Просто меня соблазняла идея умереть молодой. Сказать – хватит, признаться, что будущее слишком страшит, что я не знаю, как это – весело скакать каждый день, не научилась. Уже не помню, кто сказал, что мы рождаемся с напрасной верой в свое предназначение быть счастливыми на этой земле.
Знаете, какая мысль мне нравилась? Пусть другие воображают, какой могла бы быть моя жизнь, пусть они придумывают мою жизнь счастливой. Если кончает с собой молодой человек, никто не скажет, что поступок правильный и что, скорее всего, будущее его ожидало дерьмовое. Нет, все скажут: ах, что же он натворил! Прикончить юность, чтобы вернее удержать ее, вот о чем я думала. Но такой ноге такие мысли не соответствуют.
Когда я в машине, убаюкивающей нас мельканием пейзажей и рокотом мотора, смотрю на этот снимок, ко мне возвращаются те чувства моих тридцати лет, которые я испытала, первый раз его увидев. Я говорю себе, что у меня не было ни грамма удачи, этой таинственной штуки, благодаря которой все выстраивается как надо, как надо развивается, как надо двигается. Этой крохотной детальки, этого знака неба, знака времени, откуда мне знать, знака – чего… того, что помогает майонезу загустеть, и – если нарочно не портить дела – не превратиться в никуда не годную жижу… А у меня вечно найдется песчинка, которая приведет все в негодность, такая уж у меня карма. Мне было тридцать лет, я уже написала три романа, которые продавались средне, можно сказать – неплохо, и я работала в женском журнале, и только что перебралась в Лион, и одна воспитывала дочь, и вела простую, достойную жизнь, да, достойную, я могла бы быть ею довольна, и тем не менее – вот такие мысли меня одолевали… Но в конце концов, разве я стала другой – теперь, спустя тринадцать лет?
Я ношу одежду самого маленького размера, если платье с декольте, я тащу его наверх, если юбка короткая, постоянно одергиваю, чтобы прикрывала колени. Взрослая женщина так себя не ведет. Я не умею говорить «нет», я не люблю, когда люди со мной ссорятся, я не иду ни на споры, ни на конфликты. Я мечтаю о днях рождения с сюрпризами и с огромным тортом, полным крема, с гостями, внезапно выскакивающими из-за шкафов и спинок кресел, крича «СЮРПРИЗ!!!», о волшебном вечере, после которого не сразу придешь в себя… У взрослой, зрелой женщины не бывает таких мечтаний.
Глядя сегодня на этот снимок, я говорю себе, что слишком мало думаю, например, о сексе. Потрахаться, уступить низу – просто ради процесса, если для здоровья, то почему бы и нет, так ведь рассуждают? Я – никогда. А ведь в этом тоже взросление. В том, чтобы делать запретные вещи, потому что отныне ты свободен, ты в том возрасте, когда человек сам распоряжается своим телом. Нет, нет, нет, нет, это не про меня. Я, наоборот, все время запираю свое тело, строю для него дом, возвожу ограду, укладываю его под теплую перину зимними ночами, надеваю на него легкую шелковую ночнушку летом, да, иногда возникает мужчина, разумеется, он служит мне верой и правдой, но в конце концов я его покидаю, потому что не умею ввести его в свой мир, в мир с моими книгами, которые мною владеют, и моей дочерью, которую я приручаю. Никогда я не предлагала этому телу любовника на ночь, чтобы его взяли приступом, немножко по-дикарски, со стонами. Зато я не жалею для него ни своих мыслей, ни своих причуд, ни своих нелепых вопросов.
Помнится, однажды, глядя на эту ногу, я почувствовала внезапное желание измениться. Стать такой женщиной, как матери подружек Анны. Печь дочке пироги, шить ей платья, вязать ей шарфы, пришивать к изнанке выреза на спинке свитеров метки с ее именем, иногда ее ругать и никогда не заставлять ее терпеть мои многочасовые одинокие вахты над тетрадкой. Помнится, как я говорила себе, что надо приноровиться к своему телу, к годам, которые все накапливаются, к беспрестанному тиканью часов и сотворить себе в конце концов имидж, на который другие могут смотреть с удовольствием.
Ну вот… я смотрю на этот снимок своей левой ноги и рассматриваю татуировку на своей левой ноге. Я сделала эту татуировку в шестнадцать лет, тайком от родителей, и мне кажется, эта нога ошиблась принадлежностью – не от той она головы. С такой ногой полагалось бы многое знать, с такой ногой следовало бы брать на себя обязательства посерьезнее, такие, исполнение которых благотворно, с такой ногой полагалось бы иметь голову с красивой укладкой, на лице – скрывающий морщины тональный крем, и губную помаду, способную пробудить желание в каждом встречном, и тени на веках, и подведенные глаза… А у меня ничего этого нет, и мне становится грустно, и я внезапно чувствую себя никчемушной, потерянной и последней, кто это понял.
Мы едем в машине на свадьбу моей дочери, и мне вдруг словно камень сваливается на голову, и я, наверное, вздыхаю, потому что Ив берет мою руку и сильно сжимает ее в своей. Вот что мне надо было бы посоветовать дочери: завести любовника, двух, трех, наслаждаться вовсю, попасться на удочку страстной любви, командовать, управлять, высказывать свои желания, делать такое, чего она могла бы чуть-чуть стыдиться, отпустить себя на волю… Вести себя не так, как другие, решиться надеть красное подвенечное платье, целовать своего любимого посреди улицы, целовать взасос, с участием языка, и пусть другие смотрят и подыхают от зависти… Надо было ей объяснить, что до свадьбы следует познать другие тела, другие чувства, немножко пострадать, полюбить невозможно сильно, погубить себя, стать самую малость циничной, смеяться над словами, от которых отдает романтикой, волноваться, отдавать, не беречь себя, потому что вот проснется она, как я, в сорок два года, – а они как и не прожиты. Вот что мне надо было ей сказать. Я должна была посоветовать ей сделать все, чего не сделала я. После Мэтью у меня было несколько мужчин, сильно сказано – несколько, всего ничего, и они всегда принимали меня за другую, потому что я пишу книги, потому что иногда мне случается пересказывать любовь словами. Эти мужчины думали, будто у меня есть уверенность светской женщины, будто я знаю дорогу к ним. Нет, ничего такого у меня не было и ничего такого я не знала, я была просто женщиной, как все, женщиной, которая надеется, что в один прекрасный день вдруг возьмут да и обрушатся на нее союз двоих, наслаждение на двоих, несомненное благородство, явная щедрость, внезапный шепоток на ухо, а еще… а еще… что, спокойно захлопнув дверь перед миром, он и она будут всласть любить друг друга.
5
Наконец машина останавливается у ресторана «Ферма Гишара» в Бюже, а у меня уже голова трещит от всех этих обступивших меня воспоминаний, от этой полученной мной оплеухи, я дрожу от охватившей меня неудовлетворенности: что я сделала с этой жизнью, с этими годами, с возможностями, которые мне открывались, со всеми встречами, которые сулили дружбу, любовь? Ах, если бы оказаться подальше отсюда! Ив чувствует мое настроение, Анна тоже. Они берутся за меня с двух сторон: Анна поддерживает под локоть, Ив забирает в свою огромную лапищу мое тощее запястье. Две силы – одна повелевает, другая сопровождает. Мне сорок два, но я знаю, что в эту минуту выгляжу на двадцать лет старше: сгорбленная спина, нетвердая походка и печаль в глазах. Анна беспокоится, спрашивает, как я себя чувствую, но я-то, я слышу в ее голосе опасение: сейчас мать испортит праздник, заболеет еще – и тогда все пропало!.. Смотрю ей в глаза: там слезы – вот-вот прольются. Достаточно это увидеть – секунда, – и во мне что-то щелкает, я легко выпрямляюсь, улыбаюсь дочери и говорю, что просто-напросто устала, но зато аппетит у меня волчий. Губы Анны начинают дрожать, она наскоро прижимает меня к себе и восклицает так, словно обращается к большому собранию: «Ну, пойдемте же к столу!» Беру себя в руки. Бог его знает, откуда находятся силы, откуда вдруг это мужество улыбаться: ну, Соня, давай, еще чуть-чуть напрягись, у тебя хватит времени подумать об упущенной жизни, у тебя будет полно времени на это, старушка!
Ресторан не только по названию, но и на самом деле – маленькая ферма, превращенная в трактир. Тут все просто, столы темного дерева даже не покрыты скатертью, они подернуты патиной, на них круги от стаканов, цветы в пластиковых вазочках, на стенах – награды за лучшую бресскую пулярку. [22]22
Бресская пулярка – охраняемое законом торговое наименование. Эти куры белого цвета, с голубыми ножками и красным гребешком должны три четверти жизни проводить на свободе, на площади не менее 10 м 2на курицу, кормят их преимущественно маисом.
В декабре каждого года в Бург-ан-Брессе, в Луане и Пон-де-Во проводится конкурс, где птицеводы представляют своих предназначенных для продажи кур. Победительниц после этого можно продавать по очень высоким ценам.
[Закрыть]В меню, естественно, эти самые пулярки со сморчками в сметанном соусе, лягушки, рыба и фрикадельки. Я выбираю фрикадельки под соусом «нантюа», [23]23
Белый соус на основе сливок или сметаны с добавлением мяса крабов, подается к рыбе и мясу.
[Закрыть]Ив повторяет мой заказ, Анна – заявив, что не слишком голодна, – отдает предпочтение поджаренным на сковородке лягушачьим лапкам. Эрика с нами нет, исчез. Я не решаюсь спросить, куда он делся, но уверена, что его исчезновение – один из пунктов программы дня. «В 12.30 – ресторан „Ферма“ в Артемаре, исчезновение Эрика».
Ив с Анной тихонько подначивают друг друга, мне от этого тепло и уютно, их голоса окутывают меня коконом, в нем можно свернуться в клубочек и успокоиться. Мне так страшно увидеть свою двадцатитрехлетнюю дочь замужней женщиной, мне страшно, мне страшно. Мне хочется сказать ей: останови-ка это все, не так уж это все серьезно – ну, цветы, ну, замок, подумаешь! А мы купим тебе платье гораздо красивее лет через десять, и лучше выходить замуж, когда от глаз уже побежали морщинки, и бог с ними, с этими wedding planners, Ален переживет, гости тоже, если хочешь, мы уедем из Лиона, я буду с тобой, отправляйся путешествовать – хотя бы ненадолго, радуйся, делай глупости, терпи неудачи, только не выходи замуж. Почему я ей не сказала этого раньше? Почему я не вела себя тверже, почему не бушевала, не грозила? Как получилось, что моя дочь настолько на меня не похожа, что ее желания настолько далеки от моих?
Я едва притрагиваюсь к фрикаделькам. Ив гладит меня по спине, мы перекидываемся репликами о моей рукописи – он как раз сейчас ее читает, и это первая книга, в которой я упоминаю остров Маврикий, где родилась. Ив говорит, что эта книга написана по-другому, не так, как всегда. Пытается сказать, что я в этой книге более жестока, более язвительна, но мы с Анной тут же кладем вилки, чтобы послушать, и он умолкает, глядя в пустоту. По-моему, он прав, я помню, как у меня потели руки и как напрягалась шея, когда я писала, – словно сдерживала гнев, неизвестно чем вызванный. Анна говорит: ты никогда не упоминаешь «то место». Она произносит «то место» так, словно речь идет то ли о месте проклятом, то ли о рае… О месте запретном.
А ведь правда. Я никогда не говорю о Маврикии. И ни разу там не побывала за все двадцать пять лет, промелькнувшие с того прохладного и темного октябрьского вечера, когда половина моего семейства провожала меня в аэропорт. Меня тогда просто сжигало нетерпение, мне хотелось скорее подняться по трапу в самолет, подняться и лететь, лететь… в буквальном смысле – лететь, именно такой образ меня преследовал: я расправляю крылья и лечу по ветру между облаками. Душу мою переполняло несказанное возбуждение, с губ не сходила улыбка, и родители даже обиделись: что же, мне совсем не грустно от расставания с ними, не грустно улететь так далеко от родной земли, от своих? Неужели мне ничуточки не страшно? Конечно, я побаивалась, но боязнь эта только придавала мужества, усиливала нетерпение, страх был, скорее, тот, что подталкивает идти дальше, дальше, вытаскивает наружу то, что сидит у нас глубоко в потрохах, на самом дне души. Но покинуть своих родителей, свою страну, свою прекрасную страну, – ведь о том, как она прекрасна, без конца пишут в журналах, говорят в телерепортажах, твердят, блаженно улыбаясь, туристы, впадающие в детство при виде такой красоты, а потом смотрят на вас и снова, снова хотят и от вас услышать то же – так, словно вам положено представлять вашу страну повсюду, быть ее достойным посланником, получающим за это плату от туристического агентства. Они хотят услышать: да, да, там потрясающе, и я так страдаю здесь, да, да, нет чудеснее страны, чем остров Маврикий! Но главный для них следующий, неизбежный, вопрос: «Но что вы-то делаете здесь, вдалеке от моря и солнца?» Они ждут на него достойного ответа, а поди найди его, достойный ответ…
Уйти, улететь, оставить все это казалось мне нормальным, мне казалось очевидным, что надо так поступить, складывая жизнь, свою жизнь. В тот день я подпрыгивала от нетерпения. Мне было всего семнадцать, и я подпрыгивала, так мне не терпелось оказаться в чужой стране, сесть в поезд метро, почувствовать, как щиплет нос при морозце, озябнуть, окоченеть всем телом, продрогнуть до мозга костей, ах, как же мне нравилось это выражение – «продрогнуть до мозга костей»! Мне хотелось трогать снег, пробовать его на вкус, носить перчатки, пить горячий шоколад, смотреть, как желтеют листья, летними ночами слушать музыкантов в скверах, есть мясо под соусом, пирожные с малиной и земляникой, целоваться с иностранцем прямо посреди улицы, читать наглые газетные статьи, покупать старые книги на набережной Сены… мне хотелось всего, о чем я читала в книгах и слышала в песнях… Иначе как бы я узнала, что листья осенью становятся желтыми и шуршат под ногами, – я, всю жизнь до сего дня прожившая в стране, где листья зеленеют круглый год, а на землю ложатся только совсем старыми и больными или сорванными дурным циклоном? С чего бы мне захотелось выпить горячего шоколада, если в моей стране никогда не холодает настолько, чтобы захотелось такое пить? Откуда бы взялась моя любовь к выражению «продрогнуть до мозга костей», – у меня, чьи предки были безграмотными земледельцами, сожженными солнцем, изнуренными тяжким трудом? Я была битком набита штампами, и господи боже ты мой, до чего же это было хорошо. В общем-то, я так ведь и не смогла совсем избавиться от этих лубочных картинок. Анна, вся насквозь француженка, воплощение иронии, всегда смеется надо мной, когда видит растроганной до слез и когда я осенью ворошу ногами листья у подножий деревьев и злюсь, что они влажные и совсем не шуршат. Но все равно я до сих пор вытаращиваю глаза, увидев вечером Эйфелеву башню, а на набережной Сены и сейчас замираю у прилавков букинистов, невозможно счастливая от того, что они до сих пор на своем месте, мои утешители во всех разочарованиях, какие меня постигают.
Анна в семнадцать лет была умненькой, выдержанной, умеющей себя вести девочкой, она носила ладно скроенные брюки и туфли с круглыми носами. Единственная прихоть, которую она себе позволяла, это разноцветные шарфы и палантины, – и я привозила ей эти шарфы и палантины из всех поездок. Я в семнадцать была застенчивой и робкой, но сгорала от желания увидеть все. Больше всего меня печалила карта мира, на которой я отмечала страны, где мне никогда не побывать: ну как я попаду на Камчатку, или на остров Клиппертон, [24]24
Остров Клиппертон, или Остров Страсти, – принадлежащий Франции коралловый атолл в Тихом океане. Назван в честь английского пирата Джона Клиппертона, который якобы дважды проходил мимо него в начале XVIII века, однако никаких упоминаний об этом нигде не сохранилось. А вот насчет Острова Страсти сведения достоверные: 3 апреля 1711 г. два французских судна, «Принсес» и «Декуверт», наткнулись на неизвестный остров, который назвали L'lle de la Passion.
[Закрыть]или в Анадырь? Не очень помню, какие вещи носила, но что у меня не было туфель с круглыми носами – это точно! В семнадцать я с легкостью уехала от родителей, и мне кажется, что Анна в свои семнадцать тоже была вполне готова жить отдельно от меня. Когда я внезапно осознаю, что мы обе, она и я, запросто могли жить вдали от родителей, у меня аж дыхание перехватывает. Вот что получается, если все время сравниваешь, взвешиваешь: Анна в семнадцать – я в семнадцать, я в десять – Анна в десять… Вот что получается, когда ищешь, что нас объединяет, чем можно было бы гордиться, говорить, например, что мы с Анной совершенно одинаково готовим рис по-индийски, что, когда мы спим, и у нее и у меня кулаки слегка сжаты, будто мы боимся выпустить секрет, что мы обе широким и уверенным жестом закидываем на плечо край палантина – об этом бы вспомнить, так нет!.. вместо этих мелких деталей, объединяющих мать с дочерью, дочь с матерью, вместо этих крохотных счастьиц я вспоминаю: мы обе безразличны к своим родителям!
О да, я к своим была безразлична. Настолько, что ни разу с тех пор, как уехала, не побывала на Маврикии. Мне часто хотелось туда, я бывала совсем близко – например, на Реюньоне, и по вечерам я себе говорила, что моя страна вот тут, совсем рядышком, и что если встать на цыпочки черной-пречерной ночью (на островах ночи именно такие) и посмотреть в сторону юго-запада, то, наверное, можно увидеть огни – скажем, на горе Морн. Когда мои родители умерли, я и пальцем не пошевелила, чтобы туда поехать, мне показалось это неприличным, и я не хотела оказаться лицом к лицу с семьей, я – мать-одиночка, я спряталась, бежала от них, я осталась взаперти на новой своей родине, в богатой стране, в развитой стране, в стране, где я могу родить ребенка для себя и ходить с высоко поднятой головой. Я вдруг начинаю на себя злиться, ух, как же я на себя зла! Но я отлично понимаю, что это отнюдь не прилив дочерней любви, не раскаяние, которое пришло годы спустя, а просто страх: вдруг Анна поступит со мной так же, словно в ответ на то, что я сделала сама. Зеркало, которое показало бы мне мою собственную низость, способ вынудить меня к расплате, заставить меня почувствовать то, что чувствовали мои родители. Мне жарко, я обливаюсь потом, мне кажется, что если Анна не придет на мои похороны, это опять будет по моей вине, я более чем заслужу это.
Я так люблю свою дочку, что не хотела бы ее отпускать, мне хотелось бы, чтобы она была тут, рядом, мне хотелось бы, чтобы она плакала, когда я умру, чтобы она говорила обо мне со слезами на глазах даже годы спустя, чтобы она грустила обо мне и открывала мои книги с тяжелым вздохом. Я воплощение эгоизма, и мне на это наплевать. Я, черт побери, мать ей или кто? Она обязана обо мне сожалеть. А как иначе? Она почувствовала бы облегчение, ей было бы все равно, как было мне? Неужели я и впрямь все упустила?
– Расскажешь, как там, да, мама?
Это Анна своим ясным, хорошо поставленным голосом мешает мне и дальше погружаться в мрачные мысли. Я принимаюсь играть с едой, как невоспитанное дитя. Давлю фрикадельки, делаю из них пюре, смешиваю его с соусом, все это превращается в кашицу, которую уж совсем не хочется брать в рот. Говорю, что нечего особенно рассказывать, мои родители умерли, брат живет где-то в Калифорнии, я даже лица его не помню. Собираюсь уже замолчать, но тут вспоминаю цветы. И говорю Анне, что цветы моей страны – самые прекрасные на земле. Что их никто не выращивает, они растут сами где им нравится. Они пахнут, как солнце, как рассвет, как ночь, – где еще найдешь аромат, подобный этому? Они четко выделяются на фоне синего неба, они бывают огромные, как у гибискуса, хрупкие, как у плюмерии, пугающие, как у огненного дерева, изменчивые, как у гуаявы ранним утром, связанные навеки, как у шафрана… И добавляю, что сады Версаля рядом с этим – полнейшее убожество, и Анна с Ивом хохочут.
Я смотрю на них и думаю, что вот сейчас-то они меня любят, мне хочется их обнять, сразу обоих, прижать к себе – так, чтобы немножко задохнулись.
В этот момент возвращается Эрик (может, так в программе написано: «13.30 – возвращается Эрик»?) и садится с нами пить кофе. Говорит Анне, что остальные уже приехали в замок. Мы начинаем спешить, я немножко цапаюсь с Ивом на тему, кому платить за обед, я вырываю у него счет и уверенно заявляю: «Послушай, это у моей дочери сегодня свадьба!» Он мне отвечает тем же тоном, забирая счет себе: «Интересное дело, как будто она не моя тоже!» – и время останавливается. Мне бы хотелось, чтобы день на этом и закончился, именно в ту секунду, когда мы, Ив и я, по волшебству стали родителями Анны. Я бы хотела поставить точку в этой истории, перевернуть страницу, тут и подвести черту – а что к этому добавишь? Великолепный финал, хеппи-энд с маленькой виньеткой в романтическом стиле, гирлянда, букетик – из тех рисунков, какие бывают в конце мультфильмов или фильмов о любви. И тогда моя жизнь стала бы похожа на прекрасно упакованный подарок.
Но у нас тут не кино и тем более не роман, я не управляю событиями, я ничего не решаю, я подчиняюсь. Кто ставит финальную точку на этом свете, кто решает за нас, бумажных куколок? Ив в конце концов берет верх. Анна – чуть позади нас – молчит, она все слышала, у нее чуть-чуть печальная улыбка, и, когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что мы обе думаем о Мэтью. Моя дочка наверняка рисует себе образ отца-забияки, бродяги, она не раз так его называла, слегка растрепанного, невероятно красивого, в жилетке с сотней карманов, из которых можно вытащить сокровища. А я бережно храню в памяти образ юноши со спиной в звездах, который слушал мой голос и мои книги, не понимая ни слова по-французски.
Мы снова садимся в машину и едем мимо строя мрачных каменных домов с разбитыми стеклами и табличками «продается». Она такая грустная, эта долина Эны. Раньше здесь была живая, активная деревня, тут делали много шелка. Большие, почерневшие от времени дома с маленькими оконцами под самой крышей словно бы давят на землю: это червоводни, питомники, где крестьяне разводили шелковичных червей, выкармливая их листьями тутовых деревьев. Должно быть, это была веселая долина, когда юные девушки с белыми ручками фей, в низко вырезанных блузках и юбках-годэ, разматывали коконы и вытягивали тонкую блестящую нить. Должно быть, у выхода из червоводен их ждали парни. Я представляю себе шелковицы с узловатыми стволами и бледно-зелеными листьями, высаженные плантациями по всей долине и придающие ей неповторимый рельеф, я представляю этих девушек, и парней, и нить, которую они вытягивали, и прекрасные ткани, предвестником которых она была, и вечер после длинного, заполненного работой дня, и рассвет, обещающий хороший день, я представляю это все, я представляю, что в те времена долина казалась молодой и вечной.








