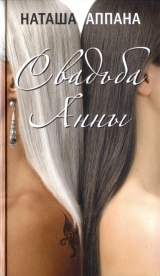
Текст книги "Свадьба Анны"
Автор книги: Наташа Аппана
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Назавтра мы пили чай из наших тонких фарфоровых чашек, мы обещали друг другу жить… Нина Саймон пела «Мой путь». «…Мила теперь вдвойне моя судьба, моя дорога, пускай осталось мне не так уж много…»
– Ты продолжай писать, хорошо? И постарайся издаваться, чтобы я когда-нибудь смог напасть на твой след…
– Да.
Мы не обещали друг другу видеться, писать, звонить, рассказывать, что нового, – мы не обещали ничего из того набора, что обязательно порождает обманы и сожаления. Он взял себе одну из трех чашек – вот и все. Последний его образ, сохранившийся в моей памяти: молодой человек с печалью в глазах машет мне рукой из окна.
Я, так любившая Лондон, так любившая этот город, где в уличной толпе шли рядом панк и рыжая обывательница в строгом костюме, индуска в сари, шотландец в килте и бизнесмен, я, каждый день заново влюблявшаяся в ветер, в траву, в эту нигде и никогда не виданную, небывалую голубизну неба, когда погода ясная, – я не могла больше здесь оставаться. И все-таки я почти не плакала. Ко мне пришло понимание: я пережила начало чего-то, что многие мужчины и женщины ищут всю жизнь. Теперь я думаю иногда, что, может быть, лучше было бы мне и не переживать этого, не знать совсем, тогда бы я всякий раз, знакомясь с мужчиной, не ждала повторения этого душевного покоя, этой тишины, этой нежности пополам со страстью… А то ведь как будто мне дали попробовать кусочек самого прекрасного плода на свете, но только кусочек, один-единственный, большего я не заслужила.
Я вернулась во Францию, в Париж, в комнатку под крышей – и там, в начале лета, поняла, что беременна. Об аборте не подумала ни разу. Как ни разу не подумала о том, чтобы найти Мэтью и сказать ему. Родители чувствовали себя несчастными, злились, приставали ко мне, они часами морочили мне голову, пытаясь воззвать к рассудку, рисуя мне кошмарное будущее матери-одиночки, но я не слушала. Я никого не слушала. Анна родилась ближе к концу зимы, в феврале. Помню, как первый раз взяла ее на руки. Я рассматривала ее тельце – все целиком, я увидела родинку – и на меня будто накатила волна любви, накатила, захлестнула. Может быть, это пробудился так называемый материнский инстинкт, но я так сильно подумала в этот момент о Мэтью, что мне показалось, будто он рядом, я ощутила его запах, я понимала всю невозможность этого, знала – это просто усталость, это она заставляет меня поверить в такое, только все равно я чувствовала, что не одна, в ту минуту, когда первый раз взяла Анну на руки.
Когда родилась моя дочь, мне только-только исполнилось двадцать. Сегодня, когда я думаю об этом, меня настигает запоздалый страх, такой, что дыхание перехватывает. Сколько раз – особенно в первый год жизни моей дочки – я жалела, что сохранила беременность. Считается, что матери знают, матери умеют… Я ничего не знала и не умела. Часто я плакала вместе с ней, потому что не знала, что делать, как делать, часто я была одинока до того, что хоть подохни, была такая усталая, что засыпала, сидя на стуле с Анной на руках, пока она сосала грудь. Я делала для нее слишком много или недостаточно? То, чем был наполнен… донельзя переполнен каждый мой день: покормить Анну, перепеленать Анну, помыть Анну – этого было достаточно, чтобы она знала: я люблю ее? Не нужно было чего-то другого?
Когда я сейчас читаю статьи о baby blues [12]12
Так в английской медицинской литературе (а отсюда – и в печати вообще) называют стресс, который испытывает женщина после рождения ребенка, буквально «хандра, связанная с новорожденным».
[Закрыть]– о послеродовой депрессии, я всей душой сочувствую женщинам, ее переживающим, потому что сама полной мерой хлебнула, каково это – остаться одной с ребенком. И помню черную дыру, которая тебя засасывает с наступлением ночи, когда приходит тишина, когда твое дитя наконец засыпает. Это тело, которое уже словно бы не твое, – и ты моешь его, ничего при этом не чувствуя; это отупение, которое никак не удается стряхнуть, и ты от всего отрезана, тебе ничто не интересно, – ничто, кроме твоего ребенка, и ты начинаешь злиться на него за то, что с тобой происходит.
Но и в тот первый год все мои разочарования и страхи уходили, все слезы высыхали, уныние, проникшее, казалось, в кровь, отступало, стоило Анне улыбнуться. Она мне улыбалась – и в эту минуту любые звуки и движения обретали смысл.
Я бросила учебу, но очень быстро нашла работу: меня взяли корректором в женский журнал. Журнал выходил по четвергам, это был Париж восьмидесятых, время, когда чуть ли не счастьем было родиться женщиной. Девушки в редакции оказались симпатичными, главный редактор меня полюбила, иметь в штате женского журнала мать-одиночку соответствовало духу времени. Когда Анне исполнилось три месяца, я отдала ее в ясли, я попросила и без труда получила французское гражданство.
А в одно прекрасное декабрьское утро 1982 года, за три дня до Рождества, когда я, глядя на спящую у меня на руках дочку, раздумывала над тем, значит ли что-нибудь Рождество для человека ее возраста, раздался телефонный звонок. Я взяла трубку и услышала мужской голос: «Добрый вечер, мадам, это Ив Лоран из издательства „Лоран“, могу ли я поговорить с Соней?» Сердце у меня забилось так, что Анна, спавшая у моей левой груди, проснулась. Некоторое время назад я отправила в это издательство рукопись, подписанную только именем. Еще написала там номер телефона. И все. Я очень долго возилась с титульным листом, выбрасывала один черновик за другим, потом наконец поставила на чистом листе бумаги название – «Понапрасну», под ним приписала «роман», а ниже – свое имя и номер телефона. Как будто я заключенная: имя и номер. У Ива Лорана был актерский голос, глубокий и проникновенный, тон – уверенный, очень спокойный. Через два дня я подписала договор. До сих пор помню состояние, в котором находилась в течение нескольких недель, – как будто меня всю окутало нежное, теплое облако, кокон, и одновременно страх, что это все только снится, и радость, которая немедленно прогоняла страх, как только я осознавала, что нет, не сон, правда – мой роман прочитан, одобрен и скоро появится в книжном магазине.
Ив так и остался моим издателем. Теперь ему шестьдесят пять лет, и мы вот-вот увидимся на свадьбе Анны. Ив – один из немногих моих друзей, к которым Анна привязана. Им всегда хорошо вместе, у них даже своя игра, и они друг над другом очень мило подшучивают. Анна называет Ива Растапопулос – не знаю почему, просто не понимаю, какое отношение этот уродливый бандюга-грубиян из комиксов имеет к Иву, но его самого прозвище смешит, и в ответ он называет Анну Кастафиоре. [13]13
Бьянка Кастафиоре и Растапопулос – персонажи классических комиксов из серии о Тентене, сочиненных и проиллюстированных бельгийским писателем и художником Эрже.
[Закрыть]Этого я тоже не понимаю. Прозвища у них появились после того, как Анна гостила у Ива и его жены Каролины в Бретани. Может быть, Ив и Каролина читали девочке «Тентена», чтобы она заснула? Они, у которых никогда не было своих детей… Ладно, не в этом дело, а в том, что клички эти делали их словно бы сообщниками, у них была своя история и свои секреты, и все это – без меня. Ну и пусть, так даже лучше. Ив и поведет ее сегодня в 17.30, как предусмотрено программой, к алтарю. Она попросила его об этом в письме, еще четыре месяца назад. Я, конечно, обрадовалась, но и загрустила: вообще-то была надежда, что она попросит об этом меня, так уже бывало – чтобы матери вели дочек к алтарю, только, наверное, ей и это казалось «смешным и нелепым»… Я подумала о Мэтью, подумала: где-то он будет в то время, когда чужой человек передаст его дочь, всю в белом, молодому мужу, но в конце-то концов, какая разница… Ив – это тоже хорошо.
Анна медленно потягивает чай, а я смотрю на нее и думаю: почему она так спокойна, так безмятежна в день свой свадьбы, спокойна, несмотря на то, какой это важный, значительный день, спокойна, несмотря на то, что сегодня ей предстоит брать на себя такие серьезные обязательства, спокойна, несмотря на то, что впереди совместная жизнь, может быть, дети, новая фамилия, которую она возьмет вместо моей – Анна Боврьё. Она сказала мне с весьма торжественным видом, что поменять свою фамилию на фамилию мужа – одно из доказательств любви.
С некоторых пор можно подумать, будто мы поменялись ролями, теперь мать – она, потому что она все время меня поучает и все время внушает мне, что такое семья, каковы должны быть традиционные и незыблемые семейные ценности и так далее. Как будто, обзаведясь новым статусом – став почти замужней женщиной, она одним этим поднялась на ступеньку выше меня. У меня уже просто на языке вертелся ответ, еще немного – и я бы сказала, что люди всю жизнь ищут свободы и в то же время сами себя запирают в клетке, как она со своим замужеством. Что она ошибается, думая, будто обручальное кольцо на пальце делает ее умнее, мудрее, тверже. Но я давно поняла, что чужой опыт ничегошеньки не дает. Впрочем, много ли мне дал мой собственный опыт?
Когда ты слышишь, как люди говорят банальности, тешат себя смешными надеждами, ты понимаешь, что рано или поздно рутина шваркнет-таки их мордой об стол, что жизнь вдвоем – не сахар, что любовь доказывают не в день свадьбы обменом своей фамилии на чужую, любовь доказывают каждый день – тем, что всегда прощают. Когда ты видишь, как долгие часы ищется платье, делается завивка, выбирается кружево, посылаются пастельных тонов открытки с рельефными цветочками, расходуются бешеные деньги на торт в четыре этажа и холодный замок, когда ты видишь все это, остается одно – молчать и улыбаться. Ну и когда моя дочь учит меня жить, я молчу и улыбаюсь.
4
Сегодняшний день строгой своей выверенностью похож на спортивные часы: с хронометром, барометром, тонометром. Мою личную программу Анна выдала мне еще позавчера. Дочь хорошо меня знает – и знает, что дай мне свободный час, и от моих собственных души и тела останется только пустая оболочка, которая тут же и заполнится людьми, о которых мне хотелось бы написать, и я унесусь неведомо куда и затеряюсь в запутанных нитях воображаемых жизней. Она боится, а не забуду ли я – хотя бы и на одно мгновение – о том, что сегодня еедень, ееистория, и она эту историю раскатывает, как бархатный ковер, и нельзя, чтобы на нем была пусть даже и единственная морщинка, складочка, нельзя, чтобы хоть кто-то споткнулся, ни к чему эти затягивания, хитрые маневры, умолчания, скобки, пробелы – все, из чего на самом деле состоит моя жизнь, чем она наполнена, как и все, что я пишу. Она просит сосредоточиться сегодня на ней, именно так я и сделаю. Не хмурясь, не ропща, не брюзжа и не жалуясь, я постараюсь держаться подальше от своего компьютера, забуду на время о рукописи, которую правлю, и о письмах, которые должна написать, ну а главное – ни на шаг не подпущу к себе мысли, которые меня осаждают.
В десять я должна быть у парикмахера – вместе с Анной. Ровно в десять, минута в минуту, – так она написала в программе. Такси должно быть заказано на полдесятого, мы приедем к мастеру заблаговременно, но это необходимо – чтобы на бархатном ковре не появилась морщинка. В половине двенадцатого за нами приедет машина (за рулем Эрик, друг Алена, – он тоже заранее все расписал), и мы поедем в Эн, к замку. По дороге захватим Ива, мне еще надо не забыть свою одежду, сумочку, всякие мелочи. В тринадцать часов мы обедаем в Артемаре [14]14
Маленький (в 1999 г. население составляло всего 970 человек) городок в департаменте Эн.
[Закрыть]– в местном ресторанчике заказан столик на троих – на Анну, на меня и на Ива. В шестнадцать будет гражданское бракосочетание – это простая формальность, говорит Анна, – в семнадцать тридцать венчание (религиозная церемония будет проходить во дворе замка), потом – праздник. Я ночую в замке, а завтра – ровно в одиннадцать – возвращаюсь к себе, теперь и навсегда я буду здесь одна и смогу опять вести свою жизнь, состоящую из подробностей и умолчаний. Вот такая у меня программа.
А Анна с Аленом завтра вечером уедут в Венецию, как тысячи новобрачных до них, и это заставляет меня вспомнить о групповых свадьбах в Корее, о маленьких черных и белых мышках на площади… Я бы на их месте поехала в Тимбукту, но я не на их месте, я вообще не знаю, как это – выходить замуж, не знаю, что такое медовый месяц, который длится целую долгую неделю, который дает людям возможность существовать вне времени и житейских реалий.
Я осторожно мою голубые чашки. Протираю, боясь сломать тонкий фарфор, если нажму чуть сильнее, смотрю за тем, чтобы вода была все время одинаково теплой: они же могут треснуть от перепада температуры. Пока я мою эти чашки, мне кажется, что Мэтью снова со мной, что двадцать три года без него были не двадцать три года, а двадцать три часа, и впервые думаю о том, что, может быть, была не права, когда не стала его искать, и зря не хотела на него давить, не хотела просить, чтобы остался со мной, может быть, если бы я плакала, кричала, вопила о том, как люблю его, он бы остался… Впервые думаю о том, что, может быть, он умер, давным-давно похоронен, забыт всеми, а я продолжала все это время жить – без каких-либо предчувствий, без особой грусти – с дочерью-безотцовщиной, с самой собой – сиротой без любви. Я вздрагиваю – еще немного, и раздавлю драгоценные чашки, так что лучше побыстрее их ополоснуть, вытереть и убрать на верхнюю полку. Это занятие меня успокаивает, мне мерещится в этом знак – доказательство того, что Мэтью жив. А была бы я уверена, что его нет на свете, если бы разбила чашку? С возрастом я становлюсь суеверной. Цепляюсь за приметы, утешаю себя случайными событиями, делаю себе амулеты из прошедшего времени, талисманы с синим утром – и думаю, что гроза смоет любые сожаления…
Анна у себя в комнате, она меня зовет, просит помочь с упаковкой подвенечного платья, и я вспоминаю о приготовленном для нее пакетике. Иду за коробочкой, обернутой красной бумагой, приношу, протягиваю ей и говорю: «Something old, something new, something borrowed and something blue!» Когда я перехожу на английский, Анна знает: сейчас будет сказано нечто важное, это неписаный семейный закон, своего рода договор, один из тех, что возникают сами собой, когда люди долго живут вместе. Анна садится на край кровати, рядом с платьем, она уже сняла его с плечиков, край юбки чуть завернулся, коснувшись пола, может замяться, на ткани останется след, и Анну это будет раздражать, но сейчас она держит в руках коробочку. Сначала минутку словно бы греет подарок в ладонях, благодарит меня – тихонько, оно будто с выдохом вылетело, это «спасибо», потом начинает снимать упаковочную бумагу. Делает это осторожно, стараясь подцепить кончиком ногтя скотч, который ей хочется отклеить поаккуратнее. Первое, что она видит и вынимает, – чуть пожелтевший с годами платочек. Старенький муслиновый платочек. Говорю ей, что он сохранился от моей мамы. А она спрашивает: «Бабушки-людоедки?»
Мама умерла, когда Анне было пять лет, они никогда не видели друг друга. А когда моей дочке исполнилось десять, я подарила ей наполовину заполненный альбом для фотоснимков. В нем были фотографии моей семьи. Под одной из них, портретом мамы в молодости – с таким же, как у меня, туманным, ускользающим взглядом, который выдавал такой же, как у меня обычно, страх перед камерой, – под этим снимком Анна написала: «Бабушка-людоедка». Мы тогда все время читали с ней волшебные сказки, разыгрывали их, и я брала себе роли чудовища, волка, дракона, людоеда или людоедки, злой мачехи… Подпись и сейчас вызывает у меня улыбку, потому что я совершенно уверена, что Анна и моя мама прекрасно бы спелись. Обе они достойно выдержали бы любые испытания на прочность, они одинаково прямолинейны, Анна так же, как моя мама, признает только хорошо, по правилам сделанные вещи… У мамы было мужество, мечты, о которых она не умела рассказать, и двое неблагодарных детей.
Теперь ее внучка вынимает из коробочки браслет, я говорю: «Чур, не заматывать!» – и она смеется совершенно по-детски. И вот уже соломенно-желтый браслет скользит по руке Анны, она останавливает его на запястье и рассматривает, как украшение выглядит на ее нежной, смуглой, матовой коже. А мне в эту минуту хочется сжать в руке ее запястье – точно там, где браслет, который я носила всю свою жизнь, сжать покрепче – чтобы на этой смуглой коже остался его отпечаток. Потом ей попадаются голубые трусики, и она выдыхает: «Ма-а-ам», но и тут ей смешно, пусть даже она стесняется – мне кажется, Анна покраснела… Но вот наступает черед ларчика для драгоценностей, дочка достает его с самого дна, открывает и обнаруживает пару маленьких сережек. Плечи ее слегка вздрагивают, мне становится тревожно. И не зря: Анна плачет. Мелкие слезинки скатываются по ее щекам, и я становлюсь на колени рядом с нею, губами прикасаюсь к этим солоноватым жемчужинкам, и на мгновение наши тела соединяются – так, как было, когда я носила ее в животе. Я защищаю свою дочь, без нее меня бы не существовало, мне хочется не отпускать ее, вернуть ту маленькую девочку, что склонялась над тетрадками и задавала мне тысячи вопросов в полной уверенности, что мама может ответить на любой. Я бы хотела вернуться во времена, когда ее доверие ко мне было нерушимо, когда она, сгорая от любопытства, смотрела на меня широко раскрытыми глазами, впитывала каждое мое слово и ни секунды не сомневалась, что мама всегда и все говорит правильно.
Держа в объятиях свою дочку, свою взрослую дочь, уже почти замужнюю, я чувствую себя такой старой, такой сморщенной, такой отжившей, такой безнадежно отставшей от моды… Кому я теперь нужна? Что мне теперь делать?
Анна высвобождается, и мы вместе надеваем на подвенечное платье серый чехол. «Надо будет там его погладить», – говорит она. Мы замираем над чехлом, в который упрятано белое платье, и кажется, будто никакой свадьбы нет. Целую неделю я видела это платье висящим на стене, и все вертелось вокруг него, его нельзя было трогать, рядом с ним полагалось молчать, чтобы не нарушить его покоя; реликвия, идол, памятник – вот чем было это платье, но вот взвизгнула, закрываясь, молния – и оно исчезло.
Анна чувствует, как все вдруг изменилось, смотрит на часы и говорит:
– Слушай, мы же опоздаем!
«Мы опоздаем» или «мы опаздываем» – ее любимая фраза, она произносит эти слова при каждом удобном и неудобном случае, стремясь к началу движения, действия. Я отвечаю так, как всегда отвечаю в таких случаях: «Ну что ты, что ты!» – и тут раздается телефонный звонок.
Это Ален. У него совершенно спокойный голос, он спрашивает, как я поживаю, и я уже собираюсь ответить, когда передо мной вырастает Анна и знаками – чрезвычайно выразительно – намекает, что следует передать ей трубку, сию же минуту – да-да, как можно скорее, ну!
Как тут не послушаться, я покорно отвечаю будущему зятю:
– Передаю трубку Анне, пока, Ален…
Анна принимается что-то шептать в микрофон, я слышу, как она смеется, вздыхает, говорит, что церемония пройдет быстро, слышу в ее голосе счастливое ожидание. Заканчивая разговор, она говорит: «И я тоже!» Что – она тоже? Я тоже тебя люблю? Я тоже тебя целую? Я тоже хочу прожить с тобой всю жизнь? Я тоже без тебя скучаю? Я тоже спешу? Я тоже боюсь?
Мои вещи – заранее приготовленные – лежат у меня в комнате, и, пока Анна принимает душ, я вызываю такси. Нужно набирать множество номеров, бесконечные цифры, теперь заявки принимают компьютеры, телефоны трезвонят в пустоте, потом роботы, безрукие роботы, как бы снимают трубку, но требуют-то они, чтобы ты набрал еще какой-то номер, по-настоящему! Набираю и набираю, как полная идиотка! Чуть-чуть ошибешься – и вот ты уже, оказывается, заказал такси совсем не в том направлении, и увезут тебя куда-нибудь в Везуль или в Сен-Пьер-де-Кор! [15]15
Везуль – главный город французского департамента Верхней Соны; Сен-Пьер-де-Кор – небольшой городок, железнодорожная станция неподалеку от Тура. Оба направления противоположны направлению в департамент Эн.
[Закрыть]Изо всех сил сосредоточившись на кнопках, нажав дикое количество раз на всевозможные цифры и символы – звездочки и решетки, – я наконец слышу голос, который с дурацкой интонацией сообщает мне, что такси через полчаса подъедет к дому 46 по улице дез Арше, что это будет голубой «мерседес» и что я могу повесить трубку. А если не повешу? Если останусь на линии и буду набирать еще какие-нибудь цифры, жать на разные кнопки, пока они там все не свихнутся? Чем я, в конце-то концов, рискую? Неожиданно позади меня возникает Анна и знаками показывает, что ванная свободна, так что трубку все-таки приходится повесить. Тонометр, барометр, хронометр – нет времени играть с роботами.
Голубой «мерседес» прибывает вовремя, и через пять минут мы уже стоим у входа в салон красоты. Жак Дессанж, «сегодня все должно быть роскошно», говорит Анна. Я-то в парикмахерских почти не бываю – у меня длинные волосы, и я привыкла ощущать их плечами, чувствовать их вес затылком. Волосы ласкают меня, когда я одна, они в такт шагам ударяют по спине, если я заплетаю косу, иногда я прячусь за ними – это мой способ сунуть голову в песок.
Салон на набережной Сент-Антуан весь сверкает снаружи и изнутри. На стеклянных этажерках, словно драгоценные украшения, выставлены разноцветные флаконы с шампунями и бальзамами, волшебные снадобья, дарящие вечную молодость, грааль по тридцать евро за штуку. Везде зеркала, никуда от них не деться.
Нас встречают у дверей беловолосые, сильно накрашенные девушки: вот гардероб, кофе, минеральная вода, чего изволите, мадам… «А можно кофе по-ирландски?» Эти слова вырвались у меня сами по себе, вроде икоты, я даже удивилась. Анна вытаращивает на меня глаза – опля! вот и первый промах за день! – и спешит ответить, чуть повысив голос:
– Кофе и чай, пожалуйста!
Светловолосый молодой человек усаживает нас в кресла – точь-в-точь как в зубоврачебном кабинете, высокие, черные, способные наклониться на 180 градусов, – и начинает с изучения волос моей дочери. Он говорит: «Я Жереми» – говорит так тихо и так нежно, что у меня рождается ощущение: отныне нам вменено в обязанность называть его только Жереми и никак иначе, мы должны! Вроде как трогая наши волосы и говоря с нами этим своим медовым голосом, он вдруг сделался нам близким человеком, кем-то, без кого нам уже не обойтись.
Моей дочери был заказан «пакет услуг для новобрачной», цену которого оговорили заранее, – фигурный узел, цветы, свободно висящие прядки – этакая роскошная и рассчитанная небрежность. Мне хотелось бы оставить волосы распущенными, но Анна давит на меня, настаивает на том, чтобы мне тоже сделали узел на затылке. Она наставляет блондинчика, она показывает руками, какой хочет видеть свою матушку. Жереми (о! надо же – дело сделано: я называю его по имени!) – итак, Жереми до поры до времени кивает молча, но вот он уже берет в руки мои волосы, взвешивает их на ладони и говорит, что да, да, он совершенно согласен, мадам больше всего подойдет узел на буржуазный лад.
На смену Жереми приходят две новые блондинки: одна – чтобы помыть нам головы, другая – чтобы подстричь. Жереми, наклонившись к нам, шепчет: «Ничего, если я вас покину ненадолго? Справитесь без меня?» Интересно, а что бы он сделал, если бы мы с Анной стали в ответ плакать и умолять его остаться с нами, подержать за руку?
Блондинки щебечут, обсуждая несчастный случай, который произошел сегодня утром: баржа врезалась в какой-то подземный гараж, который тянется вдоль набережной Сент-Антуан, первый уровень совершенно затоплен, машины повреждены, и, конечно же, образовалась настоящая свалка. «Представляете, какая была дыра!» – восклицает одна из блондинок. И я действительно представляю лицо страховщика в момент, когда он читает справку о происшествии: «В машину на подземной стоянке врезалась баржа»… Да уж, что тут скажешь…
Блондинкам очень хочется разговорить и нас тоже, но мы застыли в молчании – этакие снобки, гордые тем, что снобки. Анна отвечает исключительно мычанием.
– Это вы выходите замуж?
– М-м…
– Вы рады, что у вас свадьба?
– М-м…
– Венчаться будете в самом Лионе?
– М-м…
– Это ваша матушка?
– М-м…
– Вы обе такие красивые!
Тут, наконец смилостивившись, она цедит сквозь зубы:
– Псиб…
Блондинки наверняка в душе нас проклинают, ну что ж, ничего не поделаешь.
Мы выходим из салона – ни дать ни взять две куклы. Анна берет меня под руку и говорит, что мне очень идет такой узел на затылке. У нее в волосах гипсофилы – они такие нежные, такие изящные, эти мелкие, будто из кружева вырезанные белые цветочки, так красиво выделяются на ее черных волосах. А я… я хотела бы большой красный цветок гибискуса, его еще зовут китайской розой, но я хотела бы не китайскую розу, а такой гибискус, какой встречается только в наших краях, – весь раскрывшийся, я бы сунула его в волосы где-нибудь за ухом, и у меня был бы донельзя сексуальный вид. Но женщине, которая выдает замуж свою дочь, нельзя засовывать за ухо гибискус – не положено!
Мы возвращаемся домой, собираем вещи и слышим, как внизу бибикает машина. Это уже Эрик приехал – вовремя. Он поднимается, чтобы помочь нам, улыбаясь смотрит на Анну, говорит мне: «Добрый день, мадам, это вы – писательница?» – и Анна отвечает за меня: «Ну да!» Уже на лестнице, бережно неся чехол с подвенечным платьем, Эрик сообщает, что читал одну из моих книг, но точно не помнит названия, помнит только, что там рассказывалось об индейцах. У меня нет ни одной книжки про индейцев, но я вежливо улыбаюсь в ответ.
С течением времени я научилась смиряться. Волей-неволей начинаешь с одинаковой покорностью принимать и то, что многие тебя с кем-то путают, и то, что одни с ходу начинают тебе объяснять, что ты хотела сказать в своих книгах, а другие предпочитают тебе тех, кто не сходит с экрана телевизора и описывает свои появления на экране. Привыкаешь терпеливо выслушивать людей, пересказывающих тебе свою жизнь, держа в это время твою книгу как камамбер, а потом, закончив пересказ, выложив все до конца, бросают этот, уже весь вспотевший, камамбер и даже не удостаивают его взглядом. Привыкаешь улыбаться тем, кто смотрит на тебя, сидящую за столом и едва различимую за стопками собственных книг, которые надо продать, как на ярмарочную диковину. Привыкаешь постоянно сдерживаться и думать при этом, что, в общем-то, тебе повезло, раз ты можешь продолжать свою писанину. Да-да, именно так: продолжать свою писанину: находить слова, строить фразы, сочинять истории – и только в это время чувствовать себя совершенно свободной.
Мы садимся в большую машину Эрика, где легко умещаются все наши вещи, а главное – аккуратно повешено подвенечное платье Анны, оно прикрывает окошко у места, соседнего с водительским. Когда мы подъезжаем к вокзалу, я издалека вижу Ива. Он ждет нас, покуривая, и, когда садится возле меня на заднем сиденье, я, наверное, чересчур шумно вдыхаю запах его табака. Он улыбается: «Ой, как же тебе надо сигаретку-то!» Я смеюсь, прикрывая рукой рот, Ив кладет ладонь мне на затылок, под узлом, легонько массирует четырьмя пальцами шею, а большой его палец приходится уже куда-то за ухо. Мне вдруг ужасно хочется его поцеловать. Здесь и теперь, пока с его губ не улетучился аромат табака. Я тянусь к нему, мы стукаемся лбами, он говорит: «Ты сейчас выглядишь настоящей леди!» Я опять смеюсь и думаю, что, будь мы сейчас наедине с Ивом, скорее всего, впилась бы губами в его губы и нашла бы его язык своим.
– А мне, Растапопулос, мне ты ничего не скажешь?
– А-а-а, Кастафиоре! Ты что, на самом деле решила выскочить замуж? Ну и где же твои драгоценности? [16]16
«Изумруд Кастафиоре» (по-французски «Украшения Кастафиоре») – название 21-й серии того комикса, о котором уже шла речь. Дословный перевод фамилии «миланского соловья», оперной дивы Бьянки Кастафиоре, – «чистый цветок».
[Закрыть]
Автомобиль трогается с места, увозя нас троих, хохочущих во все горло, и Эрика, сосредоточенного на своей ответственности в роли шофера невесты. Двигаемся вдоль набережной. Сона далеко внизу, видны поднимающиеся над водой тростники, серые от пыли кустарники на берегах реки, остовы деревьев, унесенных волнами и застрявших у подножия моста, велосипедисты в облегающих трусах, озверело крутящие педали, ребятишки, бегающие и орущие так, словно гоняются за летом, которое слишком долго не приходит. Сейчас, конечно, для лета малость рановато, но скоро ведь наступит май, правда?
Не знаю, люблю ли я Лион, привязана ли к этому городу. У меня есть здесь свои вешки, есть свое место под солнцем, и мне этого хватает. Меня то и дело спрашивают, не грустно ли мне оттого, что приходится жить в стране, настолько далекой от моей родной… Существуют виды ностальгии, в которых я себе отказываю, чтобы не сойти с ума. Ностальгия по морю, когда оно вдруг возникает перед глазами после крутого подъема, и ты в этот момент обретаешь уверенность, что именно здесь край света. Ностальгия по летним цветам, таким нежным и ароматным. Ностальгия по чему-то такому чистому в воздухе, такому безмятежному, такому здоровому. Ностальгия по сладкому соку тростника, – соку, от которого скрипят зубы и становятся липкими пальцы. Ностальгия по низкому черному ночному небу с мириадами звезд, которые кажутся такими близкими, такими близкими, что протяни руку – и дотронешься. Нет, я, конечно, люблю Лион, как любила бы, я в этом уверена, каждый город, где у меня были бы крыша над головой, письменный стол, цветы, которые можно сорвать, и Анна неподалеку. Может быть, я вроде тех деревьев с боковыми «придаточными» корнями, едва касающимися почвы, – деревьев, которые порыв ветра может смести с земли, но после этого они быстро приживаются в любом другом месте. Иногда мне кажется, что моя земля немножечко и здесь. Здесь родилась моя дочка, здесь я пишу свои книги, здесь живут мои друзья. Тем не менее в самой глубине души, если закрыть глаза и постараться быть искренней, совсем честной, я признаю, что единственное время, когда я чувствовала себя на своем месте, у себя, – это с Мэтью. С ним я была самой собой, с ним я была примиренной с самой собой, с ним у меня появлялись та легкость и, рядом с нею, тот страх разочаровать, которые возникают, только когда есть любимые люди и дорогие сердцу края.
Вскоре мы покидаем шоссе и въезжаем в Домб. [17]17
Историческая область Франции.
[Закрыть]И сразу вдыхаем воздух отпуска в деревне – как будто асфальт и придорожные столбы на шоссе до сих пор мешали сознанию почувствовать, что мы путешествуем. Болота осушены, но несколько цапель еще бродят в поисках рыбы, считая, видимо, что вся она попряталась в грязь. Дорога, будто льющаяся по ложбинам и пригоркам, с двух сторон обсажена деревьями – везде деревья, деревья, деревья, словно мы переселились внутрь какого-то романтического road movie. [18]18
Киножанр, название которого иногда переводится как «дорожный фильм», рожденный в начале 60-х годов. Его основные признаки – все или почти, что происходит в путешествии, ставшем основой для сценария, связано с самим этим путешествием. Классические примеры road movie – два американских фильма, «Бонни и Клайд» (1967) и «Беспечный ездок» (1969).
[Закрыть]
Я чувствую себя совершенно умиротворенной. Ив трещит без умолку, он никогда досюда не доезжал, он непрерывно нас дергает: «Ой, какая ферма, ой, какие лошади, Соня, ты только посмотри на этого типа, скажи, а ты видела ту цветущую вишню позади, Анна, Анна, ты меня слышишь?» Он съехал на самый краешек сиденья, он приклеился к стеклу, он ерзает от нетерпения и говорит, говорит – ни дать ни взять дитя, готовое отплыть в незнакомую чудесную страну. Иву всегда удается меня разволновать и растрогать, ему не изменяет своеобразный вид мужества – мужество очаровываться: сегодня деревней, завтра книгой, послезавтра чьим-то лицом… Ни годам, ни многочисленным испытаниям, выпавшим на его долю, не удалось свести на нет эту черту характера. И я вдруг думаю, а почему мы до сих пор никогда не занимались с ним любовью… Случаев было – не счесть: мы так часто вместе пьянели – хоть от спиртного, хоть от хорошей новости, хоть от того, что выкуривали каждый по три пачки… А еще пьянели от красоты вида где-нибудь за границей (некоторые просто пригвождали нас к месту), от классного розыгрыша, ну и не меньше от горестей – черная полоса порой затягивалась. Как, скажем, в то время, когда его жена Каролина умерла от рака.








