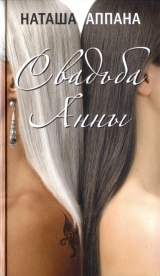
Текст книги "Свадьба Анны"
Автор книги: Наташа Аппана
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
После низины мы выезжаем на ровное место – ровное и великолепное. Сегодня 21 апреля, и склоны гор вдали уже совсем зеленые от густой листвы, а поля расчерчены блестящими прямоугольниками рапса, и они похожи на желтые полоски на детском рисунке. Нас в машине четверо, и, когда мы выезжаем на широкую, обсаженную с двух сторон гигантскими платанами дорогу, я открываю окно. Сегодня так редко встретишь платаны по обочинам дороги, люди объединяются в какие-то ассоциации и в конце концов убеждают всех в том, что платаны по обочинам дорог – это опасно. Может, и так, но если их не станет, чем мы будем любоваться, проезжая по сельским дорогам? Мне кажется, мы одни на всем белом свете, мне бы хотелось включить Отиса Реддинга и чтобы мы все вместе пели «Sitting on the Dock on the Вау», облокотившись на окна и дымя сигаретами. Мне хочется моря, мне хочется нежности, – в общем, это прекрасный день для свадьбы.
Я смотрю на кроны деревьев, листья у них мясистые, и, если прищуриться, сквозь ресницы увидишь, как будто стая птиц летит вместе с нами. Мы сворачиваем налево, и нам является замок на горе, словно бы венчающий долину. Широкие, совершенно расшатавшиеся ворота открыты, и вот уже машина подскакивает на земляной дорожке, усыпанной камешками, скорлупками, пустыми оболочками каштанов. Я наклоняюсь к Иву и только что шею не сворачиваю в попытке разглядеть замок за огромным количеством деревьев, высаженных вверх по горе, но ничего не получается.
Анна сидит прямо, плотно, я кладу руку ей на плечо. Мне кажется, она дрожит. Тем не менее, стоило машине остановиться, она первой выходит… даже выскакивает из машины. Идет вперед, останавливается – руки на бедрах, осматривает замок от подвалов до крыши, оглядывается на меня, улыбается Иву и бросает: «Пойду поищу Алена». Это место называется «Холодный замок». Ив стоит спиной к зданию, смотрит куда-то сквозь сосны бора, закрывающего от нас долину, темные дома, ярко-желтые поля рапса, город, который можно угадать чуть дальше по лиловому туману на горизонте. Подхожу к Иву, обнимаю его за талию, его правая рука ложится на мое плечо, длинные пальцы легко касаются верха груди. Если он прижмет меня к себе посильнее, моя правая грудь может спрятаться целиком в его огромной ладони. Анна зовет нас. Говорит, что Ален уже готов, что два часа дня, что до гражданской церемонии осталось совсем мало времени. Торопит нас идти одеваться. Анна выбрала Ива в свидетели, это забавно, ведь могла бы выбрать кого-нибудь из подруг, так нет, Ив для нее все сразу: свидетель, отец, может быть, даже мать.
В замке какая-то пухленькая дамочка показывает мне комнату, она ведет меня вверх по лестнице, а я думаю, парик на ней или она просто истратила на укладку слишком много лака. У дамочки мелкие скользящие шажки, как будто на ногах суконки и она за долгую жизнь привыкла натирать по пути паркет. Она внезапно кого-то мне напоминает, только никак не припомню, кого именно.
Моя комната в одной из башен замка, я знаю, что это Анна позаботилась, как мило с ее стороны. Дамочка оставляет мне ключ на комоде темного дерева у двери, над комодом – старое зеркало, отражающее свет. Смотрю в большое окно напротив кровати. Отсюда виден еще один лес – тот, что позади замка, левая часть долины, почерневшие фабричные строения, цепочка гор, тесные поля с детски-желтыми полосками рапса, все это подчеркивающими.
Закуриваю первую с утра сигарету. Отношусь к ней чрезвычайно внимательно, сильно затягиваюсь, стараюсь продлить удовольствие – да-да, абсолютно никакого чувства вины, только удовольствие. Ванная огромна, в ней белоснежная ванна и глубокий фарфоровый умывальник. Надеваю пластиковую шапочку, чтобы не намокли волосы, и принимаю душ. Смеюсь, представляя себе, как вышла бы на люди в этом чепчике с розовыми цветочками, усыпавшими голову. Чищу зубы и брызгаю духами за уши и на запястья изнутри. Надеваю темно-синее платье – простое, длинное, без рукавов, с глубоким треугольным вырезом на спине, обрамленным по краю мелкой, тонкой вышивкой. Стараюсь не повредить тяжелый узел волос, который давит мне на затылок и чуть-чуть щекочет кожу. Рука без браслета кажется осиротевшей. На плечи накидываю шелковый шарф, привезенный Ивом из Непала. Тысячи переплетенных в нем золотых, бордовых, красных, алых нитей согревают, бросают теплые отблески на мое бледное лицо. Массирую ноги с кремом, чтобы влезть в узкие туфли, подвожу глаза – единственная косметика, без которой никогда не позволю себе выйти из дому, трогаю губы блеском. Полчаса – и я готова.
Некоторое время бесцельно слоняюсь по комнате. Она слишком для меня велика, и вечером мне здесь будет одиноко, но я надеюсь выпить достаточно для того, чтобы этого не почувствовать. Сажусь на край кровати, и тут на меня накатывает легкое головокружение другой моей жизни – жизни в той книге, которую сейчас пишу.
Сначала это походит на элементарное недомогание, мне кажется, все вокруг заволакивается туманом, я теряюсь, не ощущая почвы под ногами. Потом вижу Робена, маленького мальчика, оставшегося без родителей. Я вижу малыша отчетливо, мне это необходимо, когда пишу. Я знаю, к примеру, что на Робене светло-коричневая пижама с более темными каемками на рукавах. Так он был одет, когда полицейские пришли сообщить ему о несчастном случае с родителями. Он хрупкий, почти тощий, у него густые прямые волосы, остриженные так, что голова стала похожа на шарик, ему не нравится такая стрижка, но его мама заставила парикмахера сделать именно такую. Перед тем как заснуть, ему нужно пожевать кончик одеяла. У него красивые брови, они почти сходятся на переносице, и девочки потом будут от них в восторге. Когда он смеется, глаза у него сощуриваются так, что превращаются в черточки. Я ничего тут не придумала, утащила одно оттуда, другое отсюда, потом перемешала – и вот, пожалуйста. Каждый раз мне кажется, что эти взятки нектара никак не сольются воедино, не станут медом, что все поймут: я просто обманщица, я ворую чужие жизни, как сорока, хватаю, где могу, слова.
Сижу на кровати – и почти что отсутствую здесь. Говорю «почти», потому что сегодня нечто здешнее меня удерживает. Я слышу щебет птиц в лесу позади замка, смутно ощущаю, как узел оттягивает голову назад. Встаю, чтобы окончательно не оцепенеть, и решаю пойти к Анне. Тщательно запираю дверь и иду вдоль коридора. Ловлю себя на том, что шаги у меня сейчас – как у пухленькой дамы: мелкие, скользящие и бесшумные. И вдруг соображаю, кого она мне напомнила. Мадам Сантулло! Даже замираю на месте, настолько удивительно это воспоминание спустя столько лет, настолько удивительно, что оно настигло меня именно сегодня.
В Париже мы поселились в одном из тех старых домов, где внизу была квартирка консьержа. Его звали Эмилио Сантулло, он приехал из Италии, чтобы «класть камни», как многие его соотечественники, но для этого дела, по его же словам, оказался недостаточно крепок. Да и правда, он был худющий, ремень стягивал брюки на талии так сильно, что образовывались складки, а кроме того, он сутулился и пошатывался, прямо как тростник. Всякий раз, как надо было о чем-то его попросить, начинались терзания. Я была убеждена, что когда-нибудь он свалится со стремянки, или кубарем покатится по лестнице, или не сможет удержать нашу тяжелую входную дверь и та его раздавит насмерть. Я все время просила: осторожнее, осторожнее, – и, по-моему, ему это нравилось. Он говорил: «Ах, мадам Соня, вы еще хуже моей жены!»
Уходя по делам или за покупками, я оставляла Анну у них, в двухкомнатной квартирке, вкусно пахнувшей свежей выпечкой. Мадам Сантулло учила меня хозяйничать – объяснила мне, например, что существует всего лишь два правильных способа готовить соус из помидоров. Один – за три минуты на сильном огне, и он брызжет во все стороны, другой – за два часа, на маленьком огне, «piano, piano». И еще время от времени я заходила к ним выпить рюмочку, мы садились втроем вокруг столика, накрытого светло-зеленой клеенкой, всегда чистой, но неизменной на протяжении всех лет. Мадам Сантулло (я не знала и не знаю ее имени) отодвигала бумажки, именно она заполняла счета за мелкие работы, выполнявшиеся месье Сантулло. «Ми-и-илио», – звала она, почти не произнося в начале «Э», и казалось, что имя мужа само собой вылетает из ее уст. Не знаю, отдавала ли она себе отчет в том, сколько любви и нежности вкладывает всякий раз в это имя… Мадам Сантулло наливала нам по рюмочке ликера из дыни или граппы, а когда супруги возвращались из отпуска, проведенного на родине, откупоривала бутылку Lakrima Christi, [25]25
Lakrima Christi – в дословном переводе «слеза Христова», итальянское (бывает испанским) вино янтарного или ярко-пурпурного цвета с пряным и теплым ароматом, полученное из слегка подвяленного винограда.
[Закрыть]белого вина, при первом же глотке которого глаза у меня начинали сами собой щуриться от наслаждения, ибо вкус казался поистине неземным. У них стояли такие небольшие табуреточки, на которых надо сидеть прямо, поставив локти на стол, на зеленую клеенку. Каждый год, 31 декабря, мадам Сантулло меняла кружевные занавески у входа в швейцарскую. «Чтобы как следует встретить Новый год!» – объясняла она. Целыми днями она стряпала для мужа, вела бухгалтерию мужа, разбирала почту, что на самом деле входило в обязанности мужа, и всячески обихаживала мужа.
О чем мы говорили в те вечера, сидя в этой живой и настоящей кухне за покрытым клеенкой столиком, под пожелтевшей картой Италии на стене, когда Анна бегала за дверью по коридору с друзьями, смеясь, смеясь, смеясь во все горло? В Париже Анна была смешливой маленькой девочкой. Нет, не помню, о чем мы тогда говорили, но очень хорошо помню, как они были нежны друг с другом, мадам и месье Сантулло, помню улыбки, которыми они обменивались, – улыбки понимания и терпимости, помню молчаливое сообщничество этих двух людей, которые знали друг друга наизусть, каждый из них мог закончить за другого любую фразу, и не делали они этого попросту из уважения друг к другу. Того самого уважения, что заставляло их в сотый раз выслушивать с улыбкой из уст другого одну и ту же историю.
Потом мадам Сантулло постепенно начала меняться. Я не сразу поняла, в чем дело, мне почудилось, что просто годы берут свое и потому ей с каждым днем труднее быть все время на ногах и ухаживать за мужем, как за малым дитятей. Однажды, когда мы сидели втроем на их кухне, глаза ее посреди разговора вдруг стали пустыми, без всякого выражения, и она уставилась на нас, будто мы незнакомы. Мало того, резво вскочив, указала мне и своему Эмилио на дверь. Месье Сантулло подошел к жене, приобнял и, что-то нашептывая на ухо, повел в спальню. Вскоре жильцы стали говорить, что бедняжка мадам Сантулло сошла с ума, что она забывает на огне кастрюли, что почта целый день валяется под дождем, что она не поменяла к Новому году занавески и ходит постоянно в одном и том же фартуке в цветочек. А моя соседка Мадлен, которая работала медсестрой в больнице, заявила, что совершенно уверена: это – болезнь Альцгеймера. В то время я понятия не имела, что это за болезнь, и Мадлен, отличавшаяся умением в двух словах объяснить самые сложные вещи, назвала этот недуг «забыванием всего». И я, помнится, подумала, что так ведь скоро она перестанет узнавать своего Эмилио, и забудет, как его зовут, и не сможет больше выговаривать «Ми-и-илио» с такой нежностью и певучестью, а ему будет страшно не хватать звука своего имени, произнесенного с безграничной любовью.
Несколько месяцев спустя мадам Сантулло пропала. Вышла за хлебом, но не вернулась и через три часа. Тот день выдался невыносимо жарким, мы с Анной, совершенно раскисшие, сидели у себя в квартире, задернув все занавески, перед крутящимся во всю мочь вентилятором и пили литрами оранжад. Париж как будто бы накрыло колпаком из солнца. Месье Сантулло постучал в нашу дверь, повторяя: «Моя жена ушла, моя жена ушла…» Мы втроем побежали ее искать по опустевшему Парижу. Небо было тогда какой-то невозможной синевы, оно сверкало и слепило, редкие прохожие крались вдоль стен, надеясь хоть так спастись от зноя.
Анна отнеслась к событию очень серьезно, а наши поиски консьержки, наверное, заменили ей, совсем еще маленькой, охоту за сокровищами. Она внимательно, со всех сторон, осматривала каждую помойку, заглядывала за баки, без малейших колебаний заходила во двор любого дома, а иногда принималась там кричать: «Мадам Сантулло! Мадам Сантулло!» Пропажу мы нашли три часа спустя, на маленькой улочке близ Монпарнасского кладбища. Мадам Сантулло сидела на тротуаре, голова у нее свисала, как у усталой марионетки, глаза были пустые, ноги босые, губы, сухие и белые, безостановочно шептали: «Ми-и-илио, Ми-и-илио, Ми-и-илио…» Хотели поймать машину – как бы не так. Задыхаясь и истекая п о том, мы донесли мадам Сантулло до ее квартиры, положили на кровать, и она показалась мне безразличным ко всему ребенком, существом без воспоминаний и прошлого, а Эмилио сказал: «Понимаете, мадам Соня, она слишком много в жизни задумывалась».
Я просто онемела от этой фразы, а сегодня думаю, не ждет ли и меня такая судьба. Раз я слишком много задумывалась, слишком часто витала в облаках, значит, кончу тем, что потеряюсь в жизни. И все.
На первом этаже слышны веселые голоса, торопливые шаги, там отдают приказы, двигают стулья, чем-то звякают, с грохотом падают на пол ящики, хлопают двери… Только что, войдя в этот замок, я не видела никого, кроме пухленькой дамочки. А теперь то и дело подъезжают, скрипя шинами по гравию, машины, взвизгивают ручные тормоза – наверное, из-за того, что ехать приходится по склону. Я совсем забыла, что мы здесь ради свадьбы и соберется много народу, что придется есть, пить, что надо будет улыбаться и притворяться счастливой. Останавливаюсь перед дверью Анны, прислушиваюсь. Там смеются. Стучу и захожу.
Комната Анны почти в точности повторяет мою. Дочка сидит, повернувшись к окну, над ее лицом трудится визажистка. Хоть я и не подавала голоса, Анна издалека окликает меня, почти не разжимая рта – визажистка как раз приступила к окраске губ. На Анне ее подвенечное платье. Принцесса, да и только… Белизна наряда и мелкие цветочки в волосах делают ее какой-то особенно нежной, и меня это трогает. Становлюсь рядом с визажисткой, молодой женщиной с толстым слоем штукатурки на лице, с готической подводкой глаз и бледными ненакрашенными губами. У Анны глаза закрыты, рот приоткрыт, руки лежат на пышной белой юбке, вокруг шеи – полотенце. Она едва заметно улыбается, потому что знает: я рядом, и спрашивает: «Ну и что скажешь обо всем об этом?» Я наклоняюсь к ней и шепчу, что она прекрасна.
Не успеваю договорить, и мне уже кажется, что фраза совершенно идиотская, ей столько раз это сегодня повторят, разве не это всегда говорят невесте на свадьбе – точно так же, как, глядя на фотографию ребенка, «ах ты какая пусечка-лялечка»? Мне бы хотелось найти какие-то совсем свои слова, только мои и только для нее, но момент упущен. Визажистка изготовляет на тыльной стороне руки какие-то сложные смеси – в том месте, где утолщение между большим и указательным пальцами. И вот уже она старательно наносит эту бледную краску на лицо моей дочери. Разглаживает, превращает кожу Анны в безупречную, какой в природе не существует. Говорю ей – может быть, слишком строго, – что не нужно закрашивать родинку у левой брови, дочка улыбается. В это время в комнату врывается Нина, подскакивает ко мне и звонко чмокает. Я беру ее лицо в руки и вспоминаю, какой она была забавной маленькой девочкой, когда приходила порыться в моих коробках, как она строила вокруг себя крепость, как становилась принцессой на день во дворце, возведенном из старых книг. Нина говорит мне: «Ой, вы платье надели!» Анна хихикает, я делаю вид, что задета за живое, Нина умирает со смеху, и я ясно вижу, что мы – как в фильме: подружки вокруг невесты, веселые, подшучивающие друг над другом… На самом деле я всегда хожу в старых джинсах с майками, а когда выхожу в свет, заворачиваюсь в сари. Сари у меня всех цветов радуги, и в них я похожа на знатную даму-индуску, но сегодня мне не хотелось на нее походить. Мне хотелось раствориться в этой свадьбе на французский, на западный лад, – свадьбе, где новобрачных осыпают рисом и лепестками роз, и подают многоэтажный торт, и разливают по бокалам шампанское, и звучит вальс, и поют скрипки, и кругом нежные цветы, и все как полагается. Иначе говоря, никаких барабанов, никакого шафрана, никаких наполняющих жизнь чистотой звуков мантры, никакого камфарного дымка, никаких огней, никаких красных цветов, никаких специй, а значит – и никакого сари…
Анна встает, платье замечательно ее облегает. Сейчас ей дадут в руки душистый букет: зеленые стебли коротко обрезаны, лепестки цветов крепко сомкнуты. Нина говорит: «Какая ты красивая, Анна!» Ну вот! Первая фраза, какие положены, каких не положено… Нина будет на свадьбе подружкой невесты, она в коротком красном платье, юбка на бедрах прилегающая, ниже – широкая. Она скачет по комнате, смотрится в зеркало у входа, поправляет заколку, придерживающую прядь волос. Может быть, думает, обратит ли кто-нибудь сегодня на нее внимание…
Беру дочку за руку, на каблуках она немножко повыше меня, а когда я искоса на нее поглядываю, то не вижу родинки у левой брови. Во дворе гудит машина, и Анна говорит: «Ой, опоздаем!» Спускаемся. У машины, украшенной с обеих сторон белыми лентами и букетом на капоте (каким чудом он там держится?), видим Ива. Он надел другой пиджак и сменил галстук, пиджак синий, как мое платье, галстук – желтый, цвета зимнего солнца. Ив вытянулся в струнку, вид у него торжественный.
Думаю о Мэтью, о странах, в которых он жил, о той, где он сейчас, интересно, о чем думает он в эту минуту? Сжимается ли у него сердце, забилось ли оно сильнее, а он не понимает почему, идет ли к нему волнение отсюда, из этого просторного двора с густым лесом и рапсовыми полями вокруг, со двора, где его дочь садится в машину, чтобы ехать на собственную свадьбу, замуж, и другой, не он, играет роль ее отца?
6
Три минуты – и мы на месте, в деревне под горой. Мы ждем у мэрии, тихо, как-то по-воровски, пока подойдет семья жениха. Артемар – коммуна старой Франции: мэрия, школа с детским садом напротив, чуть подальше церковь, несколько потрепанных «рено-12», бакалейная лавка, где заодно торгуют хлебом, табаком и газетами, ставни пока закрыты. Звонит телефон, Эрик слушает и отвечает: «Хорошо, мы уже здесь».
Все так упорядоченно, тут не только слово страшно сказать – даже дышать страшновато. Интересно, а что происходит сейчас в голове у моей дочери? Думает ли она об отце, о тех годах, что мы провели с ней в тишине, при закрытых дверях? О том дне, когда я сказала, что ее отец – любовь моей юности и что я не могу его найти, потому что даже и не знаю, с чего начать? О том дне, когда я призналась, что отец и не подозревает о ее рождении, а она заплакала и назвала меня эгоисткой? Об имени, которое она вытянула-таки у меня, и катала его потом на языке, и размышляла о нем целыми днями? Мэтью, Мэтью… О подробностях, которые она выведывала, а я скрыла? Да, я поступила жестоко, жестоко, конечно, но как было сказать ей, что поздно возвращаться в прошлое, в то время, когда она была у меня в животе и я еще могла выбирать, сообщить или не стоит? Как объяснить ей, что в мечтах отца ей не было места, что я не хотела ему навязывать ребенка из любви к нему? Говорю «из любви», но любовь ли это, когда не говоришь мужчине, что ждешь от него ребенка, мужчине, которого ты любишь и который любит тебя? А может быть, это и впрямь лишь доказательство моего эгоизма, моей трусости? Может быть, он был бы счастлив стать папой? Нет, эта вымощенная «может быть» дорога чересчур скользкая, я не жалею о выборе, сделанном двадцать четыре года назад, и не хочу о нем сожалеть. Это ни к чему, и действительно слишком поздно.
Я знаю, в школе Анна рассказывала, что ее отец – кочевник, бродяга. Это определение она нашла для него сама. Мэтью-бродяга. Мне часто снится, что я стою перед судьями, но не знаю, в чем меня обвиняют. И просыпаюсь с неприятнейшим ощущением: меня обвиняли в том, что я плохо воспитывала дочь. Я сделала что могла, да, я сделала все, что могла, исходя из того, что умела, из того, что успела узнать. Я никогда не жила вместе с мужчиной, я никогда не приводила его в дом. У меня никогда не было долгой любовной связи, я не хотела, чтобы Анне показалось, будто я не с ней, будто мы с ее отсутствующим отцом объединились, будто я ее бросила. Я отдала ей все, что у меня было, ну, мне кажется, все. Так трудно быть матерью, не знаю, как у других получается все успевать, имея двух-трех ребятишек, как им удается всегда сохранять на губах улыбку, всегда выглядеть уверенными, уверенными во всем, во всем… а дети у них при этом растут здоровыми, спокойными, они аккуратны, причесаны и ходят с безупречным пробором на боку… Помню, когда я гуляла с Анной или приходила на школьные праздники, неизменно восхищалась другими мамами, жадно слушала их мудрые речи, пыталась подражать им, копировать их.
Может быть, я и отдала Анне всю любовь, на какую способна, но я не дала ей семьи. И теперь ясно это вижу: у нее ни брата, ни сестры, ни теток, ни двоюродных сестер и братьев, ни племянников, ни племянниц… На этой свадьбе я мало кого знаю. Ив, Нина да несколько подруг Анны. Завтра у новобрачных появятся новые друзья, новая семья, и они станут все больше и больше отдаляться от того круга одиночества, который являю собой я. И я закончу жизнь совсем одна, с героями своего очередного романа, и, как книга, покроюсь пылью, и обо мне забудут.
Вхожу в мэрию первой, люди оборачиваются, я, опустив глаза, улыбаюсь, потом вижу Алена, там, впереди: он ждет меня, он машет мне рукой. Тут много женщин в шляпах, и я кажусь себе смешной с этим налаченным узлом на затылке. По крайней мере, такой же смешной, как мэр в трехцветном кушаке, из-под которого выпирает живот. Как будто он беременный в криво надетом бандаже. Сажусь где-то посередке, стул скрипит, руки становятся мокрыми, хочется бежать отсюда. Но тут почти сразу появляется на пороге Нина, а за ней и Анна в своем приличном подвенечном наряде, с букетом, под руку с Ивом. Все улыбаются моей дочери, а когда она проходит вперед, я понимаю, что вряд ли отсюда хоть что-нибудь разгляжу: шляпы все загораживают. Рядом со мной – незнакомая пара в парадных костюмах. Все совершается очень быстро, и из-за вентилятора я почти ничего не слышу. Бумаги подписаны, имена перечислены, два тихих «да» даже без поцелуя – и дело сделано. Анна и Ален выходят, они нас не ждут, настоящая свадьба через час в замке. Мать Алена – я ее однажды все-таки видела – идет ко мне, протянув руки, и говорит: «Ах, дети слишком быстро вырастают!» Она звонко меня расцеловывает и представляет куче людей, ни лиц, ни имен которых я не в силах запомнить.
Выхожу из мэрии одна, солнце просто слепит. Ив ждет меня в сторонке, он курит. Делает знак головой: подойди, мол. Осматриваюсь, как будто собираюсь тут что-то украсть, и кидаюсь к нему, к сигарете, которую он мне протягивает. Люди уходят, они торопятся, я не понимаю, зачем в мэрию-то явилось столько народу, пытаюсь запомнить хоть кого-нибудь, но сигарета слишком вкусна, чтобы я могла подумать о чем-то другом.
Вдруг поблизости останавливается такси и из него выскакивает высокий мужчина с выгоревшими на солнце почти добела волосами, он оправляет пиджак, пару раз хлопает руками по брюкам, можно подумать, он вышел из пылевого облака, потом бросается в мэрию и тут же выходит обратно с разочарованным видом. Смотрит вокруг, замечает меня с моей вкуснейшей сигаретой, и у него становится дивное выражение лица. Он слегка пожимает плечами, изображает губами полупристыженную, полунасмешливую гримаску: вот, дескать, опоздал, простите уж. Почему он извиняется именно передо мной? Может быть, потому, что я одна смотрю на него в эту минуту? Ив ищет по карманам пиджака сигареты, люди втягиваются в машины, кое-кто из молодежи громко смеется, новобрачные уже далеко. Я одна на него смотрю и, собезьянничав, повторяю его движения: пожимаю плечами, полуулыбаюсь не то смущенно, не то насмешливо. Потом – как будто нам по шесть лет, и как будто мы только что вдвоем сильно нашалили, и нам непременно влетит, хотя, с высоты наших шести лет, нам на это малость наплевать, и все равно у нас, конечно же, останется приятнейшее воспоминание об этом детском проступке – мы начинаем хохотать, опоздавший мужчина и я со своей сигаретой. Он – чуть откинув голову назад, но не сводя с меня глаз, я – прыская сквозь клуб дыма, который не сумела в себя вдохнуть. Два шкодливых и непоседливых дитяти, вот кем мы стали в эту минуту. К нему подходит высокая женщина в шляпе, целует его, уводит… но перед тем, как уйти с ней, он потихоньку машет мне рукой.
– Это твой знакомый?
– Нет.
До чего же мне хотелось бы сказать Иву «да»: да, да, да, знакомый. Не знаю почему, но мне чудится – знай я этого человека, легче было бы пережить этот день.
Поднимается ветер, мы с Ивом совершенно одинаково вскидываем головы, чтобы посмотреть в небо. Деревня Артемар сейчас совсем пустая. Она вытянулась вдоль шоссе, нам видны виноградники на склонах холмов, а вон там – несколько ферм, далеко одна от другой… Сюда даже на лето не приезжают, только, как мы, на выходные, на ферму-трактир, чтобы отведать цыплят под сливочным соусом, лягушек – словом, набить брюхо; иногда на свадьбу в замке или просто случайно попадают. Эрик везет нас обратно в замок, у меня ощущение, что день – как облака над нашими головами – внезапно сгустился и полетел быстрее. Вспоминаю сегодняшнее утро, как проснулась на рассвете, как мы пили чай с Анной, вспоминаю нашу близость, когда мы обнялись, – и возникает неприятное чувство, что все это уже далеко, так далеко… Мне бы хотелось, чтобы Анна сделала меня ответственной за это «мероприятие», поручила бы мне какие-то дела, принимать людей, говорить с ними, но нет – она дала мне список с перечислением мест, где мне положено быть в такое-то время. Только быть.
Мы возвращаемся в замок, я поражаюсь тому, сколько сделано за то время, что мы были в мэрии. Перед лесом, лицом к нему, к его немножко пугающей чаще, воздвигнуто что-то вроде алтаря – беседка, обтянутая белой тканью и увитая зеленью. С десяток рядов белых стульев с проходом посередине, везде зелень, красные цветы и белые ленты. Все это напоминает декорацию американского сериала – из тех, что идут по утрам. Занимают свои места музыканты: гитарист, флейтист и скрипач; они обмениваются словами и нотами, настраивают инструменты. Ветер становится сильнее, он надувает ткань на «алтаре». Я подхожу немножко ближе к музыкантам – Ив остается позади, другие гости собираются группками вокруг замка. Подхожу, улыбаюсь, в первый раз за день говорю: «Я мама невесты». Они все трое встают, наверное, сейчас начнут кланяться и рассыпаться в комплиментах: «О-о-о, мама невесты, поздравляю, поздравляю, какой прекрасный день, какая дочка у вас красавица, как вы, должно быть, счастливы…» – но ничего подобного не происходит. Они поочередно жмут мне руку, не говоря ни слова, потом снова усаживаются и погружаются в свои ассонансы и диссонансы. Чувствую себя лишней и думаю, что то же, наверное, ощущают все, когда я вот такая – сосредоточенная, вся в своих словах, фразах, придуманной жизни.
Отворачиваюсь от них, собираюсь уходить и тут вижу того высокого мужчину, что утром опоздал. Он причесался, но пряди волос от ветра все время падают на глаза. Он надел красный галстук, черный пиджак, бежевую сорочку. Ему свойственна небрежная элегантность, какая дается отнюдь не всем мужчинам. Быть одетым с иголочки, в костюме-тройке, при галстуке, в запонках, в итальянской рубашке – такой, у которой крохотные пуговки на воротнике, – сверкающей обуви… и тем не менее выглядеть естественно, непринужденно. Мы идем друг к другу, улыбаемся. Он протягивает мне руку, я пытаюсь быть на высоте и крепко ее пожать, но ему нужно вовсе не рукопожатие. Он берет мою ладонь в свои и говорит: «Вы мама Анны? А я папа Алена».
Мама и папа. Не в надлежащем порядке, конечно, не совсем по правилам, не в присутствии супругов, как полагалось бы, но поскольку всё на одном дыхании – кто угодно ошибся бы. Всего шаг до мужа и жены, любовника и любовницы, возлюбленного и возлюбленной. Он говорит «мама» и «папа» – и мы снова становимся детьми и снова начинаем улыбаться. У него крепкие руки, чуть шершавые у основания пальцев, и мне хочется стоять так, доверившись ему, долго-долго. За нами – музыканты, лес, рапсовые поля, небо и ветер. Ветер треплет мой узел, несколько прядей выбиваются и пристают к лицу. Папа Алена, не отпуская правой рукой моей руки, левой тянется к моему лицу, вот сейчас он отведет непослушную прядь, заправит ее мне за ухо, а потом легонько погладит пальцем мочку, вот что он сделает, от этой ласки у меня мурашки побегут по телу, его рука в трех сантиметрах от моих глаз, я вижу длинные пальцы, темные линии на ладони, но внезапно мы оба понимаем, что этот его жест – чересчур интимный, я делаю шаг назад, а он тут же отпускает мою руку. В сердце перебои, я точно не в себе. Какую-то долю секунды мы смотрим друг другу в глаза, потом он улыбается и сторонится, чтобы дать мне пройти.
Ноги держат меня плохо, но я стараюсь ступать твердо, надо сохранять достоинство. Когда я покупала это платье, оно было выбрано за тонкую строчку орнамента на спине, которая бежит вдоль выреза, словно бы вторя изгибу бедер, а потом расширяется, чтобы в конце концов раствориться в узоре ткани. Анна спросила тогда, зачем такой красивый орнамент поместили на спине, а я ответила – для тех, кто будет провожать меня взглядом. Она засмеялась, моя дорогая девочка, она думала, я шучу, думала, это для красного словца, в самом деле, ну кто станет провожать ее маму взглядом… Сейчас я вспоминаю наш разговор – потому что знаю, даже не оборачиваясь: «папа Алена» позади и провожает меня взглядом. Иду к Иву, он стоит на крыльце, прямой как палка. От него хорошо пахнет – наверное, заново надушился. Он ждет сигнала, чтобы идти за Анной.
Благословит молодых пастор. Он уже здесь, рядом с нами, весь в пурпуре, вылитый кардинал, жесты у него широкие, к губам приклеена улыбка, походка медлительная и тоже какая-то широкая… будто он идет в ритме вальса, слышного ему одному. Нина спускается по лестнице, делает знак Иву, священнику. Тот – таким же широким жестом – приглашает нас сесть. Я сажусь на место, указанное каким-то приятелем Анны, – справа в первом ряду. Здесь, кроме меня, никого нет. Слева – семья Алена в полном составе. Его мама, Эвелина, в своей широкополой розовой шляпе, которую приходится придерживать, чтобы не улетела, по левую руку Эвелины – папа Алена, его светлые волосы видны мне из-за шляпы, шляпы его жены… его бывшей жены. Рядом с ними старая дама с удивительно приятным лицом. Иногда с возрастом так бывает: годы не делают черты лица более резкими, а, наоборот, смягчают их, морщинки дарят глазам улыбку, кожа становится пушистенькой и нежной, как у младенца, просто чуть побольше складочек, веки чуть отяжелели, опустились на глаза, наверное, чтобы смягчить суровость взгляда…








