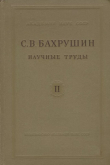Текст книги "Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.)"
Автор книги: Наталья Пушкарева
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Страсти в жизни людей (и женщин особенно), как были вынуждены с сожалением признать церковные и светские авторы, не исчезли ко времени «полной победы» православного мировоззрения, не исчезли, но, напротив, приобрели необычайную экспрессивность [39] и еще большую полярность. На одной стороне продолжали концентрироваться благочестие, нищелюбие и милостивость, вера, смирение и преданность, на другой – гнев, зависть, гордость, уныние и все «сласти житейская» [40]. Как и в домонгольское время, «хорошему» правителю «полагалась» смиренная и верная жена, которая должна была «подъукрадовати страсти» [41], а «хорошей» стране «зело разумна и мужествена властодержица», предпочитающая не выходить замуж («не посягну присовокупитися мужеви»), чтобы «попечение велие» иметь не о себе, а о «народе» [42] (какой сплав «приватного» и «публичного»!). Напротив, неумение «разуметь ся», как и ранее, осуждалось. Для человека, наделенного административной властью – внушали проповедники, – предосудительно любое «скорбие», чем бы оно ни было вызвано. Пример тому – переводная греческая повесть «Александрия», в которой «скорбие» жены правителя изображено как ее недостаток, хотя причиной ее было бесплодие («смущаще царьскую славу и богатьство») [43].
Утверждение стиля «психологической умиротворенности» ХV в. [44], неоспоримо связанного с распространением на Руси исихазма (учения о возможности слияния, безмолвной и тихой исихии человека с Богом), способствовало воплощению в литературе и живописи соответствующих женских образов. Выше уже говорилось о сюжетах золототкачества и их аналогах в литературе. Новый художественный подход и литературный прием были очередными попытками погасить или хотя бы приглушить внутреннюю активность женщин причащением к подобным образам и формам жизнедеятельности. Ведь XV – первая половина XVI в. – эпоха, родившая целую плеяду блистательных и образованных политических деятельниц и правительниц (Софья Витовтовна, Мария Ярославна, Софья Палеолог, Анна Васильевна рязанская, Марфа Борецкая, Елена Ивановна и, наконец, Елена Глинская).
Подробности их частной жизни – такая же тайна для нас, как переживания и чувства их предшественниц X–XIV вв. Ни писем, ни автобиографий от них не дошло. Однако светские литературные и некоторые типы церковных памятников позволяют представить ту духовную атмосферу, те умонастроения, которые создавали «ментальную ауру» деятельности этих «женских личностей».
Примечательно, что дидактические памятники XVI в. зафиксировали – в описаниях, правда, злых жен как более характерных героинь – новую черту в поведении женщин, в мотивации их поступков: стремление к обладанию положительным имиджем в глазах окружающих, небезразличие к оценке их действий в кругу общения: «Хощет убо жена, дабы въси [её] хвалили, любили и почитали. Аще ли иную похваляют – то она возненавидит и вменяет в недружбу. И всегда хощет ведати и поучати и умети. Аще же не умеет и не знает, глаголет: умею и знаю!» В этой короткой зарисовке – отголоски новых интенций, характерных для «женской личности» эпохи становления российского «самодержавства»: желание не только «быть», но и «слыть», ревностное соперничество, стремление к преобладанию, главенству [45]. Все эти черты характеризовали личностное начало, так называемую «бытийную динамику» [46]. Тема достоинства человека, его права на выбор собственного пути («самовластия», свободы его души), прозвучавшая в творениях некоторых восточнославянских писателей конца XV–XVI в. [47], могла бы быть отнесена и к женщинам, однако далеко не все из авторов, точнее – редкие из них, ставили вопрос о праве женщины на самостоятельное чувствование.
Тем не менее идея «духовного разума» – живой частицы божественной истины в каждом человеке [48] – прямо коснулась оценки возможности духовного раскрепощения женщины при сохранении ею «боголюбия». Такой спектр эмоциональных связей показали «Повесть о Петре и Февронии» и современные ей литературные произведения, отразив новые нюансы идеальных отношений женщин с их близкими (мужьями). Именно тогда в православной дидактике произошло некоторое отступление от идеи «второсортности» женщины, казавшееся поначалу неслыханно новым, почти еретическим. Особую роль в этом сыграли произведения православного публициста XVI в. Ермолая-Еразма – автора «Повести о Петре и Февронии» и еще нескольких сочинений, в которых он «неизменно выступал против бесчествования и умаления женщины» [49]. «И женеск бо пол человецы наричутся, – писал он. – Яко же миру без муж не-возможну быта, тако и без жен» [50].
Смена акцентов: с безоговорочного осуждения или пренебрежения, «незамечания» женщин – к усилению пропаганды их роли как жен и матерей, с фиксирования биографий одних только выдающихся «жен» земли Русской, к пробуждению интереса к простым, ничем не примечательным «женским личностям», интересным лишь своей характерностью для эпохи – была вызвана не гуманизацией культуры (хотя такие предположения высказывались) [51] или, по крайней мере, не только ею. В эпоху Грозного и Годунова странно было бы ожидать утверждения гуманистических идей. Чувственные проявления любви у представителей иных культур как вызывали осуждение у видевших их «московитов» в XV в. [52], так и продолжали критиковаться россиянами много позже (и в XVIII в.). Переориентация православных проповедей с идей аскетизма на идеи целомудренного брака [53], с запрета женщинам «тешиться до своей любви» и кар за любое «ласкателство» – на воспитание умения отличать богопротивные желания (например, «удоволства» [54]) от разрешенных, допускаемых во имя чадородия и многочадия, – была связана с молчаливым признанием «неисправимости» женщин и человека вообще и в то же время – с желанием вовлечь даже злых жен в лоно православного вероучения. Именно таким путем рождался идеал «простой жизни» с ее радостями умеренности, здоровья, труда и супружеской любви, не обремененной волнениями и «хотениями».
Отсутствие эпистолярных или автобиографических источников, исходящих от женщин XV–XVI вв. (за исключением царской переписки) [55] – серьезное препятствие в реконструкции их частной жизни. И все же литературные памятники позволяют почувствовать, насколько «объемнее» и сложнее стали образы добрых жен, отношение к их частной жизни. В идеальных супругах их мужья – если верить летописцам и сочинителям авторизованных переводов греческих текстов – стали ценить не только «лепоту лица», «тихость», верность, но и «разум». Таков, например, герой «Александрии», который «безмерную красоту лица ее (Роксаны. – Н. П.) видех», оказался «прельщен» не столько ею, сколько «женскою мыслию устрелен бысть» [56]. Феврония в ранних вариантах известной повести была представлена «в простоте» и «всея лепоты» лишенной. В поздних списках это недоразумение было снято переписчиками, и она стала изображаться, «цветящей душевною добротою», «со многим разумом». В загадках Февронии («Сего ли не разумееши?») стало просматриваться фольклорное озорство Василисы Премудрой [57]. Успех в предпринимательских делах некоторых житийных героев-мужчин в посадских повестях оказался увязанным с тем, что они «думали ж жонками» [58].
В текстах переводных повестей, ставших самостоятельными в силу интерполяций авторских ремарок и фольклорной мудрости, распространялась (прямо противоречащая сентенциям Заточника и «слов») идея «соблюдения» государства с помощью «изрядной и мудрой жены». Тем самым решительно отрицалось прежнее утверждение о том, что будто бы «женам несть лепо в мужеские вещи входить» [59] и что «высокоумие» женщины является ее «погрешением» [60]. И если в летописях домосков-ского времени жены князей чаще всего отличались «невмешательством» в их государственные дела, то в исторических повестях XVI в. развился и углубился мотив «положительного», благотворного влияния женщины на мужа-политика (например, кнг. Анастасии Романовой на своего мужа, Ивана IV, которого она «на всякиа добродетели наставляа и приводя») [61]. Симптоматично, что русский переводчик западноевропейских новелл о «хытростях женьских» (XVII в.) оставил в стороне все сюжеты, в которых говорилось о женской глупости [62].
Разум как путь к «мысленному согласию», а последнее – как предпосылка любви, в том числе любви супружеской [ «от вражды бо любовь произойти не может, любовь бо от мысленного согласия начало водит»; [63] «не дружися, чадо, с глупыми, немудрыми» [64]], заставляли внести коррективы в прежние представления об отношениях мужа и жены, о семейной иерархии, о содержании самого понятия «любы» (любовь). Значение «разума» и «премудрости, еже даяй Бог» в частной жизни не только благоразумных добрых жен, но и «блудниц», «сожителниц мужей непотребных», стало подчеркиваться составителями популярных в городской среде «повестей» и переводных новелл в сюжетах о «покупках» разума [65].
В древнерусском языке под «любовью» разумелись обычно привязанность, благосклонность, мир, согласие. Никакого чувственного смысла в это слово не вкладывалось, как и в слово «ласка», подразумевавшее лесть, милость, благодеяние, но не акт любовных действий [66]. Не было в русском языке и слова «нежность» в современном нам значении: первые употребления зафиксированы лишь во второй половине XVII в., равно как и проявление чувственного оттенка в словах «ласкота», «ласкати» («лащу») [67]. Для выражения чувственных отношений между мужчиной и женщиной в древнерусском языке существовали иные понятия, которые никогда не употреблялись летописцами в характеристиках отношений между супругами: «любосластвовать», «любоплотовати» (с XI в.) – получать чувственное наслаждение [68], «дрочити» [69] – нежить или находиться в ласке у кого-либо («дроченами» называли неженок без различия пола [70]. Существенная разница имелась и между понятиями «поцелуй» (откорня цел благопожелания быть целым и здоровым, поцелуи чаще всего были ритуально-этикетными) и «лобзанье» (от «лобъзъ» губа) – о последнем дидактические тексты если и вспоминали, то с осуждением [71]. Все свидетельства «любви» между супругами в княжеской среде, относящиеся к периоду до середины – конца XVI в., – весьма слабое доказательство «любви» между ними в современном нам понимании, но, они, безусловно, доказывают наличие согласия в их семьях, их (по крайней мере внешней) малой конфликтности.
В памятниках церковного происхождения, относящихся к домосковской Руси, не было описаний любовных отношений (даже в осуждающем тоне), хотя злые жены и представлялись поглощенными «похотью богомерзкой», «любодеицами» и «блудницами», для которых «любы телесныя» рисовались более существенными, нежели духовная основа брачного союза [72]. Но трудно даже предположить, что интимные удовольствия не имели огромного значения в частной жизни женщин того времени. При общей бедности духовных запросов, непродолжительности досуга, неубедительности нравственных ориентиров, предлагаемых церковнослужителями в качестве жизненного «стержня», физические удовольствия были для многих женщин едва ли не первейшей ценностью. «Любы телесныя» в этом смысле мало отличались от желания досыта наесться [73].
В конце же XVII в. в церковных и светских памятниках появились описания [74] чувственных отношений между людьми, которых не было раньше [75]. Едва ли не первым произведением русской литературы, щедро и зримо обрисовавшим любовную историю, была «Повесть о Савве Грудцине». Юный герой ее был представлен объектом соблазнения опытной женщиной – «третьим браком приведенной» купчихой, женой некоего Бажена, приятеля отца Саввы. Впервые в светской, а не в назидательной церковной литературе отобразились сложные чувственные переживания, став облагораживающим возвышением любопытства и пересудов до уровня литературной формы.
Ранее (и буквально «от веку») главным образом церковные дидактики настаивали на том, что женщины более сексуальны, нежели мужчины [76], и что в браке (а также вне его!) именно «жены мужей оболщают, яко болванов» [77]. Литература XVII в. продемонстрировала «усвоенность» подобных идей паствой: автор повести не скупился на эпитеты «скверного блуда» жены Бажена из «Повести о Савве Грудцине». Между тем сами компиляторы церковных учительных сборников несколько смягчили критическую сторону своих проповедей – во имя новых задач, и прежде всего – во имя идеи целомудренного супружества.
Это «смягчение» выразилось в постепенном «размывании» границ образов доброй и злой жены. Женофобские церковные сочинения по-прежнему подробно рисовали портреты обавниц (т. е. чаровниц) – еретиц, хитрых, блудливых и крадливых. Судебные акты о посягательстве на чужое имущество, челобитные с сообщениями о «приблуженных» детях, жалобы на чародеинные, наузы, (колдовство) родственниц, дошедшие от XVI, а особенно от XVII в., подтверждают, что злые жены не были только плодом больного воображения церковных дидактиков. Не встречались лишь примеры одновременного присутствия у одной женщины, какой бы злой она ни была, всего сонма приписываемых злой жене пороков. Вполне добрая жена при экстремальных обстоятельствах – ущемлении ее достоинства (обиде, клевете, измене ей самой или ее близким, например, дочери) – могла, как замечали ее современники, обнаружить себя не терпеливым «агнцем», а злой женой.
Шагом к изменению представлений о женщине в XVII – начале XVIII в. стало признание допустимости ситуации, при которой безнравственный поступок совершался не «девкой-кощунницей», не коварной обольстительницей, а мужчиной. Это можно обнаружить в «Сказании о молодце и девице» (XVII в.), построенном на сюжете совращения невинности прожженным сердцеедом. Вероятно, несмотря на разработанность законов, карающих за растление, а также массовость подобных примеров, случаев реальных наказаний за подобные проступки было в Московии не слишком много. Во всяком случае, автор «Сказания», равно как и сочинитель «Повести о Фроле Скобееве», меньше всего сочувствовали женщине («невзирая ни на какой ее страх») [78] и скрыто восторгались решимостью мужчин. Их половая активность, как это в целом типично для доиндустриальных обществ [79], была предметом столь же пристального внимания, что и воинские доблести. До женских ли тут было чувств!
С другой стороны, именно в литературе раннего Нового времени начало формироваться представление о существовании в среде «обышных» людей – мирян, а не иноков – женщин высокодуховных и высоконравственных. Начало этому процессу было положено хрестоматийным эпизодом «Повести о Петре и Февронии» с зачерпыванием воды по разные стороны лодки («едино естество женское есть»). Впервые в истории русской литературы назидание, касавшееся интимно-нравственных вопросов, оказалось вложенным в уста женщины. Сам же брак Петра и Февронии, окруженный в «Повести» массой мелких бытовых подробностей, создававших ощущение его «жизненности», достоверности, вырисовывался как образцовый (по церковным меркам) супружеский союз [80]. И союз этот был основан не на плотском влечении, а на рассудочном спокойствии, поддержке, верности и взаимопомощи [81]. На примере рационального поведения женщины – существа «по жизни» очень эмоционального – автор «Повести» добивался двойного эффекта: доказывал, что лишь «тот достоин есть дивленья, иже мога согрешите – и не согрешит» [82] (то есть «живет в браце плоти не угождая, соблюдая тело непричастным греху» [83]), и одновременно показывал, что в преодолении разных плотских «препятств» [84] содержится принципиальная достижимость подобного идеала, и кем – женщиной!
Морализаторский момент в повести ничуть не мешал «воспитанию чувств», в том числе любовных, ведь аскетизм Февронии касался не жизни «всех и каждого» (это понимали, должно быть, и современники), а лишь редкостного «подвига». Образ Февронии дополнял ряд ярких и острохарактерных героинь русской литературы XVII в. Но он и противостоял им. Будучи принципиально не массовым (как то было характерно и для древнерусской агиографии), он был в то же время смягчен отходом от крайностей.
Таким образом, анализ древнерусской светской и церковной литературы под углом зрения истории супружества, точнее – характеристики его «предельных» в своей «положительности» и «отрицательности» проявлений (образов добрых и злых жен), отразил с известной условностью пути превращения «девиантного» поведения или поступков, противостоящих норме, выходящих за ее рамки, в условно принимаемые, а затем признаваемые. Обличая пороки злой жены, церковные проповедники оказались вынужденными подробно анализировать различные житейские ситуации, сопоставлять их с каноническими нормами и текстами, анализировать их. Высокая степень концептуализации женских эмоций, равно как эмоций, вызываемых женщинами, отразившаяся в назидательных текстах XV в. (от восприятия, «прилога» как первопричины эмоции до детальных описаний ее внешних проявлений), подробные «характеристики» женской натуры (склонности к аффектированному выражению чувств, большей эмоциональности любых переживаний) способствовали обогащению мира чувств (вначале образованных аристократов, а постепенно и простолюдинов), в том числе и прежде всего в семейной жизни, частной сфере. Обогащение же мира чувств с неизбежностью вело к гуманизации общества, его культуры.
Одновременная пропаганда «психологической умиротворенности», кульминация которой пришлась на XVI в. (а это была попытка «погасить» идеологическим путем активность женщин как в частной сфере, так и в публичной), несмотря на всю ее «искусственность», также принесла свои плоды. Она способствовала повышению общего нравственного уровня общества. Православные этические нормы, проникнув в сознание простолюдинов и контаминировавшись с народными, традиционными, способствовали формированию народно-религиозного идеала супружества и доброй жены. О рождении новых черт женской эмоциональности в эпоху раннего Нового времени можно судить и по тому, что к XVI в. идеальной основой супружеских отношений стал считаться «духовный разум» женщины, «совестливое понимание» ею семейной иерархии, подчинение главе семьи по собственной воле, готовность считать и видеть себя ведомой. Одним из путей формирования женского идеала, соответствующего православной этике, стала в позднее средневековье и в эпоху Московии XVI–XVTI вв. традиция приписывания добрым женам многочисленных, разнообразных, а главное, принципиально достижимых добродетелей и создание женских образов, олицетворяющих, как ни парадоксально это звучит, мужскую совесть.
В итоге же можно заметить, что взгляды и оценки древних русов X–XV вв. и московитов XVI–XVII вв., их воззрения на частную жизнь своих «подружий», «лад», «супружниц» прошли длительную эволюцию от осуждения богатого мира женских чувств к его постепенному признанию. Литературный материал – как светский, так и церковный – отразил эти трансформации. Переход от статичных, «вневозрастных», однохарактерных в своей благостности или, напротив, порочности образов добрых и злых жен древнерусской литературы к сложным, эмоциональным, неоднозначным, а порой и страстным женским натурам литературы XVI, а особенно XVII в., происходил под влиянием тех изменений и процессов, которые двигали «женской историей» (и отечественной историей вообще). На этот переход оказали влияние многие факторы: «спады» и «взлеты» в динамике выдвижений на политическую арену деятельных и энергичных «женских личностей», изменения в правовом сознании, связанные с формированием автократического государства, а также сама динамика социокультурных изменений [85].
V
«СВЕТ МОЯ, ИГНАТЬЕВНА…»
Интимные переживания в частной жизни женщины. Любовь в браке и вне его
Шестивековая история древнерусской литературы (X–XVI вв.) в значительной степени подготовила новое восприятие супружеской и, шире, социальной роли женщины, все те изменения в умонастроениях россиян XVII в., которые были связаны с обмирщением и гуманизацией культуры предпетровского времени.
Было бы наивным, однако, судить по литературным произведениям (в частности по «Повести о Петре и Февронии») о «смягчении нравов» народа в целом. Бытовые подробности интимной жизни женщин эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова, могущие быть воспроизведенными – хотя и с известной приблизительностью – с помощью сборников исповедных вопросов, епитимийников и требников, представляют картину, диаметрально противоположную романтически-возвышенному полотну, созданному Ермолаем-Еразмом. Речь идет даже не о «грубости» нравов, но о примитивности потребностей людей, в том числе женщин. Вся эротическая культура (если она вообще была в России XVI–XVII вв.!) оставалась сферой мужского эгоизма.
Сексуальная жизнь женщины в браке – если она подчинялась церковным нормам – была далеко не интенсивной. На протяжении четырех многодневных («великих») постов, а также по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам «плотногодие творити» было запрещено. Между тем в литературных памятниках предпетровского времени можно обнаружить довольно подробные описания нарушений этого предписания: «В оном деле скверно пребывающе, ниже день воскресенья, ниже праздника господня знаша, но забыв страх божий всегда в блуде пребываше, яко свинья в кале валяшеся…» [1]. Частые и детальные констатации прегрешений подобного свойства (названных в епитимийных сборниках «вечным грехом») создают впечатление о далеко не христианском отношении прихожанок к данному запрету. Недельные воздержания показались невыполнимой мечтой проповедников и одному из путешественников-иностранцев XVII в. [2].
Мечтая победить «соромяжливость» (скромность, стыдливость) прихожанок, «отцы духовные» требовали от них подробной и точной информации об их интимной жизни. В то же время, противореча себе, они учили, что «легко поведовати» может только морально неустойчивая злая жена [3]. На одной из ярославских фресок XVII в. изображена «казнь жены, грех свой не исповедавшей». Судя по наказанию (змеи-аспиды кусают ее «сосцы»), грех этой «кощунницы» имел прямую связь с интимной сферой [4]. Между тем к началу Нового времени отношение к «соромяжливости» женщины ужесточилось [5]. Проповедники стали настаивать на предосудительности любых обнажений и разговоров на сексуальную тему [6], запрещали изображать «срамные» части тела [7]. Повторение идей об извечной женской греховности попала и в популярные произведения светской литературы, в которой стала пропагандироваться идея постыдности «голизны»: «аще жена стыда перескочит границы – никогда же к тому имети не будет его в своем лице» [8].
Такого взгляда на обнажения, особенно в отношениях с законной супругой, невозможно даже предположить в среде «простецов»: пословицы говорят о разумной естественности в таких делах («Стыд не дым, глаз не выест», «Стыд под каблук, совесть под подошву») [9]. Тем не менее литературные произведения XVII в. настаивали на аморальности, постыдности демонстрации тела, на том, что девушке и женщине «соромно» раздеваться при слугах-мужчинах, особенно если это слуги «не свои» («како же ей, девичье дело, како ей раздецца при тебе? – Так ты ей скажи: чего тебе стыдиться, сей слуга всегда при нас будет…») [10].
Тогда же, в XVI – начале XVII в., в назидательных сборниках появилось требование раздельного спанья мужа и жены в период воздержанья [11] (в разных постелях, а не в одной, «яко по свиньски, во хлеву»), непременного завешивания иконы в комнате, где совершается грешное дело, снятия нательного креста [12]. Эпизод «Повести о Еруслане Лазаревиче», рассказывающий о том, что герой «забъи образу божию молиться», когда «сердце его разгорелось» и он «с нею лег спать на постелю», позволяет предположить, что и для «мужей», и для «женок» нормой являлась непременная молитва перед совершением «плотногодия» [13]. Достаточно строгим оставалось запрещение вступать с женой в интимный контакт в дни ее «нечистоты» (менструаций и 6 недель после родов) [14]. Применение контрацепции («зелий») наказывалось строже абортов: аборт, по мнению православных идеологов, был единичным «душегубством», а контрацепция – убийством многих душ [15].
Наказания и штрафы за контрацепцию и аборты возрастали, когда речь шла о внесупружеских интимных связях московиток. Подобные «приключения» нередко разнообразили их частную жизнь, хотя «прелюбы» (адюльтер) карались строже «блуда» (сексуальных отношений вне брака) [16]. Тем самым подтверждалась патриархально-иерархическая основа семейных отношений: жена-изменница выставляла мужа на посмешище, нарушая традицию подчинения (в тексте одной из повестей XVII в. это выражено в восклицании одной из «согрешивших»: «Владыко, [яз] не сотворих любодейства, ниже помыслех на державу (власть. – Н. П.) твою…» [17]). О том, что авторы нравоучений о злых женах-прелюбодейницах и блудницах списывали их портреты с натуры («тако сотвори, еже не любити ей мужа своего, но возлюбити есми того» юношу, «мужа же своего не хотя и имени слышати»), говорит немалое число летописных и иных рассказов [18], а также колоритные изображения греховных связей на поздних фресках [19].
Сопоставление текстов сборников исповедных вопросов, фольклорных записей (пословиц) и литературных памятников конца XVI–XVII в. с целью анализа интимной сферы частной жизни московиток приводит к выводу не столько о «сужении сферы запретного» в предпетровской России [20], сколько о расширении диапазона чувственных – а в их числе сексуальных – переживаний женщин того времени [21]. Переживаний, которые все так же, если не более, считались в «высокой» культуре «постыдными», греховными (в России XVII в. сформировался и канон речевой пристойности) [22], а в культуре «низкой» (народной) – обыденными и в этой обыденности необходимыми [23].
О расширении собственно женских требований к интимной сфере частной жизни в XVI–XVII вв. говорят прямо описанные эпизоды «осилья» такого рода в отношении мужчин («он же не хотяще возлещи с нею, но нуждею привлекая и по обычаю сотвори, по закону брака») [24], описание «хитрости» обеспечения у мужчины «ниспадаемого желания» [25], а также нетипичная для более ранних текстов исповедной литературы и епитимийников детализация форм получения женщинами сексуального удовольствия – позиций, ласк, приемов, приспособлений, достаточно откровенно описанных [26] в церковных требниках, составлявшихся по прежнему, казуальному, принципу [27]. Обращает на себя внимание и признание одной из литературных героинь матери: «Никакие утехи от него! Егда спящу ему со мною, на ложи лежит, аки клада неподвижная! Хощу иного любити, дабы дал утеху телу моему…» [28].
Не стоит, однако, думать, что все эти проявления чувственности русских женщин были какими-то новациями или тем более заимствованиями из других культур. Новой была лишь их фиксация в текстах, предназначенных для домашнего чтения. Ранее ничего подобного, даже в осуждающем тоне, в литературе найти было нельзя, так как дидактики рассуждали по принципу: «Сь юзиме плоти (когда утесняется плоть. – Н. П.) – смиряется сердце, ботеющу сердцу (когда сердцу дается воля. – Н. П.) свирипеют помышления» [29]. Чтобы не допустить этого «свирипенья» женских помыслов, в текстах не допускались не только какие-либо «пехотные» описания, но и намеки на них.
Впрочем, если задуматься, эротический субстрат смысла некоторых литературных эпизодов довольно легко вычленяется из вполне невинных текстов. Так, скажем, в «Повести о Василии Златовласом» имеется подробно выписанная сцена с участием женщины, которую трудно охарактеризовать иначе, чем садо-эротическую: «полату замкнув на крюк, сняв с нее кралевское платье и срачицу и обнажив ю донага, взял плетку-нагайку и нача бити ее по белу телу… и потом отдал ей вину и приветствова словами и целовав ю доволно, потом поведе ю на кровать…» [30]. Приведенная сцена находит прямое соответствие с текстом «Домостроя» и «Поучением» Сильвестра сыну Анфиму (XVI в.), хотя ранние тексты выписаны более целомудренно: «наказуй наедине, да наказав – примолви (успокой. – Н. П.), и жалуй (пожалей. – Н. П.), и люби ея…» [31].
Вне сомнения, все попытки разнообразить и оптимизировать интимные отношения причислялись церковными деятелями к тому, что «чрес естьство сотворено быша» [32]. И тем не менее в посадской литературе стали встречаться упоминания о том, что супруги на брачном ложе «играли», «веселились», а «по игранию же» («веселью») «восхоте спать» – маленькая, но важная деталь интимной жизни людей, никогда ранее не фиксировавшаяся [33].
Кроме того, в том же XVII в. появились и «послабления», касавшиеся интимной сферы. Реже попадались запрещения супругам «имети приближенье» по субботам, исчезло требование абстиненции во время беременности женщины, а также по средам и пятницам [34], за сексуальные контакты женщин вне дома стала накладываться меньшая епитимья [35]. Изменение отношения к физиологии нашло отражение и в знаменитой книге «Статир» 1684 г., настаивавшей на «равенстве» всех частей тела, каждая из которых – «равна главе и ту ж де восприемлет честь», и в некоторых детализированных описаниях женского тела в посадских повестях: [36] «Ему велми было любо лице бело и прекрасно, уста румяны… и не мог удержаться, растегал платие ее против грудей, хотя дале видеть белое тело ее… И показалася красота не человеческая, но ангельская» [37]. Трудно даже вообразить себе, что вид обнаженной женской груди мог быть назван «ангельскою красотою» столетием раньше!
Городская литература XVII в., будучи основанной на фольклорных мотивах, едва ли не первой поставила вопрос о «праве» женщины на индивидуальную женскую привязанность, на обоснованность ее права не просто быть за-мужем, но и выбирать, за-каким-мужем ей быть. Вся эта литература – яркое свидетельство продолжавшегося освобождения жителей Московии от морализаторства и ханжества [38], освобождения от «коллективного невроза греховности» [39]. Однако женщин эти процессы – как то было характерно и для Европы раннего Нового времени [40] – коснулись в меньшей степени, чем мужчин. Действительно, литературные афоризмы XVII в., сблизившись с народной мудростью, оказались трансформированными ею, обогащенными общечеловеческим опытом. Поэтому в памятниках ХЛШ в. женщины уже не произносили лаконично-символических фраз (как в летописях), а общались живым человеческим языком: «Поди, скажи мамке…», «Полноте, девицы, веселицца!», «Ну, мамушка, изволь…» [41]. В произведениях XVII в. уже не найти прежнего осуждения чувственных, страстных женщин; [42] напротив, эмоциональные натуры стали изображаться и высокодуховными (Бландоя, Магилена, Дружневна), а их чувства к избранникам – прекрасными и величественными в своем накале: «Иного супружника не хощу имети!.. [43] – И рекши то, заплакала горко, и от великой жалости упала на свою постелю, и от памяти отошла – аки мертва – и по малом времени не очьхнулась…» [44].