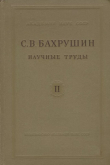Текст книги "Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.)"
Автор книги: Наталья Пушкарева
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Весьма требовательно следили и за проведением процедуры оглашения намерения вступить в брак [205]. Венчать новобрачных позволялось только в церкви [206], причем в определенные дни это делать запрещалось [207]. Тайные венчания церковный закон осуждал, требуя это делать «при множайших людях». Тем самым предвосхищалась возможность выдачи замуж женщины, уже состоящей в браке или имеющей кровное родство с женихом, и одновременно пресекались разные уловки и «хитрости».
Если в домосковское и раннемосковское время свадьба четко делилась на веселие и почти не связанные с ним церковные ритуалы, то в XVIII в., а тем более в начале XIX, венчание стало не просто органичной, но центральной частью свадьбы. Ни одно из воспоминаний русской дворянки не обошлось без упоминания о венчании; описания же каких-либо обрядовых действий (предсвадебной бани, обряда чесания волос, игровых действий, песен – всего того, без чего не обходилась свадьба крестьянская) не встречаются [208]. По всей вероятности, на ход свадебной церемонии в привилегированных сословиях большое влияние оказала привнесенная европейская традиция подобных торжеств.
Сопоставляя свадебные обычаи России и своей родины, англичанка Марта Вильмот отметила как типично русский «обычай готовить le dot (приданое. – Н. П.) почти с рождения девочки», а также обязательный перечень необходимых для молодой семьи предметов, которые в него входили: «столовое белье, простыни, столовое серебро (речь о дворянских семьях. – Н. П.), большое количество платья, постель», которые «укладываются в тюки». Немало поразил англичанку и обычай благословения приданого священником, который должен был «окропить собранные вещи водой». В тех же письмах М. Вильмот 1803–1804 гг. упоминается свадебный обычай взаимного одаривания подарками «примерно одного достоинства» родственников двух породняющихся семей [209].
«Чин венчания» – т. е. необходимые молитвы при наложении венков в церкви – был в средневековой Руси очень длинным. Новобрачные и гости подчас буквально валились с ног, выстаивая перед алтарем. В 1703 г., на венчании боярина И. Ф. Головина, вечно спешивший царь Петр I приказал не дочитывать текст чина до конца [210]. Царю не терпелось погулять на свадебном пиру [211]. С тех пор практика расширения «веселья» за счет сокращения обрядов церковного венчания стала быстро приживаться, а в 1724 г. Синод уже законодательным путем сократил некоторые ритуалы и текст молитв [212].
Православные ритуалы стали в XVIII в. неотъемлемой частью и народных и дворянских свадеб. Благословение невесты иконой, крестом, появление в свадебном веселии обрядов, связанных с «освещенным воском» (от свечи, которую невеста держала в церкви), говорило о постепенном слиянии народных традиций с религиозными. При этом «слиянии» ритуалы, унижавшие женщину и идущие от христианской женофобии, так и не стали «обычными» и мало закрепились в обрядовой части свадеб благородного сословия. В частности, обычай выставления сорочки новобрачной после первой брачной ночи Петр I запретил как «жестокий», а за следование ему приказал «наказывать и знатных» [213].
Камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, будто в подтверждение известной поговорки того времени «Свадьба без пороку не бывает» [214], пораженный одной из брачных церемонии, связанных с супружеским ложем, весьма подробно описал все ее ритуалы. Он обратил внимание на обилие символического хмеля и вина в подклете, упомянув об обычае пить на брачном ложе «водку из сосудов, имевших форму partium genitalium (для мужа – женского, для жены – мужского)», а также наличие «дыр» в стенах брачной подклети, «в которыя можно было видеть, что делали молодые в своем опьянении» [215]. Однако о традиции выставления свидетельств девственности новобрачной он не упомянул вовсе. Это не значило, однако, что ценность добрачной девственности резко снизилась в рассматриваемое время. Разумеется, при заключении брака предполагалось, что девушка вступает в него невинной, и Берхгольц присутствовал как раз на такой дворянской свадьбе. Но уже в конце XVIII в. нарочитое подчеркивание «сохранения девственности», по крайней мере, в дворянских кругах, стало выглядеть несколько комичным [216].
В крестьянской среде на девственность новобрачной смотрели под особым углом зрения. Крепостные девушки-невесты часто становились объектами «зверских намерений молодых чудовищ» (А. Н. Радищев) – своих господ, пользовавшихся правом первой брачной ночи. Поскольку сами крестьянки почти что привыкли к тому, что они лишь «твари, созданные на их (господ) угождение», постольку и в глазах деревенского мира подобное не считалось «обесчещением». Однако тот же А. Н. Радищев удивился тому, что одна крестьянка не взяла у него денег на свадьбу дочери, оттого лишь, что «лихие люди мало ли что подумают», что доказывает высокую ценность доброго имени девушки в деревне [217].
Общие строгие правила и ценность девственности вполне уживались в крестьянском быту со сравнительной распространенностью добрачных интимных связей [218]. Подчас к ним толкала боязнь бесплодного брака: в Западносибирском регионе такое добрачное сожительство жениха и невесты именно поэтому не осуждалось деревенским миром [219]. Целомудрие, нравственная чистота – по словам одних информаторов Русского географического общества – «ставились выше (красоты) физической», а «губитель девичей красоты» (невинности) по неписаным нормам считался преступником и обязан был жениться на растленной [220] (поскольку действительное бесчестье грозило девушке не в случае утери девственности, а в случае, если ее после этого не брали замуж) [221]. Другие информаторы сообщали, что на утерю девственности смотрели как на простимое прегрешение, над которым, правда, подтрунивали: «Никто не бывал – а у девки дитя!» [222]. Сохранились данные (в том числе в фольклоре [223]) и о бытовании ритуала обнародования девственности новобрачной. Однако «запятнанной» отсутствием целомудрия (если таковое открывалось) невеста себя не чувствовала [224].
В отношении свадебных обычаев крестьянский бьгг XVIII – начала XIX в. оставался хранителем всего традиционного. В дворянском же быту из старых ритуалов особой живучестью отличались так называемые ритуалы «второго дня» (свадьбы). Одним из них, служившим обеспечением крепости семейно-родственных связей и взаимоуважением представителей разных поколений (в том числе многочисленных родственниц!), оставался обычай объезжать родных на второй или третий день после церемонии, одаривать их подарками [225]. О соблюдении его упомянула, в частности, Наталья Долгорукова, чье грустное бракосочетание (в связи с неожиданной опалой мужа), в общем, во многом отличалось от традиционного [226].
Таким образом, условия заключения брака, столетиями формировавшиеся русской православной церковью – главным регулятором всех дел, касающихся семейных отношений, – хотя и претерпели определенные изменения, остались в XVIII – начале XIX в. для девушек и женщин различных сословий в целом прежними.
Таинство венчания все так же знаменовало для женщины создание освященного церковью пожизненного семейного союза. С правовой точки зрения, он должен был держаться на «трех китах», трех принципах супружества той эпохи: единой фамилии, общем местожительстве и одном социальном статусе.
Принцип единой семейной фамилии, по которому женщина, вступая в брак, брала фамилию мужа, веками не подвергался никем сомнению. В 1714 г. была сделана попытка отойти от него (было введено правило, по которому наследница недвижимости могла вступить в свои права лишь в случае, если муж взял бы ее родовую фамилию), но новшество просуществовало лишь 17 лет [227]. Таким образом, петровские попытки отойти от старой патриархальной традиции потерпели поражение.
Сохранение принципа общего местожительства супругов оказалось несколько более успешным, общее правило-требование «о недопускании брачившихся жить порознь после бракосочетания» действовало как норма [228]. И все же в эпоху петровского реформаторства было издано распоряжение, по которому мужу позволялось не следовать за женой в случае совершения ею преступления и избрания ссылки мерой пресечения [229]. Следом вышло аналогичное постановление, касавшееся женщин, которым стало разрешено не отправляться в ссылку, а «работою кормиться на прежних жилищах своих» [230]. Однако англичанка Рондо, побывавшая в России в середине XVIII в., отметила, что «когда глава семейства впадает в немилость, то все семейство подвергается преследованию», хотя ее лично и удивляла «ссылка женщин и детей» [231]. Принцип общего местожительства продолжал, таким образом, действовать, и контроль за соблюдением его был возложен на Синод. Тем не менее и в мемуарной литературе и в документальных источниках ХVIII – начала XIX в. можно найти примеры раздельного проживания формально неразведенных супругов [232]. Нормой это не было. Типичным было проживание молодой семьи по месту жительства мужа или мужа и его родственников. Проживание молодой семьи по месту жительства родных жены выглядело в глазах деревенского мира предосудительным. Самой мягкой кличкой для такого зятя была примак, а обычно их именовали влазнями («влазень в доме не настоящий хозяин, а пришлый, жена его считается полной хозяйкой») [233].
Наконец, и третий принцип супружества – единый социальный статус мужа и жены, как уже говорилось в связи с темой сословности брака – соблюдался в рассматриваемое время далеко не всегда. Со времен Екатерины II число примеров его нарушения заметно возросло.
Тем не менее супруги после венчания – если не считать некоторых отступлений – обычно носили единую фамилию (мужа), жили вместе и имели общий сословный статус. Их отношения в браке во многом определялись нравственной атмосферой общества. Не только законодательно закрепленные права мужа и жены, но и обычаи оказывали влияние на супружескую жизнь. Кроме того, немалое влияние на российский семейный быт XVIII – начала XIX в. оказало складывание нового взгляда на человека как на творческую, деятельную натуру, активно утверждающую себя в жизни, способную понять красоту земных чувств и мира в целом [234].
II
«ДРАЖАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ МОЕ!»
Мир чувств русской женщины. Любовь в браке и вне его
Реконструировать мир чувств человека ХVIII – начала XIX в., а тем более женщины, не так легко, как кажется на первый– взгляд. С одной стороны, это время действительно было во всей Европе «золотым веком частной жизни, веком приоритета индивидуальности» [1]. С другой – это утверждение верно в большей степени в отношении мира мужчин. И это при том, что именно в ХVIII в. в России появились первые «женские» дневники и мемуары, отразившие и особенности женского видения мира, и женский повседневный быт, и его восприятие глазами представительниц образованной части общества. Правда, сами женщины, оценивая пройденный ими жизненный путь и переживания на нем, полагали, что «в те времена кратче разыгрывались роли на жизненной сцене. Не требовалось на то ни остроумия, ни измышлений или же каких анализов тех или других чувств…» [2]. Тем не менее формирование «женского мира», начавшееся в конце ХVIII в., пошло в новом столетии быстрыми темпами. И главное – началось осознание целостности женского мира, самостоятельности и от-личности от мира «мужского». В этом немалую роль сыграла литература, взявшая на себя – как и искусство в целом [3] – роль практического руководителя в обучении «науке жизни».
В первой половине века, примерно до 60 – 70-х гг., большее значение в формировании отношения к женщине в обществе и отношения самих женщин к себе и окружающим имела литература официальная: церковно-дидактическая и светская (можно сказать – государственная) печать – исторические сочинения. Художественная литература, лишенная поучающей функции, лишь допускалась как «безвредная забава». Со второй же половины ХУШ в. художественная литература, независимая от прямых поучений церкви и государства, стала рупором новых идей. Противопоставив религиозно-символическому мышлению средневековья безусловный материализм мироощущения [4], любовная лирика (бывшая всего полстолетия назад чуть ли не под запретом – достаточно вспомнить положение придворного «пиита» Симеона Полоцкого) показала абсурдность третирования любви к женщине как греховного чувства. Благодаря новым литературным приемам и сюжетам в изобразительном искусстве, в общественных умонастроениях появились новые понятия сильных и возвышенных чувств, возбуждаемых женщиной, страстей отнюдь не платонических, рыцарского отношения к «прекрасному полу» [5].
Интимная привязанность к женщине, интимный индивидуальный выбор («дрожь пробежала по жилам моим…») [6] стали все чаще изображаться в литературе и являться действительной причиной желания вступить в брак и его основой впоследствии. «Какое побуждение было нашей любви? – риторически рассуждал "один крестецкий дворянин" (описание судьбы которого оставил А. Н. Радищев), отвечая сам себе: – Взаимное услаждение, услаждение плоти и духа» [7].
Под пером безымянных авторов русских повестей ХVIII в. женщины стали изображаться не только и не столько как порочные соблазнительницы, но как объект поклонения, а к концу столетия и в начале XIX в. – и вовсе как выразительницы прежде всего положительных идеалов (в то время как мужчина воплощал социально типичные недостатки) [8]. Начиная с петровского времени, женские литературные образы становились все объемнее и глубже. Все чаще женщины рисовались побуждающими своих избранников – Василия Корнетского, купца Иоанна, «кавалера Александра» и других – забыть обо всем, кроме «сладкой тирании любви» (В. К. Тредиаковский), переживать ее как «жестокую горячку», говорить с возлюбленными, «встав на коленки» [9]. В. К. Тредиаковский, комментируя замысел написанного им сочинения «Езда в остров любви», отметил, что «отроки» находят «чувствительность и страсть», открывая «их для себя в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, каких очень мало в других местах» [10].
И действительно, многие дворяне, оставившие воспоминания, отметили в них, что обратили внимание на своих будущих спутниц жизни оттого, что те были «милы», «хороши собой», «хорошенькие», «прелестной наружности» [11], а многие дворянки отмечали, что их семейная жизнь была освещена светом особой любви к ним их мужей [12]. Переписка императора Петра I с государыней Екатериной Алексеевной дышит нежностью и отсутствием этикетных условностей. Достаточно красноречивы уже сами обращения Петра к жене: «Катеринушка!», «Друг мой!», «Друг мой сердешнинькой!» и даже «Лапушка» [13]. «Зело желаю вас видеть здесь, – признавался государь, "отписывая" супруге письмо из Амстердама. – Без вас скушнохонка, сама знаешь…» [14] Новые воззрения на чувственную сторону любовных переживаний породили и новое отношение к материальному быту, всему тому, что обеспечивало интимность и удобство [15].
Вспоминая о своей влюбленности в будущую жену и о первых годах совместной жизни, дворянин С. Г. Винский писал, имея в виду события середины века: «Я желал бы с нею быть, хотя непрестанно, ласкать и быть ласкаемому, делать ей все угодное, особенно удовлетворять ее нужды или прихоти…» [16]. Подобное признание (о готовности во имя любви исполнять «прихоти» избранницы, и не любовницы – жены) немыслимо найти в литературе или частной переписке XVII в. Между тем в конце XVIII, а тем более в начале XIX в. подобное отношение к жене, которую муж «любил безумно», «обожал», «баловал, сколько мог», «любил страстно», – перестало быть исключительным: все эти глаголы взяты из мемуаров людей, живших в то время [17]. Женам – а не «милым подругам» вне брака – стали посвящать романсы (как то делал и Г. Р. Державин, и внук Н. Б. Долгорукой – И. М. Долгорукий) [18]. Наконец, в начале XIX столетия мужья все чаще стали признаваться в своих воспоминаниях в том, что именно жены дали им возможность «вкусить истинное на земле счастие», а в письмах от мужей к женам нормой стала романтизированная нежность: «Целую твои ножки, моя благодетельница… целую тебя сердцем, полным твоими добродетелями…» [19]
Восхищение женщиной, ее красотой и обаянием тесно сплеталось с надеждой на семью, «озвученную» голосами детей. И если вопрос о «нежнейших чувствованиях» к будущей супруге, об интимном влечении к избраннице почти не возникал в непривилегированных сословиях, то рациональные соображения, связанные со способностью женщины к деторождению, были равно понятны и близки и дворянину [20] и крестьянину. Краски нормальной, здоровой чувственности проступают в письмах страстно влюбленного в жену Петра I (Екатерина долгое время не считалась официально признанной женой царя-реформатора, но давно была матерью нескольких детей от него).
В «эпистолиях» к Екатерине Петр, признаваясь в любви к ней, расспрашивал и размышлял главным образом о детях [21]. Способность женщины к деторождению волновала отцов, назидавших сыновьям, что жениться надобно на «здоровых» («первое узаконение – умножить род свой», полагал В. Н. Татищев) [22]. Ту же мысль А. В. Суворов облек в форму афоризма: «Меня родил отец, и я должен родить. Богу не угодно, что не множатся люди» [23]. Мемуаристы, которым довелось в течение долгой жизни быть женатыми не один раз, с равной теплотой вспоминали всех своих жен, очень часто – в связи с детьми [24].
Что касается крестьян, то у них при выборе невесты тем более обращалось внимание на те внешние характеристики девушки, которые свидетельствовали о том, что она сможет родить здоровое потомство («Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую», «На что корова– была бы жена здорова» [25]). В сговорных и иных брачных документах середины XIX в. отразились традиционные крестьянские представления о здоровой невесте: ее высокий рост («есть на что посмотреть») [26] дородность (ассоциировавшаяся с красотой: «большая да толстая»), чистота (белизна, здоровость) кожи («кровь с молоком») [27], подвижность [28]. По словам других корреспондентов РГО, даже «нравственные качества» ценились в невесте все же «после» (!) таких характеристик, как здоровье (сила), способность к работе и приданое. [29]
Таким образом, отнюдь не только эмоционально-сентиментальные мотивы занимали в ту эпоху мечтавших вступить в брак. Это утверждение в равной степени верно и в отношении крестьянского мира и «благородного сословия». Многие (если не большинство) образованных дворян XVIII в., сердце которых «было уже рождено с нежнейшими чувствованиями» (А. Т. Болотов), с легкостью жертвовали ими при трезвых подсчетах доходов будущей жены. «Нежные чувствования», воспитанные русскими и переводными романами и пребыванием в Европе, были не настолько глубоки, чтобы предпочесть любовь к бесприданнице браку с богатой вдовой [30]. Старший современник А. Т. Болотова В. Н. Татищев поучал сына: [31] «Главнейшее в жене – доброе состояние, разум и здравие». Оправдывая свой рациональный выбор и весьма прагматический подход к брачным делам, дворянин М. В. Данилов резонерствовал: «Красавиц выбирают только в полубовниц, а жена должна быть добродетельна» [32]. Оправдать надежды жениха, таким образом, могла лишь та претендентка на звание составившей семейное счастие, которая [32] могла стать «отличной матерью», «доброй женою» и «поистине добродетельной женщиной» (этот перечень характеристик, и обычно именно в такой последовательности, встречается и в «женских» мемуарах) [33]. Идеал «добродетельной» жены ясно вырисовывается по дворянским дневникам, письмам и мемуарам. Это – женщина из семьи среднего достатка и средней красоты. На красивую жену, если верить тому же М. В. Данилову, стали бы заглядываться другие, а от безобразной и сам муж сбежал бы к «лепшей». Родители учили детей находить таких жен, с которыми можно «в веселии век свой провести», а для того искать в женах «доброе свойство» – источник «немалой пользы».
Старый идеал «тихой, кроткой», к тому же (желательно) и «недурной собою» [34] жены-полурабыни стал стремительно вытесняться на протяжении XVIII столетия новым. Лишь по-доброму консервативная народная мудрость уповала на существование идеальных жен – ангелов во плоти [35]. Дворяне же, выбирая себе спутниц жизни, все чаще стали искать в женах не столько подчинения [36], сколько умения понять и проникнуться их помыслами, поддержать советом в трудную минуту – то есть быть другом. «Главнейшее мое желание состояло в том, – признавался Андрей Болотов, – чтобы через женитьбу нажить себе такого товарища, с которым мог бы я разделять все свои душевные чувствования, радости и утехи, заботы и попечения…» Его современник Г. Р. Державин, описывая свою женитьбу, подчеркивал, что посватался к «девушке не без ума и не без ловкости, приятной в обращении», но главное – понравившейся ему «по здравому рассуждению» [37]. Впоследствии друзья семьи Державиных вспоминали, что супруга поэта «с живейшим участием принимала к сердцу все, что ни относилось до его благосостояния: авторская слава его, успехи, неудовольствия по службе были будто ее собственные…» [38].
Вторая жена Г. Р. Державина, Д. А. Дьякова, отличалась от первой тем, что ее «появление уже издали выводило ленивых из бездействия»: ее супруг, по его собственному признанию, «хозяйством не занимался», так что вопрос о материальном благосостоянии семьи целиком зависел от умений и деловой хватки жены [39]. Практичность женщины, ее умение и желание хозяйствовать нередко оказывались фактором, привлекавшим мужчин, искавших в женах опору в делах «домашней экономики» [40]. Именно таким – «лучшим советником по кабинетским занятиям», «достойною подругою», «душою вечерних бесед в кругу друзей и знакомцев», и в то же время умницей, умеющей «облегчить мужа во всех заботах по хозяйству», стала для старшего современника Г. Р. Державина, поэта М. М. Хераскова, его жена Елизавета Васильевна [41]. О ней буквально все знакомые их семьи вспоминали как о необычайно «доброй, умной, любезной» [42], «ласковой»; [43] супруг ценил в ней еще и рачительность. В крестьянской среде хозяйственные навыки невесты («работящесть», «способность к работе») стояли – наряду со здоровьем – на первом месте [44].
По-новому – в связи с изменившимся отношением к роли жены в браке – смотрели подчас российские дворяне XVIII – начала XIX в. и на соотношение жизненных ценностей. «Еще в стенах кадетского корпуса… не мечтал я ни о славе, ни о богатстве, ни о почестях, – признавался на страницах воспоминаний С. Н. Глинка, – а мечтал просто о жизни семейной… мечтал о подруге и в мыслях говорил и себе и ей: "Пускай и свет забудет нас, я тем благополучней буду…"» [45]
Значили ли подобные признания российских помещиков, что наступили «новые времена» и, следовательно, дело шло к признанию значимости частной сферы жизни и равенства супругов в семье? Анализ мемуаров дает отрицательный ответ. Сравнивая свою семейную жизнь со взаимоотношениями супругов «в старомодных сельских (то есть крестьянских. – Н. П.) семьях», мемуаристы XVIII в. порой замечали, что «сколько у них излишества, столько у нас (дворян. – Н. П.) недостатка в соразмерности власти мужей и подчинения жен» [46]. И не случайно, что в большинстве мемуаров мужчин имена их жен упоминаются редко, лишь в связи с сообщением о женитьбе. Защитников женщин было в тот «просвещенный век» гораздо меньше, нежели приверженцев старого быта. Всякий новый шаг к большей свободе женщин в семье и обществе рассматривался как «повреждение нравов». Эта идеология укреплялась даже светской литературой. «Уничтожая подчинение жены, уничтожается и сожитие мирное и приятное, – писал историк И. Н. Болтин, оценивая семейные "модели" столичной знати и по-своему откликаясь на галантно-романтические веяния нового времени. – Хотеть зделать мужа и жену равными есть противоборствие порядку и природе, есть буйство, безличие, безобразие». Рассуждая о современных ему домашних нравах, И. Н. Болтин признавал тем не менее, что в некоторых «редких» семьях (причем семьях «благородных») «жена ровна мужу… ему товарыщ». Однако в большинстве домов столичного дворянства он видел одну ту же картину: «Жена мужу не подвластна, не подчинена, живет по своей воле», она – «владычица, начальница, а муж не что иное как первейший из ее рабов». Отвратительное новшество, по его мнению, не дошло лишь до провинциальных дворян, купцов и мещан (не говоря уже о крестьянах), в среде которых, как он думал, «еще несколько умеренности хранится» [47].
Сохранению старых взглядов на распределение семейных ролей и на отношение к женщине способствовали «народные картинки», лубки с сюжетами о злых и добрых женах. Общий смысл их мало разнился со старыми представлениями о месте женщины в семье и обществе. Находиться под каблуком у жены, доказывали лубки, равно позорно и царю и простолюдину. Правда, злые жены на лубках XVIII в. стали изображаться как презревшие народные обычаи разряженные дамы в платье иноземного образца («модном») [48], бессовестно командующие мужьями. Последние для пущей наглядности рисовались опутанными цепями (символ рабства). Нередко в углу таких картинок можно было заметить фигурку зайца (символ трусости, подобострастия – в данном случае мужа перед женою) [49]. «Нестроение» в доме злой жены изображалось как беспорядок в посуде и вещах, как пьянство мужа, заливающего горе водкой и льющего слезы. Наконец, безнравственность поведения непокорной супруги демонстрировали фривольные шутки по поводу ее неверности и любовных похождений [50].
Не вызывает сомнений то, что и авторами подписей, и художниками, работавшими над изобразительным рядом лубочных картинок, были мужчины. «Народные картинки» отобразили, таким образом, не народный, а именно мужской взгляд на проблему места и роли женщины в семье и обществе, существовавший в XVIII – начале XIX в.
Как относились к подобным высказываниям мужчин сами женщины? Стремились ли они доказать свою «самость» – по крайней мере в отношениях с мужьями? Были ли для них, в том числе женщин-дворянок, оставивших документы личного происхождения (дневники, мемуары, переписку), характерны такие же мотивы вступления в брак, что и для мужчин? Могли ли они в перспективе улучшить – через замужество – свое материальное положение, повысить социальный статус? Насколько они сами были поглощены «нежнейшими чувствованиями»?
Мотивация, стремления, эмоциональный строй молодых и юных российских дворянок XVIII – начала XIX в., отразившиеся в их письмах, дневниках, мемуарах, не дают однозначного ответа на поставленные вопросы. Читая строки воспоминаний, написанных женщинами, редко можно найти признания в том, что они были безразличны к вопросу о замужестве, не любили мужей, не были, по крайней мере, к ним привязаны [51]. Выше уже говорилось, что далеко не все невесты-дворянки имели возможность хорошо узнать будущего супруга до свадьбы. В то же время после нее большинство из них считало для себя необходимым (хотя бы в силу традиции) жить по любви, быть рядом с мужьями, какие бы невзгоды ни встречались на их жизненном пути.
Принципиальный пример проявления чувства долга в браке показала кнг. Н. Б. Долгорукая. Решимость разделить судьбу, выпавшую на долю мужей, проявили в том же столетии гр. Е. И. Головкина [52], Е. Е. Комаровская [53], Наталья Лопухина (жена С. В. Лопухина, обвиненного в 1743 г. в государственной измене и сосланного в Сибирь) [54], первая жена Н. В. Басаргина (ставшего впоследствии декабристом) [55], а также героиня одной из глав «Путешествия…» А. Н. Радищева [56] и др. В этой самоотверженности была и дань традиции, и собственные нравственные побуждения. Общественное мнение видело в подобном поведении не столько знак любви, сколько «обреченность своею обязанностью, своею привязанностью к мужу» жертвовать собой во имя долга [57].
Многие девушки, выйдя замуж совсем юными, находили в более старших по возрасту мужьях «наставника и руководителя», «ангела-хранителя» [58] и именно так воспринимали своих благоверных. «Я все в нем имела: и милостивого мужа, и отца, и учителя, и старателя о спасении моем», – признавалась на страницах своих «своеручных записок» Наталья Долгорукова [59]. Так же рассматривала своего первого супруга, известного русского славянофила И. В. Киреевского, и юная А. П. Елагина (она вышла замуж 15-ти лет, а в 24 осталась вдовою) [60]. Любя своих нареченных перед Богом и перед людьми или будучи к ним только привязанными, русские дворянки ожидали от супругов проявления положительных житейских и высоких нравственных качеств и, находя, ценили их [61]. «Матушка много о нем (муже. – Н. П.) говорила с восторженной любовью. По ея рассказам, он был высокого ума, покровитель всего хорошего, отец своих подданных и отличный хозяин», – вспоминала характеристику, данную матерью отцу, кнг. С. В. Мещерская [62]. Таким образом, стремление находиться рядом с умным, честным, внимательным человеком, на которого можно было рассчитывать как на покровителя, желание оказаться под чьим-то «руководством», защитой, было для части молодых барышень целью вступления в брак.
Постепенно признавая «особенность» мира женских чувств, мемуаристы-мужчины все чаще пытались сравнить собственную оценку того или иного явления и отношение к нему их возлюбленных, подруг, жен [63]. Утверждение о том, что женщины могут не только возбуждать сильные эмоции, но и испытывать их сами, причем более тонко и остро, нежели мужчины, с удивлением для себя отметил М. М. Щербатов [64]. В стихах и письмах поэта М. Н. Муравьева впервые прозвучала мысль о том, что женская натура может быть сложнее и глубже мужской в эмоциональном смысле, что женщина может быть «счастлива сердцем» не так, как мужчина, «отвлеченный своим правом и должностями» [65]. Писатели стремились отметить «взаимность горячности, услаждавшей чувства и душу», равным образом нежившую и их самих, и их избранниц [66].
Сами женщины на страницах своих писем, дневников, мемуаров редко признавались в том, как они любили супругов, а в признаниях – если таковые случались – более звучала тема необходимости, нежели всепобеждающего чувства («Я не имела такой привычки, чтоб сегодня любить одного, а завтра другого. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна») [67]. Примечательно, что мужчины, по крайней мере на страницах, не предназначавшихся для обнародования, стали чуть ли не первыми (вслед за романтическими литературными образцами) признаваться в «нежном» отношении к своим женам [68] (этого требовали и нормы этикетного поведения дворянина того времени) [69]. Женщины же демонстрировали скованность, «самоограничение» (это в них порой чувствовали их мужья) [70], самоуглубленность – видимую иногда в живописных портретах [71]. Тем самым женщины высказывали собственную зависимость: отчасти – от условностей, отчасти – от религиозно-нравственных постулатов и веками выработанных традиций. Именно традиция вкупе с православными моральными нормами требовала от женщины такой любви, при которой бы супруг был «один в сердце», когда не могла возникнуть новая любовь. Те же нравственные нормы формировали общественные умонастроения, при которых от женщины ожидалось самопожертвование, готовность быть духовной опорой мужчине, «подкреплять» его (Н. Б. Долгорукова) [72].