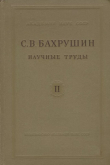Текст книги "Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.)"
Автор книги: Наталья Пушкарева
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Воспитание сдержанности, умения не поддаваться эмоциям, а тем более страсти, по-прежнему во многом определяло содержание женского воспитания. «Публичная искренность этого времени» (Н. М. Карамзин) [73] претила женской душе, более утонченной, нежели мужская. Отношение к чувственной любви как к «любви скотской», «мерзости» (А. Е. Лабзина) [74] было следствием многовекового внедрения православной церковью негативного отношения к неплатоническим проявлениям любви. Мужья, к тому же более старшие, как правило по возрасту, выступали, по воспоминаниям их жен, «просветителями» в делах чувственных («Выкинь из головы предрассудки глупые, которые тебе вкоренены глупыми твоими наставниками. Нет греха в том, чтоб в жизни веселиться! Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное!») [75].
Но еще в начале XIX в. в дворянской среде встречались семьи, в которых жена, руководимая моральными соображениями, то есть будучи «прюдка», как писала мемуаристка (от pruderie – стыд, фр.), «спавши на одной кровати с мужем, укрывалась отдельно от него простынею и одеялом» [76]. Правда, именно в дворянских семьях конца XVIII – начала XIX в. совместное спанье мужа и жены на одной кровати стало считаться «глупой старой модой» (А. Н. Радищев) [77]. Для немногих столичных дам стремление к созданию собственных (отдельных от мужей) спален диктовалось, по словам того же Радищева, «стремлением к украденным утехам» с «полюбовниками». Но для значительного числа дворянок раздельные постели мужа и жены стали символизировать целомудрие, благочестие [78]. В крестьянской среде осуществление подобной «модели поведения» было невозможно ни с практической, ни с моральной стороны. Проявления чувств там были более естественными. В дворянской же среде осознание собственного страха, негативного отношения к физиологической стороне супружества выстраивало непреодолимый нравственный барьер, мешавший женщинам поверять бумаге искренние и естественные чувства. А ведь именно они должны были быть (и иногда, вероятно, были) причиной и основой брака.
Примечательно, что многие дворянки, ведя переписку с отсутствующими мужьями, надеялись на получение от последних не столько объективной информации о положении дел, сколько «добрых ведомостей», успокаивающих слов. Не все, вероятно, могли взять на себя психологическую ношу и разделять все беды своих избранников. «А что пишете, чтоб к вам всегда добрыя ведомости писать, и то я от сердца рад, да какие Бог даст», – оправдывался в одной из таких ситуаций перед супругой государь Петр I [79].
Но было бы, разумеется, наивным полагать, что переживания, далекие от платонических, не возникали в сердцах россиянок. Другой вопрос – об отражении их в дошедших до нас эпистолярных и мемуарных источниках. Мемуаристки ХVIII в. предпочитали писать не о пережитом на собственном опыте, а о чужих влюбленностях и страстях, и лишь в дневниках и письмах 10-х гг. XIX в. степень женской откровенности несколько возросла. Да и мужчины, оставившие мемуары, старались больше фиксировать переживания своих знакомых и родственниц, нежели пускать «чужих» в свой собственный внутренний мир. Г. С. Винский, рассказывая о том, как внезапно вспыхнувшая любовь заставила его сестру поступать «как истинная своевольница, чуждая не только нежных ощущений сердца (жалости к супругу. – Н. П.), (но) даже не повинующаяся и пристойности», внутренне осуждал ее за это, равно как ее житейскую ловкость (она сумела «загнать своего бедного мужа в Чернигов судействовать», а сама, по выражению брата, «закусила удила») [80]. Оттенок осуждения звучал и в описанной графиней Эделинг истории взаимоотношений М. А. Нарышкиной и кн. Гагарина [81], и в рассказе В. Н. Головиной о графине Радзивилл, которая «пренебрегала всеми приличиями по желанию и по влечению» [82].
Мир чувств русской женщины привилегированного сословия формировали в XVm столетии не только традиции и литература, но и образ жизни императорского двора – суматошный, беспорядочный, «светский», – породивший особый социальный тип «модной жены» [83]. Судя по мемуарам лиц, приближенных к российскому императорскому дому, «модные жены» (мужья которых, «как страусы, воспитывали чужих детей») [84] были окружены роем обожателей. Содержание любовниц стало нормой великосветской жизни [85]. Но как ни возмущались резонеры вроде М. М. Щербатова подобным «повреждением нравов», эти изменения общественной морали имели не только отрицательные последствия. Светские львицы, решавшиеся на нестандартное поведение и насмехавшиеся (по словам М. М. Щербатова) «над святостью закона и моральными правилами и благопристойностью» [86], изменяли своим поведением представления о запрещённом и разрешенном, «раскрепощали» область чувств, в том числе чувств супружеских.
Достаточно даже поверхностного чтения воспоминаний, чтобы найти массу примеров исключительной супружеской любви, страстных сердечных порывов, обращенных к законным супругам [87]. Романтическую, захватывающую историю знакомства и брака своих родителей поведала, например, Е. Я. Березина, мать которой, «переодевшись в мужское платье, под видом денщика следовала за полком», в котором служил ее муж. Не допуская и мысли о расставании с любимым супругом хоть на день, она «произвела» дочь «на свет в кругу воинов в 1794 г.» [88].
В документах частной переписки XVIII – начала XIX в. обычным было обращение жен к мужьям без подобострастия, но с любовью, дружественностью, нежностью («Дражайшее сокровище мое!» или «Милый мой друг!», «Премного милый мой друг!», «Дружечик мой сердешнинькой!», «Радость моя!», «Мой свет!») [89]. В то же время есть основания думать, что все эти нежности были элементом ожидаемого от женщин (общепринятого, этикетного) поведения, отчасти выработанного «Письмовниками» [90]. Но в немалой мере они отражали, однако, и реальные чувства [91].
Помимо любви, привязанности и чувства долга, многих женщин рассматриваемого времени – как и мужчин! – привлекала в замужестве возможность сохранить или повысить свой социальный статус и имущественное положение. Только признания в этом – в отличие от «мужских» мемуаров – у женщин были сравнительно редки. Лишь в воспоминаниях графини В. Н. Головиной прямо сказано о том, что в будущем спутнике жизни «его высокое происхождение и богатство заставляли смотреть на него как на завидного жениха» [92]. Иные современницы графини, вероятно, также рационально учитывали этот фактор, но не спешили поделиться подобными переживаниями.
Что же касается «простых людей», то они не читали переводных романов, не пользовались «плодами просвещения» и не оставили «своеручных записок», в которых бы поверили бумаге свои переживания. Письма крестьян и крестьянок друг к другу– нечастая находка [93]. Но как бы ни было трудно судить о духовном мире тех, кто с утра и до вечера работал в поле, на огороде, на промыслах, тем не менее реконструкция их системы жизненных ценностей и приоритетов возможна на основании фольклорных памятников, а также некоторых делопроизводственных и упомянутых выше эпистолярных источников.
В крестьянских умонастроениях значительно сильнее, чем в менталитете дворянства, проявилось отношение к браку (замужеству в особенности) как к неизбежности («суженого на коне не объедешь»), как к ответственному действию («замуж выходи – в оба гляди»), переиначить которое практически невозможно («Женитьба есть – а раз женитьбы нет», «Подруги косу плетут на часок, а сваха на век», «Выйти замуж не напасть, каб за мужем не пропасть») [94]. Поэтому и к чувствам отношение у крестьянок было иное.
«Согласная жизнь… зависима от согласия самой пары и ласковости свекрови», – отмечали наблюдатели русского крестьянского быта Центра России в середине XIX в., добавляя при этом, что «согласие самой пары возможно только при безусловном подчинении жены мужу» [95]. В большинстве случаев так оно и было. Тем интереснее и значительнее факты, свидетельствующие о чувствах глубокой и нежной привязанности между членами семьи: супругами, родителями и детьми, старшими и младшими. Ведь именно они отчасти смягчали и облагораживали, а порой эмоционально окрашивали монотонный, нелегкий повседневный быт. Такие примеры сохранили и пословицы («Полюбится – ум отступится», «Как полюбит девка свата – никому не виновата», «Не мать велела – сама захотела») [96].
Подлинным открытием для русских дворян XVIII в. была высказанная А. Н. Радищевым мысль о том, что крестьяне одарены такими же чувствами, как прочие люди. «Ты меня восхищаешь! Ты уж любить умеешь?!» – удивленно воскликнул он, приведя рассказ одной из крестьянок о ее страсти [97]. Судебно-следственные документы XVIII в. позволяют подтвердить заключение писателя: вопрос о чувствах был весьма остр в крестьянских семьях, ранее ориентировавшихся на поговорку «стерпится – слюбится». В «расспросных речах» по поводу различных драм на семейно-бытовой почве крестьянки нередко признавались в глубоких переживаниях, заставивших их пойти на преступление моральных норм и закона: «любила», «всегда думала о нем», «радоватца желала», «духом моим с ним была» [98].
Редкие находки писем образованных крестьян того времени (как правило, сибирских) позволяют восстановить психологический микроклимат их семей, полный ласки, а не грубости, любви и согласия, а не ссор. «Премноголюбезной и предражайшей моей сожительнице, чести нашей хранительнице, здравия нашего покровительнице, общей нашей угоднице и дома нашего всечестнейшей правительнице Анне Васильевне посылаю поклон и слезное челобитие с чистосердечным к вам почтением…» Так писал в своем письме к жене, жившей в Семипалатинском уезде (1797 г.), богатый сибирский крестьянин Иван Худяков [99]. Жены отвечали отсутствующим супругам той же добротой и нежностью, признавались, что живут в разлуке с «любезными друзьями» и «прыятелями сердешными» – «в невсчастии» [100]. В своих письмах крестьяне, не знакомые с этикетными формулами письмовников, фиксировали действительные чувства, говорили, что, «не стерпя необыкновенной тоски в разлуке» с женами, думали и «помышляли» только о них [101], делились переполняющей их сердца нежностью: «Истопи мне, жена, баню и выпарь меня, малого робенка, у себя на коленях… такова болшова толстова ребенка» [102]. Эти чувства помогали жить: без взаимной доброты и привязанности, которые и женщины испытывали к своим мужьям, повседневность, наполненная тяжелым крестьянским трудом, была бы еще более нелегкой.
Разумеется, в разных семьях отношения между женами и мужьями складывались по-разному. Это утверждение верно для всех сословий тогдашнего русского общества, в том числе «благородного». Иной вопрос – о том, насколько велика была вероятность фиксации различных семейных конфликтов в документах (если, конечно, это были не судебные иски). В памятниках личного происхождения (в том числе письмах) описаний семейных конфликтов почти нет. Традиция «не выносить сора из избы» действовала сильнее формальных запретов [103]. Поэтому даже в воспоминаниях тех женщин, которые жили не в ладах со своими мужьями, редко можно найти конкретные указания на обстоятельства и мотивацию конфликтов. «Прасковья Ивановна постановила неизменным правилом не допускать до себя никаких рассуждений о своем муже», – отмечал об одной своей родственнице С. Т. Аксаков, объясняя ее скрытность в отношении жестокостей мужа [104]. И в мемуарах самих женщин подобных объяснений не найти. Даже выросшие дети, вспоминая о раздорах между родителями, подчас не могли определить их причины. «Мы часто плакали от неприятностей, происходивших между родителями… Кто из них был прав, кто виноват – в нашу юность определить не хватало разума», – вспоминал Н. И. Цылов, описывая детские впечатления начала 10-х гг. XIX в. С высоты возраста и жизненного опыта он предположил ниже, что причиной ссор и последовавшего разрыва родителей была ревность матери к отцу, который «по красоте своей и силе очень нравился женскому полу» [105].
Ревность как естественное и часто наблюдаемое чувство, как оборотная сторона страсти, вызываемой женщиной, стала все чаще становиться предметом размышлений современников, чаще всего– писателей. Ревнивые переживания, зафиксированные перепиской высших особ царского семейства [106], были очень знакомы и другим сословиям. Англичанка М. Вильмот, проживавшая в доме кнг. Е. Р. Дашковой, испытала буквально шок, когда на нее налетела «в невероятном исступлении женщина (по одежде – крепостная)», «яростно сжимая кулаки, как бы собираясь драться»: крепостной почудилось, что ее муж (тоже крепостной!) неравнодушен к заезжей гостье, и потому действовала в забытьи, будучи «возбуждена ревностью» [107]. «О ревность, ревность, порок несчастный! – восклицал некий Н. И. Цылов, ребенком настрадавшийся от сцен ревности (он называл юс "диалогами"), которые его мать устраивала отцу. – Люди женатые, будьте сниходительны друг к другу! Вы делаетесь причиной разрушения семейного счастия и погибели детей ваших» [108]. Купец Н. Вишняков, размышляя над отношениями своих родителей и называя ревность «неразлучной спутницей» любви, «отравившей» жизнь его матери, полагал, что боль и муки ревности – «плод житейских разочарований, подозрительности и недоверчивости к людям», которые были воспитаны в его отце торговой профессией [109].
Информацию о мотивации межсупружеских конфликтов современный исследователь может (да и то с трудом) получить лишь косвенно – из описаний женщинами семейной жизни соседей, подруг или родственниц. «…В доме она делала все, что хотела, – вспоминала, например, С. В. Скалой о жене соседа по имению, Д. П. Трощинского. – Будучи обворожительной кокеткой, она в то же время до того измучила своего мужа ревностью, что наконец они совсем рассорились, и князь, несмотря на любовь тестя и двух детей, должен был расстаться с ними и уехать из дому навсегда» [110]. О «несходстве характеров» и психологической непереносимости супругами друг друга как причине раздоров и ссор в семье упоминали многие мемуаристы [111].
Вряд ли семейные конфликты, если они возникали, разрешались в то время одной только силой убеждения – об этом свидетельствуют дела, разбиравшиеся Сенатом и особенно Синодом, в первую очередь бракоразводные. Так, в 1731 г. жена бригадира Дмитрия Порецкого обратилась с жалобами на мужа, который, по ее словам, бил ее, оставлял без пищи, не допускал духовника [112]. Другая «бригадирша», Мария Потемкина, жаловалась четверть века спустя, что муж бьет ее, «нимало не смотря» на возраст – 70 лет, и просила поскорее развести [113]. Однако оба дела оставили без внимания. В одном из дел середины XVIII в. истицей была княгиня, которую – от побоев и жестокого обращения мужа – пытался защитить ее брат [114]. И вновь никакого решения принято не было. В 1741 г. некая Федосья Саламанова, жена поручика морского флота, пожаловалась в Синод на то, что муж ее бил, а затем выгнал из дома. Синод вынес несколько странное решение: разлучить и осудить на безбрачие супруга, если не пожелают помириться [115].
В воспоминаниях С. В. Скалой, повествующих о провинциальном российском быте конца XVIII в., упомянута семья ее дяди, Н. В. Скалой, который, по словам мемуаристки, «был большим деспотом». Описывая часто виденные ею «случаи жестокого обращения» дяди с женою, наш автор с ужасом отмечал: «За малейший беспорядок в доме, за дурно изготовленное блюдо он не только бранил ее самыми гнусными словами, но иногда… бил в присутствии всех». Резюмируя последствия подобного недостойного поведения, С. В. Скалой писала, что жестокость мужа по отношению к жене родила неуважение детей к матери, в том числе дочек, которые «впоследствии наносили ей страшные оскорбления» [116]. О битье жен в семьях представителей «благородного сословия» упоминали и другие мемуаристы [117]. Ослушание жены мужу в доме Аксаковых, например, обернулось тем, что «у бабушки не стало косы, и она целый год ходила с пластырем на голове» [118].
В целом же «благородные» предпочитали худо-бедно следовать Уставу Благочиния, принятому в 1782 г. Он призывал, в частности, помнить нормы, постулированные еще Новым Заветом. «Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, – говорилось в Уставе, – уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляя ей пропитание и содержание по состоянию и возможности хозяина». От жены ожидалось иное – покорность, терпение, пребывание «в любви, почтении и послушании к своему мужу…» [119]. В отличие от «благородных», местные власти не реагировали на жалобы крестьянок с требованием образумить избивавших их мужей. Информаторы РГО сообщали в середине XIX в., что «деревенские смотрели на расправу как на обыкновенное явление: "Свой муж, что хотит – то и воротит» [120], "Сколочена посуда два века живет"» [121]. Но дело принимало иной оборот, если в качестве истицы в суде выступала не сама избитая, а ее мать: зятья в семьях должны были быть «у тести и тещи в полном повиновении и послушании» [122], и когда тещи замечали обратное, да еще усугубленное побоями их дочерей, – то весьма успешно добивались наказания зятьев (от 15 до 20 розог) [123]. Не случайна бытовавшая в крестьянском быту поговорка: «Был у тещи – да рад, утекши!» [124].
Среди «простецов», малообразованных мещан, купцов ситуации семейных конфликтов были более многочисленны, а сами они более жестоки. «Женский быт – всегда он бит!» – резюмировала пословица [125]. «Жены давились, топились и резались от жестокости мужей, – негодовал протоиерей Д. Беликов, описывая крестьянский семейный быт XVIII–XIX столетий. – Не менее свирепо поступали с мужьями и женщины…» [126] Практически во всех делах о семейных конфликтах в непривилегированных сословиях фигурировала «плеть» (которой крестьянин «наказывал недушевредно»), а зачастую и нож. Часты упоминания о том, что в разгар ссоры муж таскал жену за волосы, «топтал ногами» [127]. Женщины отвечали на насилие, как могли: подавали прошения о разводе, решались на убийства и самоубийства, а чаще отвечали на побои побоями же. На Иртыше в середине XIX в. была записана поговорка: «Жена мужа бьет – не на худо учит»; [128] в центре России бытовали схожие: «Жена мужа не бьет– под свой норов ведет», «Бранит жена мужа, а бить его не нужа» [129]. И все же грубый и откровенный произвол во внутрисемейных отношениях крестьян был не нормой, а исключением, а в «мире чувств» русской крестьянки преобладали не злоба и ненависть, а мир и лад.
Огромную роль в укреплении и одухотворении семьи – дворянской, купеческой и крестьянской– играли дети. «На бездетных смотрят с сожалением», – констатировал корреспондент Русского географического общества в середине XIX в. [130]. В его словах отразилось и его собственное отношение к предмету, и воззрения на него русского общества в целом.
III
«ЧЕГО НЕ ВЫНЕСЕТ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ!»
Материнство и материнское воспитание в российских семьях
Даже при беглом чтении документов личного происхождения – писем, дневников, мемуаров XVIII – начала XIX в. – у исследователя складывается неоспоримое убеждение в том, что именно рождение и воспитание детей было содержанием жизни любой женщины, от статс-дамы Е. Р. Дашковой до безвестной сибирской крестьянки.
Западноевропейские веяния начала XVIII в., ориентировавшие женщин на светский образ жизни, при котором семья, хозяйство, воспитание детей оказывались как бы на втором плане, по сравнению с участием в балах, празднествах и танцах, не могли укорениться во всех сословиях. Они «задели» лишь верхушечный слой столичных дам [1], да и то не всех. Женщин, имевших возможность подражать образу жизни императриц и их окружению, было ничтожно мало.
Наполненные духом романтизма и Просвещения 70-е гг. XVIII в. принесли к тому же дыхание особого отношения к материнству. После сочинений Ж.-Ж. Руссо во всей Европе в образованных кругах стало принятым стремиться к природе, «естественности» нравов и поведения. Идеи эти оказали прямое влияние на семью. Кормить детей грудью стало признаком нравственности, чертой хорошей матери [2]. Считавшие себя просвещенными матери стали внимательнее относиться к личности ребенка [3].
Эти идеи очень быстро и легко привились в дворянском, «благородном» сословии России, так как совпали с национальной традицией высокой ценности материнства. Источники личного происхождения второй половины XVIII – начала XIX в. дают убедительные доказательства того, что материнство оставалось для абсолютного большинства женщин ценностью вне моды и времени. Именно перспектива материнства, понимаемого как трудно выразимая на словах, но принимаемая сердцем обязанность рожать и воспитывать детей [4], в наибольшей степени (по сравнению с иными – в том числе эмоциональными – мотивами) заставляла девушек относиться к замужеству как к самому значительному, переломному (лиминальному) рубежу, с которого начиналась новая жизненная фаза.
Мемуары, письма, дневники, написанные представительницами дворянского сословия рассматриваемого времени, не позволили выявить в этой социальной страте ни одного случая добрачной беременности и рождения ребенка до замужества. Вполне вероятно, что такие случаи были, но остались – по этическим мотивам – незафиксированными. В сельской же среде рождение добрачных детей (их называли крапивниками) [5] редкостью не являлось. Одна из пословиц ХVIII в. даже подтрунивала над незадачливыми ухажерами, боявшимися доводить легкий флирт до интимных отношений: «Страх причины – не задирай дивчины!» [6] К середине XIX в. были зафиксированы уже «частые случаи» выхода замуж с добрачным ребенком [7]. Что касается непривилегированной части населения городов, то согласно петровским «артикулам» (1708 и 1720 гг.) в случае «прижитая» ребенка до венчания предписывалось не «принуждать к женитьбе» мужчину и венчать (лишь «если захотят обе стороны»). Тем не менее виновный в растлении обязывался законом дать определенную сумму денег «для содержания матери и младенца». Размер суммы определялся состоянием отца ребенка. Отказ от выплаты алиментов тому, кто «о супружестве обещал, а потом бросил», – карался наказанием плетьми и тюрьмой [8]. Среди дворян представление о «позорносги» наживания детей до брака укрепилось, таким образом, прочнее, но, разумеется, в разных семьях бывало всякое.
Мемуары и дневники российских дворянок, равно как их письма ХVIII – начала XIX в., не дают ответа на вопрос о том, как относились их авторы к трудному периоду вынашивания детей. Меж тем в источниках личного происхождения отмечено, что, если беременная была «беспрестанно больна душой и телом», ребенок мог родиться «худеньким и слабеньким» [9]. Скупые описания переживаний, связанных с беременностью и родами, можно найти в воспоминаниях В. Н. Головиной, Е. Р. Дашковой, мемуарах Н. И. Цылова и С. Т. Аксакова [10]. Родовспоможение, как и вся медицина вообще, были в тот «просвещенный» век на весьма низком уровне [11]. Даже в дворянских семьях женщины верили подчас старинной примете: «если роды будут в доме всем известны – то они будут тяжелыми», а потому не спешили звать повитух и лекарей, даже когда начинались схватки [12]. О «странном» (для иностранца) обычае дарить родильнице червонец, «не то непременно умрет или мать, или дитя», упомянула, рассказывая о родах в дворянской семье, англичанка леди Рондо [13]. Крестьянские поверья, касающиеся родов, причудливым образом соединяли мудрую наблюдательность и откровенное знахарство [14], а обычаи, связанные с «родинами», по-детски наивно воспроизводили тяжесть этой «женской работы» [15]. В деревнях к родам относились по-будничному: «Жену слушать, что больно родит, – так на свете и людем не быть» [16].
Успешность или тяжелые последствия каждых родов даже в дворянских семьях были непредсказуемыми. А. Н. Радищев упомянул о смертях рожениц и уродствах детей, вызванных ношением женщинами корсетов [17]. Многие юные дворянки, проживавшие в холодном и сыром Петербурге, умирали после благополучных родов от «припатков (осложнений. – Н. П.) натуралной сей болезни» (то есть сами роды рассматривались как «натуралная болезнь») [18], а также от травм и даже обычных простуд [19]. В провинции опасность смерти после родов была еще более высока [20], причем это в равной степени касалось и дворянок [21] и простолюдинок [22]. В России, писал М. В. Ломоносов, «молодых более умирает, нежели кои старее, так что едва сороковый человек до 30 лет доживает» [23].
Практически во всех мемуарах рассматриваемого времени, как в «мужских», так и в «женских», говорилось – как о будничном явлении! – о тяжелых детских болезнях и ранних смертях детей. Крестьянки, по словам информаторов середины XIX в., даже надеялись, «може не будут жить»: так тяжело было бремя частых родов и многодетности и так ожидаема смерть. «По сто тысяч младенцев не свыше трех лет» – такой высчитал ежегодную смертность М. В. Ломоносов, отметивший, что матерей, «кои до 10, а то и до 16 детей родили, а в живых ни единого не осталось», было немало [24]. Поразительно высокая детская смертность сохранялась в семьях буквально всех сословий ХVIII в. Жена дворянина Андрея Болотова была четырнадцатилетней, когда умер их полугодовалый первенец. Смерть сына она восприняла как неизбежность и лишь надеялась, что новая беременность сможет помочь «забыть сие несчастие, буде се несчастьем назвать можно» [25]. В семье Ивана Толченова, автора «Журнала или записки жизни и приключений» (конец XVIII в.), из девятерых детей вскоре после рождения умерли семь [26].
При трагическом исходе (смерти роженицы) вдовец старался возможно быстрее жениться вновь [27], иногда даже «когда не исполнилась и година» [28]. В крестьянском быту «вдовствовали исключительно старики, всех же остальных заставляли (выделено мною. – Н. П.) вступать в новый брак»[29]. Так же поступали – когда из рациональных, а когда и из эмоциональных соображений – и оставшиеся вдовыми молодые матери, если неожиданно умирал отец ребенка [30]. Тем не менее фольклор зафиксировал приоритет наличия именно матери у ребенка: «Отца нет – полсироты, матери нет – круглый сирота!» [31].
Болезни и скоропостижные смерти рожениц были причиной того, что восприемницами, а затем воспитательницами детей часто бывали старшие сестры [32] или тетки (сестры матерей) [33] новорожденных. Вероятно, именно этот фактор и сыграл решающую роль в сохранении и умножении обрядов и ритуалов, связанных с крестинами. С одной стороны, они свидетельствовали об укоренении православных идей, с другой – о слиянии православной обрядности с народной. Опасение умереть непредвиденно рано, преждевременно, заставляло родителей брать в крестные матери своим детям совсем юных девочек, зачастую – старших сестер [34], которые и перенимали на себя ответственность за воспитание крестниц в случае сиротства [35].
Бывали случаи удивительные. По воспоминаниям М. С. Николевой, родившейся в начале XIX в., ее бабушка, жена коменданта г. Нерчинска Я. И. Еремеева, умерла в родах, следом умер отец новорожденной, а девочку (мать мемуаристки) вскормил и воспитал денщик отца, «подкладывая ее к козе». Девочку он берег, как мог, пока не пристроил в дом некой А. А. Никелевой, жены губернатора г. Тобольска, воспитавшей сироту наравне с родными детьми [36]. Поступок «доброй и умной женщины», как охарактеризовала губернаторшу мемуаристка, был типичен для дворянок, того времени. Сплошь и рядом в более зажиточных и знатных семьях воспитывались и дети бедных (а иногда и отнюдь не бедных!) родственников [37], а то и вовсе посторонних людей [38]. В крестьянских семьях матери «по охоте», как тогда говорили, брали в семью подкидышей [39]. Мотивы подобных поступков (передачи ребенка на воспитание из одной семьи в другую) были иногда – морально-педагогические, в иных случаях – житейские, бытовые (здоровье ребенку было легче сохранить в семье, «под присмотром») [40].
Чаще, разумеется, ребенок рос в родной семье. При этом многие дворянки признавались в своих мемуарах, с недоумением и досадой, что их рождению не радовались – оттого только, что они не были мальчиками-первенцами (которым, кстати, в крестьянской среде нередко давали имя «Ждан» [41] и называли «соколятами»: «Первые детки – соколятки, последние – воронятки») [42]. Е. Ф. Комаровский записал в своих мемуарах о рождении первого сына: «28 мая 1803 года… Бог мне даровал перваго сына графа Егора Евграфовича». И продолжал ниже: «О рождении прочих моих детей записано в святцах, и потому поминать здесь о том я нахожу излишним…» [43] Примерно так же рассуждал и Иван Толченое, отметивший в своем «Журнале» день, когда он был «обрадован благополучным разрешением от бремени Анны Алексеевны. Родился сын» (на 9-м году после бракосочетания) [44]. О других детях мемуарист и упоминать не стал. «Дочери! Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому», – рассуждал дед Сергея Аксакова, демонстрируя устойчивость старых, народно-традиционных воззрений на дочерей и сыновей, которые в дворянской среде, казалось бы, должны были быть давно уже вытеснены новыми «чувствованиями» [45].
В возрасте между 30-ю и 40-а годами [46] дворянки рожали весьма часто, но такие роды у них были, как правило, не первыми и потому часто протекали с осложнениями [47]. В немолодом возрасте женщины смотрели на рождение новых детей как на тягость, на неизбежное зло. «Родители мои не чувствовали радости при моем появлении на свет, какую обыкновенно чувствуют при рождении первенцев, – признавалась на страницах своих воспоминаний некая А. Щ. – Они смотрели на меня как на новую обузу, которая свалилась им на шею…» [48]. С тем же чувством начинала свои мемуары и одна из первых выпускниц Института благородных девиц при Смольном монастыре – Г. И. Ржевская. С горечью констатировав «нерадостность» события своего рождения для родителей, она привела рассказ о нем одного из родственников: «Огорченная мать не могла выносить присутствия своего бедного 19-го ребенка и удалила с глаз мою колыбель… О моем рождении – грустном происшествии – запрещено было разглашать… По прошествии года с трудом уговорили мать взглянуть на меня…» [49].
Что же говорить о крестьянских семьях! «Каб вы, деточки, часто сеялись, да редко всходили!» – горестно восклицали матери-крестьянки [50] (и тем не менее приговаривали: «Много бывает – а лишних не бывает») [51]. По словам аббата Шаппа, побывавшего в России в Екатерининскую эпоху и общавшегося с императрицей, в среде крепостного крестьянства безразличие к детям объяснялось тем, что «сии плоды законной любви» могли быть «похищены» у родителей в любую минуту хозяином-душевладельцем [52]. Теневыми сторонами крестьянского быта, невозможностью прокормить большое число детей объяснялись случаи их заклада и продажи («А буде я, Василей, на тот срок денег не заплачю, волно ему, Андрею, той моей дочерью Овдотьей владеть и на сторону продать и заложить…») [53]. Однако среди найденных нами закладных на детей XVIII – начала XIX в. не встретилось ни одной написанной матерью: все – по инициативе и решению отцов [54].