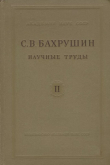Текст книги "Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.)"
Автор книги: Наталья Пушкарева
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Семь веков истории России допетровского времени вместили в себя такое уникальное для европейской истории явление, как теремное затворничество знатных женщин XVI–XVII вв. Оно оказало, разумеется, немалое влияние на строй их частной жизни. Лишив возможности активно самореализовываться вне дома, затворничество в теремах требовало от тех, кто оказался в зависимости от этой превратившейся в традицию новации, поиска иных сфер применения своего творчества. Одной из таких сфер, как обнаружили иконографические памятники, стало создание золото-ткацких произведений.
Однако даже строгие рамки неписаных законов и традиции теремного уединения московиток XVI–XVII вв., как то заметно по документальным, эпистолярным и литературным источникам, могли быть нарушены. Главным мотивом подобных нарушений служили личные, индивидуальные интенции «женских личностей», готовых – по разным причинам (любовь, страх осуждения за нарушение запрета, желание освободиться от опеки родственников) – сломать рамки постулированных норм. Кроме того, «теремное затворничество» коснулось лишь узкого слоя московской (столичной) аристократии, а устройство женского терема в других сословиях оказывалось практически невозможным.
«Повседневность» обычной московской горожанки, а тем более крестьянки, как раннего времени, так и XVI – ХУЛ вв., была наполнена постоянным ее общением с соседями и «подружьями» – во время работы и на досуге. Никакие попытки церкви ограничить сферу женского общения, особенно во время осуждаемых церковью пиров и шумных празднований, не могли искоренить стремления женщин приобщаться таким образом к социальной жизни. Женские пиры и женское пьянство, помимо функции социализации, являлись своеобразным компенсаторным механизмом, способом ухода от беспросветной тяжести жизни, повседневных тревог и забот, создававших в душах женщин «очаги» постоянного беспокойства за судьбы близких, прежде всего – детей.
III
«МИЛОСТЬ СВОЮ МАТЕРИ ПОКАЖИ, НЕ ЗАБУДЬ…»
Семейный аспект, частной жизни женщины: материнство и воспитание детей.
Многочадие в допетровской Руси выступало как категория «общественной необходимости»: только оно могло обеспечить сохранение и приумножение фамильной собственности, только оно гарантировало воспроизводство: многочисленные болезни и моровые поветрия уносили десятки тысяч жизней. Поэтому и православная церковь на протяжении веков [1] упорно формировала идеал женщины – многодетной [2] матери. Вне сомнения, подобное упорство сказалось и на складывании определенного отношения к женщине в обществе, на представлениях о границах ее возможной самореализации, о ее «предназначении».
Духовная жизнь раннего русского средневековья (X – ХIII вв.) отмечена сосуществованием двух традиций – светской и церковной [3]. В отношении материнства и материнского воспитания светская («народная») традиция, опиравшаяся на обычное право, отражала выработанную поколениями систему отношений между родителями и детьми, старшими и младшими. Церковная («православная») традиция брала начало в христианской этике и отличалась стремлением внедрить в сознание прихожан постулаты «праведного», с точки зрения православных идеологов, отношения матерей к детям и детей к матери.
Первая традиция, удачно названная американским «историком детства» Д. Херлихи «традицией любящего небрежения» [4], была достаточно типична для раннесредневековых обществ. В Древней Руси она нашла отражение в сборниках епитимий и покаянных вопросов, связанных с наказаниями за такие преступления как инфантицид, заклад и залог детей. О фактической же распространенности их в указанное время нет данных [5]. Картины частной жизни семей «простецов» X – ХШ вв. составляются из известных по епитимииникам случаев удушения младенцев в общей постели, их убийств по небрежению родителей. Они могут служить определенным доказательством того, что в Древней Руси ребенка «берегли», но «берегли недостаточно», а дети в доме «одновременно как бы и присутствовали, и отсутствовали» [6]. К тому же они рисуют не слишком привлекательный, с современной точки зрения, образ матери того времени.
Некоторое представление об отношении к материнству в X–XIII вв. дает ранняя иконография Рождества Богородицы и вообще всех изображений Мадонны с младенцем. С точки зрения отображения в ней материнской любви, эта традиция весьма сдержанна: в иконах и фресках домонгольского времени не найти умиления по отношению к ребенку. Детей в русской иконописи принято было изображать как маленьких взрослых, со строгими, недетскими, невеселыми ликами. Составители правовых кодексов относились к ним без особого снисхождения и скидок на возраст: в нормативных памятниках Древней Руси нет никаких особых (более легких) наказаний за совершение проступков несовершеннолетними [7].
Отношение к детям в простых семьях было обусловлено обстоятельствами отнюдь не личностными: лишний рот в семье был для многих непосильной обузой [8]. В пословицах о детях, записанных в допетровское время, отразилось двойственное отношение к ним, в том числе, вероятно, и матерей: «С ними горе, а без них вдвое» – и в то же время обратное: «Без них горе, а с ними вдвое» или «Бог дал, Бог взял». В некоторых русских колыбельных песнях XIX в. (корнями уходящих в давние времена), присутствовало даже пожелание смерти ребенку, если он был рожден «на горе» родителям. Этот мотив можно найти чуть ли не в 5 % общего числа колыбельных [9]. Те же причины лежали в основе различного отношения в семьях к сыновьям (как к желаемым «гостям») и дочерям (как к нежелаемым). В древнейших текстах назидательного сборника «Пчела», бытовавшего в различных вариантах в XI–XVIII вв., встречается афоризм «Дъчи отцю – чуже стяжанье» (примечательно, что дочь рассматривается здесь как «чужое сокровище» одного лишь отца, не матери). У В. И. Даля этот афоризм звучит так: «Дочь – чужое сокровище» («Сын домашний гость – а дочь в люди пойдет»).
Приведенные примеры говорят о возникновении традиции патрилокальности еще в домонгольское время и в то же время косвенно свидетельствуют о предпочтении, отдаваемом издавна сыновьям перед дочерьми. В тех же дидактических текстах, но XIII–XIV вв., можно встретить уже иную, личностно-эмоциональную мотивацию любви и предпочтения отцов и матерей к сыновьям и дочкам, сильно отличающуюся от текстов домонгольского времени: «Матери боле любят сыны, яко же могут помагати им, а отци – дщерь, зане потребуют помощи от отец» [10]. Герменевтика этого текста заставляет сделать вывод о различии жизненных позиций отца и матери в семье: мать искала в ней защиту (в лице сына), а отец – нуждавшихся в защите (дочь). По-видимому, однако, отнюдь не личностные, а именно экономические причины рождали «власть родителей над детьми» в раннесредневековой Руси. Вопрос лишь в том, переходила ли она во всех семьях в тот «слепой деспотизм без нравственной силы», о котором писал когда-то Н. И. Костомаров, а вслед за ним нынешние западные исследователи «истории детства» в России? [11].
Анализ нарративных и фольклорных памятников позволяет утверждать, что подобный вывод был бы несколько поспешным. Тенденции «небрежения» детей, особенно девочек, в средневековой Руси постоянно (с X в.) противодействовала воспитательная работа «отцов духовных», стремившихся утвердить среди прихожан идеалы христианской нравственности, внедрить идеалы «благочестивого родительства», материнской любви, категорически запретить любые попытки матерей избавляться от детей – как с помощью контрацепции, так и путем откровенного убийства.
Попадание на страницы епитимийных сборников целого списка вопросов и наказаний детоубийцам и «женкам, еже в утробе имеют, а родити не хочут», – говорит как о сравнительной распространенности таких случаев, так и о предосудительности подобного поведения с точки зрения церковной морали. Легко представить себе, как измученные частыми родами женщины вставали перед дилеммой – рожать или не рожать очередное «чадо» и, приняв отрицательное решение, обращались с просьбами «отъять плод» к знахаркам. Именно они знали различные «зелья», от которых женщина могла «извергнуть» при небольших сроках беременности, лечебники же – даже поздние – не упоминают их составов, вероятно, «секреты» такого рода передавались изустно [12]. За сугубо интимным решением женщин постоянно и весьма пристрастно наблюдал глаз «отца духовного», каравшего за все, что «чрез естьства совершено быша», как за детоубийство («аще зарод еще» – 5 лет епитимьи, «аще образ есть» – 7 лет, «аще живое» – 15 лет поста и покаяний). Тем не менее частота упоминаний об абортах и «извержениях» говорит о том, что интимная сторона жизни женщин того времени более регулировалась ими самими, нежели церковными деятелями [13]. Аборт и в петровское время был главным средством регулирования рождаемости. Исповедники подробно выспрашивали у прихожанок, «[с]колико убили в собе детей» [14], выполняя тем самым роль медиатора между частной жизнью индивида и интересами государственного значения.
Об отношении мужей к вопросам контрацепции, к сохранению их женами очередного ребенка или избавлению от беременности сведений в русских епитимийниках и других источниках нет. Безразличие мужей к здоровью беременных жен характеризуют епитимьи, налагавшиеся на них в том случае, если выкидыши у их жен случались от побоев домашних («аще муж, риняся пьян на жену, дитя выверже»). Подобные случаи избавления от ребенка не были наказуемыми для женщин: церковь, хорошо осведомленная о нюансах супружеских отношений, в них в таких случаях не вмешивалась – ни в X–XV вв., ни позднее [15].
Неустанная регламентация церковными дидактиками интимной жизни супругов сопровождалась интенсивными проповедями в защиту многочадия. Настойчивое постулирование идеи о том, что дети являются благом для любой семьи и главным «оправданием» присутствия в ней женщины, привело к тому, что уже в X – ХIII вв. отсутствие детей стало считаться большим горем («велико зло есть, аще не родятся дети, сугуба брань»). Обращения «жунок, кои хочут родити детя» к «бабам – идоломолицам», знавшим «чародеинные» средства избавления от этой напасти, вполне объяснимы. Среди исповедных вопросов встречается упоминание о «детской пупорезине» (пуповине), о «ложе детинном» (плаценте), о «семейной скверне», которые ворожеи использовали для приготовления снадобий от бесплодия. Чаще всего их смешивали со взварами трав, имевшими антисептические характеристики (омелой, ромашкой) [16]. Поразительно, что в повседневном быту не только X–XV, но и XVI–XVII вв. к «бабам»-чародейницам, знавшим средства усиления детородной функции, и у «простецов», и у представительниц привилегированного сословия, было больше доверия, нежели к обученным иноземным «дохтурам» [17]. Умение женские «недуги целити» во все времена считалось «даром» [18].
Какими бы событиями ни была полна реальная жизнь женщины того времени (а свидетельств ее дошло так мало), но памятники древнерусской литературы, в том числе тексты травников, зелейников, лечебников, а также учительные сборники говорят о внимании и заботе к беременным женщинам, проявляемым со стороны церковных идеологов. С давних времен через тексты покаянных книг ХII – ХШ вв. церковь освобождала беременных женщин от земных поклонов, непосильной работы, подчеркивала опасность потребления в их положении хмельных напитков.
После родов, происходивших, как правило, в бане, женщина «рождешая» считалась «нечистой» в течение 40 дней, что исключало возможность тесного общения с ней в эти пять недель. Церковные нормы исключали в послеродовое время и супружескую близость, что снижало вероятность инфицирования женского организма и объективно способствовало сохранению здоровья женщины [19].
В народной традиции, воспевавшей многочадие, отсутствие детей считалось горем. Церковная традиция при всем воспевании безбрачия и девственности, также рассматривала бездетные браки как неблагополучные. Летопись сохранила восклицание одного князя, горько сетовавшего на то, что в его семье нет детей: «Бог не дал своих родити, за мои грехы» [20]. Рождение детей рассматривалось и в светских, и в церковных памятниках как главное предназначение женщины, как ее основная работа. Беременную в народе [21] называли «непраздной» [22], и термин этот сохранялся в фольклоре столетиями. В частных письмах представительниц привилегированного сословия чаще употреблялось слово «беременная» («Отпиши, матушка, ко мне, беременна ль ты?» – весьма частая фраза в письмах от женщины к женщине, особенно родственнице) [23].
Рождение детей, а тем более частые роды, да еще в бедной семье, были в X–XVII вв. тяжкой женской долей. «Живот болит, детей родит», «Деток родить – не веток ломить» [24] – эти пословицы вряд ли сочинялись мужчинами, не знавшими тягот вынашивания и родов. Вне сомнения, их авторы – женщины. Нередкими были преждевременные смерти матерей при рождении очередного «чада» [25]. Рожали часто, порой чуть ли не ежегодно, а выживали немногие: 1–2 ребенка (иногда называется цифра 2–4) [26]. Большинство детей умирало во младенчестве. В памятниках личного происхождения XVII в. можно встретить сведения о семье из пяти человек (муж, жена и трое детей) как многодетной («человек добр и жена его добра, только он семьист, три мальчики у него») [27].
Само слово, термин «матерство» (материнство) было известно по источникам с XI в., но в них с трудом можно обнаружить какие-либо проявления чувств матерей к рожденным ими «чадам». Единственное, что можно установить на основании древнейшего свода законов – «Русской Правды» (XI в.) – так это прямую связь материнства со сложными имущественными отношениями в семье. Они влияли на частную жизнь всех ее членов. По закону мать могла принять (и часто принимала) на себя опекунские функции, получая единоличное право распоряжаться общесемейным имуществом, а также право наделять (или лишать доли) выросших отпрысков. При этом она сама могла выбрать, к кому из детей она питает наибольшую привязанность: «аще вси сынове будут лиси (выгадывающие), дочери может дата (наследство. – Н. П.), хто ю кормит». Древнерусский закон ставил, таким образом, имущественные отношения в семье в зависимость от индивидуально-психологических: характер распределения общесемейной собственности между наследниками мог отражать степень привязанности к ним матери [28]. Но живые, не скованные рамками литературных топосов свидетельства такой привязанности найти в ненормативных памятниках раннего средневековья (летописях и литературе, агиографии) довольно трудно.
И все же даже в скупых на эмоции летописях сохранились имена, которые давали матери детям: «Сладкая», «Изумрудик», «Славная», «Милая» [29]. Любопытен тот факт, что в летописях сохранились только ласковые прозвища девочек, что противоречит идее предпочтения, оказываемого – если судить по покаянной литературе – сыновьям. Ласковые имена и прозвища формировали «человечность» в семейных отношениях, да и самого человека с определенными чертами характера и манерой поведения. Отфильтровав факты реальной жизни, авторы летописей и литературных произведений XI – ХIII вв. оставляли лишь то, что нуждалось в прославлении и повторении – положительные примеры для назидания. Поэтому описанные в летописях грустные расставания родителей с дочерьми, выходящими замуж и покидающими родительский дом, выразительно характеризовали семейные отношения родителей как отношения любви и заботы («и плакася по ней отец и мати, занеже бе мила има и млада») [30].
Сравнительно долго (почти до XIV в.) держалась на Руси традиция давать некоторым детям не «отчества», а «матерства» (Олег Настасьич, Васильке Маринич), так как родство по матери считалось поначалу не менее почетным, чем родство по отцу [31]. Эта отличительная черта древнерусских семейных отношений содержала отголоски матриархальной ориентированности семейно-родового сознания и вместе с тем была формой проявления уважения к матери и женщине в обыденной жизни, аналоги которым трудно обнаружить в Западной Европе.
Выросшие сыновья, как правило, оставались жить в родительском доме; мать жила по традиции с младшим из них. По свидетельству литературных памятников и некоторых дошедших до нас писем, дети обязаны были платить матерям теми же чувствами любви и заботы, которые они получали в детстве. Уже один из самых ранних дидактических сборников – Изборник 1076 г. – содержал требование беречь и опекать мать. Постепенно этот постулат православной этики стал нравственным императивом и народной педагогики. «Моральный облик» выросших детей стал определяться их заботой о матери [32], ставшей больной, немощной, «охудевшей разумом» [33]. В нарративных памятниках можно найти немало примеров мудрого благословения матерями повзрослевших сыновей, ставших административными и государственными деятелями, на совершение разных благородных поступков; летописи доказывают сохранявшуюся эмоциональную зависимость детей от матери, взаимосвязь их личных переживаний не только в детстве, но и на протяжении всей жизни [34].
Пренебрежение нравственными ориентирами материнского воспитания осуждалось и церковью, и светским уголовным правом. Согласно норме светского законодательства, защищавшей женщину в конфликтных ситуациях (и тем самым вмешивавшейся в частную жизнь), сына или пасынка женщины, решившегося избить мать, следовало наказывать «волостельскою казнью» (вплоть до пострижения в монашество) [35]. Трудно сказать, часто или редко вменялось такое наказание. Но в новгородской берестяной грамоте № 415 (редком памятнике уголовного права XTV в.) сохранилось письмо некой Февронии судебному исполнителю Феликсу: «Поклоно от Февронее Феликсу с плацомо. Убиле мя пасынке и выгониле мя изо двора. Велише ми ехать городо или сам поеди семо. Убита есемо» [36]. Обращение Февронии в суд говорит об ее осведомленности о своих правах, отсутствии смущения в «обнародовании» факта семейной жизни (довели!). Вся ситуация дает яркий пример семейной ссоры, роли бытовой «разборки» в частной жизни людей того времени, подтверждает наличие вечного «конфликта поколений». Акт представляет инициатором ссоры молодого человека (пасынка), что наводит на размышление о том, что представители сильного пола (особенно молодые) чаще, чем женщины, вели себя девиантно. О том же свидетельствуют глухие упоминания об убийстве мачех пасынками в летописях [37]. Казусов убийств матерей дочерьми не встретилось, что, конечно, не исключает их существования.
Для церковных деятелей, бдительно следивших за частной жизнью всей паствы, но в особенности – князьями и боярами, важно было не просто отметить (и осудить) подобные «отклонения» от идеала бесконфликтных отношений между матерями и детьми, но и найти объяснение, мотивацию аморальности, чтобы искоренить само явление. Так, митрополит Иона в своем послании детям кнг. Софьи Витовтовны, «не повинующимся матери» (1455 г.), предположил, что их поступки вызваны «грехом, оплошением или дьяволиим наваждением, или молодостюо…». Он угрожал детям наложением «духовной тягости в си век и в будущем»: «докеле в чювство приидут» [38].
Сочиняя назидание, митрополит невольно выразил пристрастность к теме материнского воспитания. Можно предположить, что перед его глазами был пример его собственной судьбы, он вспоминал некую «вдовицу», ставшую ему самому матерью. Иону, еще в отрочестве осиротевшего, она «матеръски поболевъши о нем, воспита», относясь всю жизнь «ахи истовая родительница». Та же вдовица отдала впоследствии Иону «некоему диакону» для изучения грамоты и священных книг [39], задав направление формированию его личности.
Вся церковная литература домосковского времени (X–XV вв.) была пронизана идеями святости материнского слова и мудрости материнского воспитания, сладко-благостными рассказами о материнской любви и уважении детей к матери. Мать (равно как и жена, например кнг. Ефросинья Ярославна – прототип героини «Слова о полку Игореве») представлялась авторами древнерусских «повестей», «слов» и «плачей» готовой скорбеть о погибшем сыне (муже), но не способной унизиться, до трусости или склонить свое «чадо» («света-государя») к неблаговидному поведению, в частности, самосохранению ценой позора. Средневековая русская аристократия не выработала собственного идеала женственности, отличного от народного, поэтому высокодуховные образы матерей равно встречаются и в фольклорных, и в более поздних литературных произведениях (как светских, так и церковных) [40].
Некоторые расхождения между народным и аристократическим идеалами материнства при одновременном сближении каждого из них с этической традицией православия стали появляться лишь в эпоху позднего средневековья и раннего Нового времени (XVI–XVII вв.). Этот период внес немало нового в отношения матери и детей в силу зарождения, а затем быстрой эволюции процесса обмирщения духовной культуры московитов, что и позволяет соотнести историю материнства в Древней Руси – одну из важнейших сторон частной жизни женщин того времени – с аналогичными процессами в Западной Европе.
Автор одной из известных концепций истории детства, американский историк Л. Де Моз, назвал первые два этапа в западноевропейской истории родительства и детства этапами господства «инфантицидного» и «бросающего» стилей в отношениях между родителями и детьми. «Бросающий» стиль стал, по его мнению, анахроничным в Европе уже к концу XIII в. С XIV столетия этот американский психоаналитик начинал отсчет нового этапа в отношениях между детьми и родителями, в том числе матерями. Новый стиль отношений он называл «амбивалентным» и полагал, что он господствовал в XIV–XVII вв. «Амбивалентный стиль», по словам Л. Де Моза, характеризовался «дозволением ребенку входить в эмоциональную жизнь его родителей», но «исключал, однако, его самостоятельное духовное существование». Все это сопровождалось, как думал историк, «беспощадным выколачиванием своеволия» как злого начала в ребенке [41].
При всей схематичности построений Л. Де Моза, которые не раз критиковались в западной науке [42], его рассуждения не лишены определенной наблюдательности. Во всяком случае, русская литература – светская и церковная, эпистолярные и документальные памятники XVI–XVH вв. позволяют отметить этот постепенный переход в истории русского материнства и материнской педагогики к «амбивалентному» стилю отношений. Заметим только, что начался этот процесс в России не ранее эпохи складывания единого государства, то есть в XV–XVI вв.
Многие тенденции церковной дидактики и народной педагогики, наметившиеся в домосковское время – осуждения контрацепции, небрежения к детям, строгих наказаний за детоубийство и попытки к нему, – сохранялись. Традиция восхваления бесконфликтных отношений между матерью и детьми, причем отношений несколько асимметричных (уважительных со стороны именно детей к матери, без «обратной связи» – уважительности отношения матерей к интересам детей), продолжала развиваться и в эпоху Московии.
Но появилось и новое. В зажиточных, сравнительно образованных сословиях отношение матерей к детям становилось все более содержательным. На этот процесс оказывали влияние разные факторы: и экономические, и культурные, и личностные. В то же время в немалой степени отношения матерей и детей в семье зависели от общего числа «чад»: на мальчиков-первенцев и единственных детей смотрели как на продолжателей дела предков, а потому относились сравнительно бережно. Первенцев в семье ждали, на них возлагали надежды как на наследников родового имущества, родового имени. Например, в. кн. Василий Иванович (1505–1533) так мечтал о сыне, что, как известно, пошел на развод с кнг. Соломонией, дочерью боярина Сабурова, и женился на молодой польке Елене Глинской. Когда она родила ему долгожданного наследника, а это был будущий царь Иван Грозный, Василий Иванович не только повелел заложить известную церковь Вознесения в с. Коломенском под Москвой (такой жест «вписывался» в рамки обычного поведения главы княжеского рода), но и безмерно пекся о здоровье ребенка. В письмах он требовал от супруги постоянно «отписывать» ему все подробности жизни малыша: «и о кушанье Иванове, что Иван сын коли покушает – чтоб мне то ведомо было» [43]. Вне сомнения, мать хлопотала над первенцем с еще большим рвением.
Забота о здоровье «чад» оставалась главным содержанием частной жизни большинства московиток раннего Нового времени. Способами излечения их от хворей, рекомендациями по гигиене и вскармливанию были наполнены многочисленные «лечебники» и «травники» XV–XVI вв. Тема детских болезней проникла тогда и на страницы дидактических текстов [44], а в переписке появились свидетельства неподдельной тревоги родителей по этому поводу («Да писала еси ко мне… что против пятницы Иван сын покрячел… что у сына у Ивана явилось на шее под затылком место высоко да крепко, что гною нет, и то место у него поболает… И ты бы с боярыни поговорила, что таково у сына явилося и живет ли таково у детей малых?..» [45]).
Новой в церковно-учительской литературе стала в XVI–XVII вв. и тема материнского воспитания, а предметом особых размышлений – его методы. В период раннего русского средневековья вопрос о педагогических методах ставился лишь применительно к отцовскому воспитанию сыновей, причем предполагалась известная строгость. В памятниках X–XV вв. часто встречалось пожелание «наказати» сыновей, что означало «учить» их, «воспитывать». Современный смысл слова «наказать» в значении «карать» появился в русском языке не ранее XVII в. [46]. Тема «сокрушения ребер» и «наложения ран» как способа выработки послушания и покорности нашла законченное выражение в «Домострое» с его развернутым обоснованием системы физических методов воздействия. Однако и «Домострой» имел в виду воспитание отцом сыновей. Матери поднимать руку на чад – сыновей, а тем более дочерей – не полагалось; ей отводилась другая роль и другое место в сложной семейной иерархии. Ясно видно это противопоставление в фольклоре [47]. Тем не менее в записях пословиц ХVII в. встречается присловье «Учен жену бьет, а дрочен (неженка. – Н. П.) – матушку», в котором можно видеть не только прямое назидание, но и фиксацию частоты ласковых отношений (баловства) со стороны матерей и соответствующих им методов воспитания [48]. (Ср. также в «пословицах добрых и хитрых и мудрых»: [49] «Дети балуются от маткиного блинца, а разумнеют от батькиного дубца».) [50]
В назидательной литературе подчеркивалось, что в деле воспитания само слово в устах матери должно быть достаточно действенным. Вероятно, в семьях аристократии (на которые в первую очередь и были рассчитаны тексты поучений, в том числе «Домостроя») так оно и было. Известно, сколь велика была роль образованных матерей и вообще воспитательниц в судьбах некоторых русских правителей. При отсутствии системы образования и повсеместном распространении домашнего обучения многие из княгинь и вообще женщин привилегированного сословия, будучи «гораздо грамотными», «словесного любомудрия зело преисполненными», брали все образование детей на себя. [51]
О том, насколько достигало цели пожелание церковнослужителей с помощью одного только разумного материнского слова вырабатывать у детей «автоматический моцион нравственного чувства» [52], то есть любви и уважения их по отношению к родителям, судить трудно. Литературные и эпистолярные источники XVI–XVII вв. донесли до нас лишь «лакированные» картинки взаимоотношений матерей и детей.
Внести коррективы в эту благостность могли бы, очевидно, судебные документы, фиксировавшие конфликтные ситуации, но их довольно мало.
Вместе с тем различные нарративные памятники, а также иконография позволяют представить определенное развитие, некоторые изменения даже в самой идеализированной, «незамутненной)» картине материнства и материнского воспитания. Они возникли в XVII в. и отразили те трансформации в частной жизни, во взаимоотношениях матерей и детей, во взглядах московитов на материнство, которые привели к появлению новых явлений в семейной педагогике – возрастанию роли матери в социализации детей.
Особая радостность красок, их «веселие» в иконографии Рождества Пресвятой Богородицы определялась появившимся в православии к ХVII в. особым отношением к деторождению, прославлением его «светоносности», «непечалия», величия [53]. В живописных сюжетах на эту тему XVI–XVII вв. родительская любовь стала выступать как соучастие (избражение присутствующего в комнате роженицы отца девочки, распахнутых дверей, проемов, окон – по поверью, это облегчало роды), как объединяющее семейное начало (подробно вырисовывалось «ласкательство» Иоакима и Анны с малюткой Марией, купание ее ими в резной купели) [54]. Апофеозом же идеи воздаяния светоносной материнской любви, окрашенной православной благоговейной печалью, стал иконописный сюжет «Успения Богородицы», в котором персонифицировалась тема спасения материнской души, изображаемой в виде спеленутого младенца, которого Спаситель держал на руках [55].
По-иному в XVII столетии стали смотреть и на беременность. Хотя и «срамляясь» своих желаний, беременная женщина (хотя бы в кругу своих близких) стала стремиться обратить внимание окружающих на «особость» своего состояния, требующего, в частности, определенного ритма питания: «Егда не родих детей, не хотяше ми ясти, а егда начах дети родити – обессилех и не могу наястися» [56]. Будто в подтверждение народного присловья «Горьки родины, да забывчивы» [57], в найденном нами письме к детям одна из матерей XVII в. вспоминала; «Носила вас, светов своих, в утробе и радовалась, а как родила вас – [и вовсе] забыла болезнь свою материю…» [58] Во многих семьях женщины по-прежнему рожали практически каждый год (даже в XIX в. считались обычными 9 – 10, реже 6–8 рождений на каждую женщину). Повседневность московитских семей XVII в. точно отразила поговорка: «Бабенка не без ребенка, не по-холостому живем, Бог велел» [59].
Частые смерти детей накладывали свой отпечаток на отношение к ним матерей: у одних боль от их утрат притуплялась [60] («На рать сена не накосишься, на смерть робят не нарожаешься») [61], у других – вызывала каждый раз тяжелые душевные потрясения [62]. Во многих письмах русских боярынь и княгинь конца XVII в. сообщения о смертях детей окрашены сожалением и болью, в них проскальзывает горечь потери и ласковое отношение к умершим («пожалуй, друг мой, не печался, у нас у самих Михаилушка не стало»; [63] «в печялех своих обретаюся: дочери твоей Дари Федотьевны [в животе] не стало…»; [64] «ведомо тебе буди, у Анны сестры Ивановны, Марфушеньки не стало в сырное заговейна…») [65].