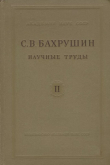Текст книги "Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.)"
Автор книги: Наталья Пушкарева
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Редкое письмо мужчины к женщине содержало что-либо выходящее за пределы принятого топоса, в том числе неформальные обращения или, тем более, домашние прозвания, прозвища. Поэтому даже слова «Душа моя, Андреевна» вместо общепринятого «жене моей поклон» [121] (ср. в «Сказании о молодце и девице»: «Душечка ты, прекрасная девица!») представляются редким свидетельством неформальной ласки и теплоты. Не менее трогательно выглядит обращение некоего Ф. Д. Толбузина к жене: «Другу моему сердечному Фекле Дмитревне с любовью поклон!» – и ниже: «Душа моя, Дмитревна…» Наконец, лишь у Аввакума в его письмах единомышленницам можно встретить еще более мягкое и сердечное обращение к адресаткам: «Свет моя, голубка!», «Друг мой сердечной!», сравнение их с «ластовицами сладкоголосыми», «свещниками» (светильниками. – Н. П.] души [122].
Женщины же – натуры куда более эмоциональные и «ориентированные» на дом, семью, близких, не имевшие к тому же никаких собственных служебных интересов, – писали в своих «епистолиях» о том, что их волновало, казалось значимым и важным [123]. Даже благопожелания в женских письмах выглядели менее стандартизированно: «Желаю тебе с детьми вашими здравия, долгоденствия и радостных утех и всех благ времянных и вечных (курсивом выделены нетипичные для таких топосов слова. – Н. П.)…» Эмоциональность женских писем точно подметил протопоп Аввакум, бывший сам человеком отнюдь не бесчувственным. О посланиях Ф. П. Морозовой он сказал, что хранит их и перечитывает, и не по одному разу: «Прочту, да поплачу, да в щелку запехаю». Над письмами мужчин того времени вряд ли можно было «поплакать» [124].
В письмах же женщин отражалась буквально вся их жизнь. Помимо хозяйственных дел, о которых уже говорилось выше, они писали о «знакомцах старых» и о родственниках («и про меня, и про невеску, и про дети»), высказывали пожелания «поопасти свое здоровье», мягко упрекали («Никита да Илья Полозовы говорили мне, что ты, мой братец, был к ним немилостив, и хотя они за скудостью своею на срок не поспеют, ты, братец, прегрешения им того не поставь и милостию своею их вину покрой»). Во многих письмах явственно ощутим мотив обеспокоенности здоровьем близких («слух до нас дошел, что мало домогаешь, и мы о том сокрушаемся») [125].
Наконец, как и сегодня, многие письма матерей, жен, сестер были написаны в связи с высылкой подарков и гостинцев; кому, как не женщинам, было знать вкусы своих близких: «Хошь бы малая отрада сердцу – гостинцы…»; «челом бью тебе, невестушка, гостинцом, коврижками сахарными, штобы тебе, свету моему, коврижки кушать на здоровье. Не покручинься, что немного…»; «а послали мы тебе осетрика свежего, и тебе б его во здравие есть, да в брашне груш, три ветви винограду, полоса арбуза в патоке, 50 яблоков…» [126]. В одном из писем мать сообщала сыну о посылке ему в подарок «скатерти немецкой, а другой расхожей», пяти «полотениц с круживами», да семи «аршин салфеток», прося одновременно: «И ты, свет мой, на ней кушай, не береги, а нас не забывай…» Это «не берега» весьма характерно: оно выдает хозяйское, бережливое отношение матери к добротным вещам.
Внутрисемейные отношения авторов писем и их адресатов, своеобразную внутрисемейную иерархию можно особенно ясно почувствовать, обратившись к анализу обращений в них. Уменьшительными именами (Грунька, Улька, Маря – от Марьи и т. д.) называли себя жены в письмах к мужьям, младшие женщины (невестки, племянницы) в письмах к старшим [127], младшие сестры в письмах к старшим сестрам («сестрице Федосье Павловне сесгришка твоя Грунка Михайлова дочь челом бьет»). Свою зависимость от братьев пытались подчеркнуть уничижительным сокращением собственного имени их сестры, подчас – старшие или одногодки: «Братцу питателю Гаврилу Антипевичю сестра твоя Прасковя челом бьет» [128]. В то же время и братья, когда ставили целью добиться от богатых замужних сестер некоторой денежной поддержки, предпочитали в письмах обращения типа: «Милостивая моя государыня сестрица Маря Гавриловна, Митка Кафтырев челом тебе бьет…» [129] (то есть обращались по имени-отчеству). Матери в письмах к сыновьям (даже взрослым) именовали себя аналогично: «От Матрены Семеновны сыну моему Петру Фомичю…» [130]. Так же звали своих матерей и сыновья в письмах к ним, добавляя иногда – для «уважительности»: «Здравствуй, государыня моя матушка Агафья Савельевна со всем своим праведным домом!» [131]. Обращаясь в посланиях к своим супругам, они, однако, называли их только по имени («От Михаила Панфилевича жене моей Авдоте») [132], и разве что в царской переписке можно найти уважительное обращение к супругам и сестрам по имени-отчеству.
Наконец, равенство обращений отправителей писем и адресаток соблюдалось в том случае, если это были зять и теща («государю моему свету зятю Михаилу Панфилевичю теща твоя Марица Ондреяновская жена Никиферовича») [133]. Редкую ситуацию, при которой зять называл себя уменьшительно-уничижительно «Род[ь]ка», а тещу– уважительно, по имени-отчеству «государыней-матушкой Аграфеной Савельевной» удалось встретить лишь в родном письме. Объяснение необычному «феномену» содержится в тексте самого послания – автор его, судя по всему, малость «поиздержался»: «Пожалуйте, ссудите меня на службу великих государей деньгами, не оставьте моего прошения, а я на премногую вашу милость надежен во всем…» [134].
Судя по письмам невесток к свекровьям, младшие женщины обращались к старшим только по имени-отчеству и с прозванием «матушка», сами же именовали себя полным именем без отчества («Аксинья», но не «Оксюшка»), зато с непременным упоминанием семейной принадлежности («Иванова женишка Ивановича Аксинья») [135] (зависимость невесток от своих свекровей во внутрисемейной иерархии любого социального слоя зафиксировали и пословицы) [136].
Любопытно, что литературные произведения, современные приведенным письмам, не позволяют сделать подобных наблюдений над ситуативными особенностями употребления имен: в повестях и «словах», жартах и переводных новеллах употребляются лишь полные имена, реже – имена-отчества (и только, как правило, мужчин).
В посадской литературе XVII в. хорошо ощущается утвердившийся стереотип описания «хорошей семьи» как семьи, где главенство мужа непререкаемо, где жена присутствует и ощущает себя непременно за-мужем, именует супруга «богом дарованным пастырем», «любезным сожителем», чью «волю во всем» жена «творила и преисполненный дом соблюдала» [137]. Это позволяет видеть в письмах представительниц московской аристократии с бесконечными вводными обращениями («свет мой, государь мой», «сердешный друг» и т. п.) литературно-этикетные корни – в большей степени, нежели эмоциональные. Кстати, мужья обращались к ним обычно просто по имени-отчеству.
Значительно слабее, нежели отношения «власти» и «подчинения», отразились в источниках личного происхождения иные женские эмоции, весьма подробно описанные в литературных памятниках того времени. Среди них в первую очередь стоит выделить грусть в разлуке с законным супругом, мотив «скуки без любимого» и радость встреч после расставаний. Правда, восторженные восклицания типа «Откуда мне солнце возсия?», слезы радости от долгожданной встречи произносили и проливали (и в литературе, и в письмах) одни только женщины [138] мужчины были скупее по части чувств [139].
Письма россиянок конца XVII в. позволяют особенно остро почувствовать, как тосковали жены без мужей в разлуке. Одна из них писала мужу: «Обрадуй [нас], дай нам очи [твои] видет[ь] вскоре, а мы по тебе, государе своем, в слезах своих скончались…» [140]. «Прошу тебя, друк мой, пожалей меня и деток своих, – будто вторила ей другая. – А у меня толко и радости, что ты, друк мои, Бога ради, не печался. И ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскучик камки, и я тое ка-мочку стану носит, будто с тобою видятца…» [141]. Приведенные строки взяты нами из письма жены стряпчего И. С. Ларионова, которого, как можно понять из текстов писем, жена искренне и нежно любила. В другом письме она жаловалась, что супруг «изволил писать» о своем «великом сомнении» в ее чувствах и заверяла, что ей было бы достаточно «хотя б в полтора года на один час видятца» – и то бы она была «рада» [142]. Можно предположить, что исключительная преданность интересам семьи и любовь к своим семейным «государям» была у рода Ларионовых традиционной. Известны, например, письма родственницы Д. Ларионовой, Е. Ларионовой (жены брата И. С. Ларионова, Тимофея), которые проникнуты чувством страха перед одной только возможностью потерять в силу разлуки душевную близость с мужем: «Тебе, государю моему, слезы мои – вада! Я, государь, вины не знаю пре[д] тобою, за што гнев твой мне сказывал! Я и сама ведаю, что немилость твоя ко мне. Кабы милость твоя ко мне – все бы не так была. Я и писать к тебе не смею, потому что мои слова тебе, государю, не годны…» [143]
Столь часто встречающийся в посадской литературе XVII в. сюжет «тужения» («По все дни лице свое умывает слезами, ждучи своего мужа…»; «Нача сердцем болети и тужити», «и по нем тужа, сокрушается», «и от слез с печали ослепла», «уже с печали одва ума не отбыла» [144]) находит подтверждение в письмах – и, конечно, не в письмах умевших скрывать свои эмоции государственных мужей, а их верных жен [145]. По письмам мужчин трудно догадаться, насколько они «тужили» вдали от родного дома и жены: слишком условно-формализованы их вопросы супругам и дочкам о «многолетнем здоровьи». Чувства же женщин проступают в эпистолярных памятниках достаточно четко. «А Домне скажи от нас благословение, – просил дворянина Тимофея Саввича неустановленный адресат в 1687 г. – И чтоб она, Домна, о Дмитрие в печали не давалась, а что она об нем велми тужит – и то она делает не гораздо, он, Дмитрей на государскую службу поехал, и он, Дмитрей ездит [туда] не по один год…» [146].
Между тем как было не тужить дворянкам! Одна из них, уже упоминавшаяся здесь А. Г. Кровкова, жаловалась: «Я в печалех своих едва жива по воли Божьи: Матфей Осипович идет на службу марта в день под Чигирин. С печали сокрушаюсь, как быть – и ума не приложу» [147]. Женское сердце не зря тревожилось: в архиве князей Хованских содержится письмо с сообщением о том, что М. О. Кровков, о котором беспокоилась его жена, был привезен из-под Чигирина «замертво»: «едва жив лежит на смертной постеле, што обротим с боку на бок – то и есть, а сам ничем не владеет, ни руками, ни ногами» [148]. Бесхитростный рассказ дворянки Кровковой может быть домыслен словами одной из героинь «Повести о семи мудрецах», современной приведенному выше письму: «Уподоблюся убо яз пустынолюбней птице горлице и стану всегда жиги на гробе мужа своего…» [149].
Именно женщины, на чьи плечи оказывалось взваленным все «домовнее управление», то есть дворянки, купеческие дочки и «купцовы женки», писали нередко очень искренние, лишенные этикетных условностей письма. И хотя народная молва относилась к «добродетелности» представительниц купеческого сословия довольно скептически («вещь дивна и поистине сумнителна, поиже жены их купеческия множае в домех без своих мужей пребывают, нежели с мужьями жителствуют»), тем не менее житейский опыт подсказывал таким часто отсутствовавшим мужьям, что единственный способ добиться искренней верности супруги – это верить ей, подчеркивая самому свою преданность («дах ей волю по своей воле жиги, и како может, сама себе да хранит»). Тонкий психологизм был не чужд посажанам XVII в.: «Еже, вспоминая жены своя, смехотворно глаголати (насмехаться) или, ведая их безпорочное житие, за них не поручится – то бо есть сожителницы своей самое презренье и немилосердие» [150]. Таким способом, очень умно и ненавязчиво автор городской повести вел воспитание «добрым примером», как бы беря его в то же время из жизни [151].
Еще одна краска в палитре чувств женщин предпетровской России – жалость к более слабым и призыв «сожалитися», обращенный в письмах к мужьям или отцам. Как и городские повести, сплошь и рядом упоминающие о ситуациях, когда женщины не могли не «сожалитися», когда кто-то «горко и зелне плакуся» или «во хлипании своем не возможе ни единаго слова проглаголити» – что вообще-то относится к средневековому литературному топосу, – письма дворянок XVII в. тоже часто содержат просьбу «быть милостивым» и тем самым «не погубить» слабого [152].
Умение сочувствовать, казалось бы, не знакомое мужчинам, жаловавшимся, что у них и «своего оханья много» [153], прекрасно характеризует родственные связи и дружеские отношения женщин того времени. Именно женщины в своих письмах советовали мужьям быть душевнее, сочувственнее, внимательнее: «Отдай грамотку детем ево, – просила Т. И. Голицына своего сына, В. В. Голицына, – и разговори их от печали, что волею праведного Бога сестры их нестало, что в девицах была, и племянницы их не стало – у Домны, у Парфеньевны меньшой дочери…» [154]. Видимо, сами «супружники» эмоциональной проникновенностью не отличались, за исключением ситуаций, связанных со смертью матерей: «Ведомо тебе буди, Прасковюшка (редкое по нежности обращение. – Н. П.), [что] матка наша Ульяна Ивановна переселилася во оные кровы, и ты, пожалуйста], поминай [ее со] своими родительми…» [155].
Женщины для выражения подобных «скорбей» находили слова еще менее будничные, еще более выразительные: «В своих печалех насилу жива. Насилу и свет вижу от слез…» И хотя речь в ее письме шла о смертельной болезни мужа, добавляла сочувственно: «А и ваша разоренья мне, истинно, великая печаль, а помочь нечем…» [156]. В ином письме – ответе одной из представительниц царской семьи на сообщение мужа о болезни – жена выражала неподдельную тревогу: «Ты писал еси, что, по греху нашему, изнемогаешь лихорадкою. И мы, и мать наша… зело с плачем [соболезнуем и скорбим» [157]. Не стоит, однако, обольщаться на предмет индивидуальной эмоциональности тех, кто писал процитированные письма, переоценивать адекватность их сострадания несчастью. В иных письмах побег крестьянина и объявление им «ничейной» земли своею приводили дворянок, если судить по их восклицаниям, в те же эмоциональные состояния («крестьяне искали ево целой ден, не нашли, убежал, и я от кручины той чут[ь] жива…») [158].
Однако анализируя изменения, произошедшие в эмоциональном мире русской женщины за несколько столетий, стоит выделить одно, характерное именно для XVII в. Так, говоря о милости к бедным или убогим, героини литературных произведений и авторы писем мужьям и отцам, написанных в XVII в., не были уже по сути ни слабыми, ни слабохарактерными. В то же время и по форме, и по сообщаемой информации они выдавали себя за слабых, называли себя, как некая А. Г. Кровкова, «нищими и безпомощными» [159], «бедными, безродными, безпомощными», как жена стряпчего Д. Ларионова [160], а зачастую, стремясь вызвать к себе жалость, впрямую хитрили: «я теперь сира и безприятна, не ведаю, как и выдраться, как чем и пропитаться с людишками до зимы». И это – в то время, как реальное положение дел было далеко от безрадостного, когда сами женщины были весьма далеки от разорения – в том числе и кнг. А И. Кафтырева, письмо которой процитировано выше [161]. Но в XVII веке уже оформилось восприятие женщины как «слабой», «ведомой» – и представительницы «слабого пола» ему подыгрывали.
Когда «интересы дела» требовали некоторого преувеличения, женщины ничуть не смущались ложью. Например, в спорном деле москвичек, живших в середине XVII в., Анютки и Марфы Протопоповых (первая из которых вдова И. Д. Протопопова, а вторая – его мать), не поделивших наследство, обе женщины в расспросных «скасках» именовали себя «бедными», в то время как речь шла о «рухледи» на тысячи «рублев». В их случае примечательно, что «молодая» семья (А/ и И. Д. Протопоповых) жила вместе со старшим поколением «не в разделе», что и позволило старшей женщине («свекре» Анютки) захватить все наследство, включая приданое невестки, ее наряды и драгоценности [162].
Разумеется, когда речь шла о действительно страшных и трагических событиях в жизни семьи или в конкретной женской судьбе (гибель дома, детей, близких), женщины глубоко и остро переживали, страдали, «громко вопяше»: [163] поводов к тому оставалось по-прежнему хоть отбавляй. Но лишь в близких по стилю к житийным и некоторых переводных произведениях (типа «Повести об Ульянии Осорьиной» и «Повести о Петре Златых Ключей») сохранялся старый мотив религиозного «страха и ужаса» (Ульяния изображена страшащейся одиночества и темноты, пугающейся «бесев», а героиня «Повести о Петре» – впавшей «в великий страх и трепет», с «ужасающимся сердцем» от мысли, что «попорочит» род свой непослушанием родительскому слову [164]). Между тем даже в письмах таких современниц Ульянии, как деятельницы старообрядчества, мотив страха от собственной беспомощности, зависимости оказывался, как ни странно, затушеван. Он практически вовсе отсутствовал в «епистолиях» «обышных» женщин, опровергая давний стереотип об исключительной религиозности московиток [165], хотя в клаузуле писем непременно содержался топос о бессилии отдельного индивидуума перед лицом Господа.
Московитки XVII в. представлены литературой своего времени размышляющими. Этот мотив, к сожалению, трудно уловить в письмах. Однако в посадских повестях упоминания о том, что кто-то из женщин «нача мыслити в себе», «размышляти, како бы улучити желаемое», стали встречаться все чаще. В письмах же никто из женщин – ни царевны, ни княгини, ни дворянки – не признавались своим близким в том, что они о чем-то раздумывали [166], – если не считать хозяйственных расчетов да беспокойства о здоровье близких. Единственное исключение – сообщения в женских письмах о снах, как правило, страшных, пугающих («помнишь ли, свет мой, сон, как буйволы пили из моря воду, и свиньи их поели…»), о которых после свершения какого-либо неприятного события вспоминали как о предзнаменовании [167]. Несколько большую сосредоточенность на собственном внутреннем мире можно найти лишь у деятельниц старообрядчества. Анализ «жизненных сценариев» Ф. П. Морозовой, М. В. Даниловой, Е. П. Урусовой сквозь призму их ценностных ориентации, отразившихся в письмах, равно как исследование уединенного самосовершенствования женщин в монастырях, «моделей жизни» одиноких женщин и вдов, могут внести дополнительные детали в общую характеристику частной сферы и личных судеб женщин допетровской России. Но эти темы требуют особого рассмотрения.
Типическая же жизнь женщины в Древней Руси и в России XV – ХVII вв. отличалась преданностью семье. Именно поэтому вопросы, связанные с отношением к женщинам как «подружиям», «ладам», «супружницам», и самих женщин к их близким, законным мужьям и «сердешным друзьям», будучи отнесенными к «норме» (семейной жизни или ее подобию вне рамок брака), как нельзя лучше характеризуют становление и развитие эмоционального мира вначале русов, а затем московитов XVI–XVII вв. В ряду эмоциональных переживаний, непосредственно связанных с жизнью женщины как супруги и в то же время претерпевших значительную эволюцию за многовековой период, едва ли не на первом месте стояли переживания, связанные с сексуальной сферой. Трансформации в отношении к ней – как со стороны церковных проповедников, так и в некоторой степени «обышных людей» – были за рассматриваемые X–XVII столетия наиболее видимыми и характеризовались медленным признанием самоценности этой сферы частной жизни. Правда, в патриархально-маскулинизированном обществе, коим являлась Древняя Русь и Московия XVI–XVII вв., женщины почувствовали это изменение несколько в меньшей степени, по сравнению с мужчинами. Ранний (домосковский) период осуждения всего чувственного и избегания разговоров о нем родил устойчивый для всего европейского средневековья образ злой жены – «обавницы», «кощунницы», «блудницы» – источника греховных вожделений. Образ этот был популярным и в православной Руси, и в Московии, содержа и концентрируя в себе подавленные желания, тайное признание важности физиологической стороны брачных отношений и роли в них женщин.
Осознание сексуальности как части самовыражения личности, расширение и усложнение диапазона переживаний женщины в интимной сфере, новое восприятие плотской любви как «веселья» и «игранья», проявившиеся в некоторых памятниках предпетровских десятилетий, – были предпосылками «чувственного индивидуализма» в семейных отношениях, их физиологического и психологического обогащения, оказавшего переломное влияние на частную жизнь русских женщин.
Мир чувств русской женщины XVII в. – был ли он ориентирован на семью и мужа или же был связан с «полубовниками» вне рамок брака– был миром надежд на «милость», был наполнен ее ожиданием, попытками добиться любви – как признания своей единственности – любыми средствами, в том числе «чародейными». Несмотря на все попытки церковных идеологов укрепить духовно-платоническую основу семейного единства, жизнь брала свое: «плотское» имело огромную значимость в индивидуальных женских побуждениях. Отражением борьбы «разума» и «плоти» стало появление в русской литературе XVII в. чувственных образов женщин, а в памятниках переписки и актовом материале, современных литературным произведениям, – свидетельств «роковых страстей», возбуждаемых и переживаемых ими. При этом в дидактической литературе изображение борьбы разумного и чувственного в душе женщины предпринималось именно с целью доказательства достижимости победы разумного. Напротив, и в фольклоре, и в посадских повестях XVII в. конфликт женских чувств и самоограничения сводился в конечном счете к уступкам «плоти».
К XVII в. относятся и изменения в восприятии некоторых деталей супружеской роли женщины, отобразившихся в парадоксальном сближении, медленной «диффузии» характеров злой и доброй жен. Литературные, дидактические, эпистолярные источники того времени зафиксировали изменение отношения к уму, инициативности, красоте, общительности женщины, превратив все эти качества в положительные характеристики, имманентно присущие добрым женам – в то время как в средневековье они считались «принадлежностью» жен злых (хотя и с некоторой вариативностью: не ум – но «хитрость», не инициативность – но «неубоязнь», не красота – но «украшателство», не общительность – но «болтливость»). Усложнение понятия нормы в «классификации» женских характеров сохранило, однако, резко негативное отношение к женской неверности, категорическое осуждение супружеских измен в церковной дидактике. Тем не менее ряд памятников XVII в. содержит сведения о распространенности внебрачных связей, адюльтера, а также о значительной роли, которую могли играть в частной жизни женщин их «сердешные друзья» вне брака.
Тем не менее необходимо признать, что проповедь супружеского «лада и береженья», столетиями не сходившая со страниц назидательных книг и церковных амвонов, дала в эпоху, когда «старина с новизной перемешалися», свои плоды. Семейная переписка второй половины XVII в. сохранила живые и взволнованные голоса княгинь и дворянок, искренне и нежно любивших именно своих законных мужей. Письма этих женщин, умевших проявлять живое сочувствие и деятельное участие в делах и заботах своих благоверных – «свет-государей», как они их именовали, являются неоспоримым доказательством утвержденности в сознании, по крайней мере, этой образованной части общества, идеалов православной этики. О том же говорят и зачины в письмах, отразившие наличие и стойкость семейной иерархии, а также тон изложения женских писем и их содержание. Добровольное согласие жены быть не перед мужем, а замужем, то есть не притязать на главенство в семье, означало, если судить по переписке, признание мужа защитником, душевной и материальной опорой для себя и детей. Разумность и психологическую тонкость добровольного согласия женщин на свою второстепенность в семье позволяет почувствовать сопоставление писем жен к мужьям, в которых они называли себя «слабыми», «бедными», «безпомощными», и деловой переписки, в которой вырисовываются женские образы отнюдь не безвольные, а весьма деятельные и активные.
Любовь в понимании образованных женщин России конца XVII в. ассоциировалась с преданностью интересам семьи и детей, «тужением» в разлуке с мужьями и радостью встреч с ними, сопереживанием заботам и делам близких, умением доверять и сохранять верность, горестным участием в бедах и утратах. Эти характеристики и человеческие качества побуждали женщин к размышлениям и оценкам собственной «самости». Появление такого интереса– интереса самих женщин к своему внутреннему миру – открыло путь к возникновению элементов женского самосознания, усиливавшихся и крепших вместе с ростом индивидуализма.