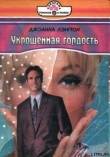Текст книги "Особый слуга (СИ)"
Автор книги: Наталья Дьяченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Ты только маме не говори, – пробасил отец. – Ее это очень опечалит.
Графиня молчала, пораженная увиденным. Она никогда не задумывалась об этой стороне жизни родителей – до замужества она была юна и наивна, а после ей вовсе незачем было об этом думать. Мать всегда отзывалась об отце с уважением, называла его на «вы» и по имени-отчеству, безропотно принимала его решения. Отец обращался к матери с грубоватой ласковостью и как мог берег от жизненных невзгод.
Пеле пыталась осмыслить случившееся и понять, что же теперь делать ей, какая ей уготована роль. Раскрыть ли глаза матери на измену отца и станет ли эта новость для нее откровением? Что будет, если она расскажет? И что переменится, если промолчит? Имеет ли она право вмешиваться в отношения, которых не выстраивала? Имеет ли право вершить чужие судьбы? Все-аки родители были вместе дольше, чем она живет на свете, уж, верно, это что-нибудь да значило.
Чувствуя ее смятенное состояние, Николай Артамонович заговорил:
– Знаешь, дочка, не бывает идеальных людей. И я не сахар, и матушка твоя не образец. Нас поженили оттого, что мы были соседями. Софье Егоровне было тогда семнадцать, мне двадцать пять. Она была влюблена в своего кузена, манерного красавчика, а я был обычным парнем, не чуравшимся житейских радостей, любил вкусно поесть, пропустить стаканчик-другой винца, сходить на охоту и потискать хорошеньких девушек.
Николай Артамонович замолчал, давая дочери возможность возразить или уйти либо слушать дальше. Полетт молчала, не перебивая. Ей хотелось понять, что делать с собственными мыслями.
– Софья Егоровна так и не смогла меня полюбить, для нее я был недостаточно утончен, но верная родительской воле пошла за меня замуж и отдавалась покорно, точно исполняла стылую обязанность. Тяжело мне было сносить ее холодность, я-то привык к другому обращению, но надеялся, что со временем она переменится и близость станет доставлять удовольствие нам обоим. Однако едва забрюхатев, она вовсе перестала меня к себе подпускать. А потом были тяжелые роды, и Софье Егоровне нужно было оправиться душевно и физически. Я не принуждал, все ж-таки жена не девка дворовая. Сам ходил злой, срывался по пустякам, мы ссорились, она замыкалась в себе. Уж и не знаю, чем бы дело кончилось, да только повстречалась мне однажды одна приветливая вдовушка. Мы с твоей матушкой тогда в очередной раз крепко повздорили, чтобы остыть, я отправился гулять, бродил под дождем, вымок весь, продрог, но домой идти не хотел. Постучал в первую попавшуюся избу. А там – женщина. Настоящая, теплая, кровь с молоком. Я к тому времени волком был готов выть от воздержания. Смотрю на хозяйку, а у самого руки трясутся – так обнять хочется, прикоснуться к ладному стану. Ну, я и не стал сдерживаться, да и она не противилась. Так и наладилось – я матушку твою кроме как ради продолжения рода не тревожил, да и себя больше не изводил. Это я потом понял, что плотские утехи Софье Егоровне в тягость. Ей другое надо было: стихи, поцелуи, роз букеты и безо всяких приземленных материй. А я так любить не умею. Мне бы попроще, поестественней, к природе поближе. Скажешь, я животное? Ну, скажи. У всякого внутри своя червоточинка. Ты ведь не осуждаешь меня, правда?
– Нет, отчего же, – молвила Полетт, окончательно запутавшись в собственных мыслях. – У тебя своя жизнь.
Была ли она вправе судить отца? Но если ответ да, тогда ее дети тоже могли винить ее за измены. Верно, своей жадной до жизненных радостей натурой она пошла в Николая Артамоновича, с которым из-за давней обиды не желала иметь ничего общего. Но так ли отец был неправ? Если бы завел любовницу Кристобаль, избавив Полетт от своего внимания, она бы только порадовалась. Однако стоило графине вообразить, как отвечает на заигрывания бойких служанок Северин, и мир мерк перед глазами. Так где же была истина? Чья правота вернее?
И все-таки она осуждала Николая Артамоновича. Не за чувственность его, и не за ложь, в которой он жил сам и в которую вверг Софью Егоровну. Она винила отца за лицемерное малодушие, за то, что он, здоровый, крепкий, обеспеченный мужчина не гнушался навязывать свою волю близким, однако боялся идти против принятой в обществе морали. А судя его, Полетт судила и себя за измены супругу – о, разумеется, у нее, как и отца, были веские причины, но как же это было жалко, как унизительно жить не той жизнью, которая кажется правильной, а той, которая одобряема чужими людьми. И вслед этим мыслями в глубине души принималось ворочаться другое сомнение: не побоится ли она сама противопоставить зов сердца велениям света, коли судьба вынудит ее выбирать?
Жизнь оказалась куда сложнее, чем представляла Полетт. Покой был замутнен, безмятежность нарушена. Исчезло ощущение неизменности времени. Ласточкин овраг, и малинник на краю леса, и торфяной ручей, и полуразвалившаяся сторожка, заросшая иван-чаем, остались прежними. Но рядом с ними Полетт ясно понимала, как изменилась она сама. Невольно графиня принялась задаваться вопросом, а знала ли она когда-нибудь своих родителей? Скольким еще женщинами расточал свою благосклонность отец и сколько ее незаконнорожденных братьев и сестер бегает по двору? Идет ли приветливость матери от сердца или природная холодность охватила и материнские чувства тоже, и София Егоровна ласкова лишь оттого, что ласковость к детям ожидается обществом от женщины? Графиня понимала, что ее сомнения надуманы, но продолжала мучать себя, выискивая в лицах родных опровержение либо подтверждение своих мыслей.
И из-за этих сомнений мир вокруг тоже начал казаться зыбким и шатким, таяли привычные ориентиры, смещались представления о хорошем и плохом, дозволенном и запретном. Так ли уж нужно было и впредь хранить верность привычным идеалам, втискиваясь в них, точно в давно ставшее маленьким детское платьице, или настала пора искать новые?
[1] Персонификация духа леса в татарских и башкирских сказках.
Дорогие читатели! Если вам понравилась книга, поддержите ее своими лайками и репостами, чтобы о ней узнали другие. Хорошие книги должны ходить!
Любовь и лошади
Между тем близился зимний сезон. Не в силах справиться с внутренним разладом, Полетт воспользовалась этим поводом, чтобы вернуться в столицу. Первое, что сделала она по приезду и в правильности чего не сомневалась ничуть, это отправилась к своему управляющему справиться о делах – так убеждала себя графиня, хотя на самом деле ей просто хотелось увидеть Северина, услышать его мягкую речь и попросту убедиться, что ничего не переменилось за время ее отсутствия.
Она нашла управляющего на месте, за простым деревянным столом в окружении книг и бумаг. Северин поднялся, приветствуя ее. Против этикета графиня протянула руку для поцелуя. Она не в силах была противиться потребности коснуться его, чтобы хоть мельком, хоть вскользь впитать его живительное тепло.
– Добрый день! Как вы здесь справлялись без меня?
Это «как вы без меня?» и было главным, прочее – лишь словесной шелухой. Скажите, что скучали, безмолвно молила Полетт. Что места себе не находили, что считали дни до моего возвращения, перечитывали мои письма по сотне раз. Она и впрямь посылала ему весточки, якобы продиктованные необходимостью знать о происходящем в особняке. Но единственной потребностью их писать было желание получить ответ, понимать, что с Северином все хорошо, касаться бумаги, которую держали его руки. Письма эти, перевязанные шелковой лентой и переложенные сухими цветами, графиня привезла с собой в деревянном ларце.
Управляющий взял протянутую ладонь, коснулся губами запястья Полетт, отчего все ее существо пронзила сладостная дрожь. Графиня опустила ресницы, боясь ненароком выдать свои чувства. И вновь ожили воспоминания о том, какие чудеса творили с ней эти губы. Они и теперь были так волнительно нежны!
Полетт не торопилась отнимать руки, Северин отпустил ее сам, придвинул стул, предлагая садиться.
– Нет, нет, я не хочу покоя! – выдохнула Полетт то, что было у нее на сердце. – Пойдемте лучше во двор, там вы мне все расскажете!
– Как пожелаете.
Он подал руку, и Полетт облокотилась на нее. Ей казалась, будто вся ее жизнь длилась ради этого единственного мига, возможности раствориться в ощущении близости любимого человека.
– Поведайте, как вы коротали дни? Скучали ли по мне или напротив было рады, что некому тревожить вас назойливой болтовней?
– Вы наговариваете на себя, графиня. Вы ничуть не болтливы и еще в меньшей степени – назойливы. Но скучать не приходилось, слишком много дел набралось. Да какой прок повторяться, коли вы и сами знаете о них из моих писем.
– Давайте представим, будто почтовая служба работала скверно, и в нашу глушь не добралась. Я хочу услышать из ваших уст. Расскажите, завершилось ли обустройство конюшни?
– Желаете взглянуть?
Полетт кивнула, наслаждаясь ощущением его присутствия и тем, что у нее есть возможность следовать за ним – о, за Северином она отправилась бы на край света! Управляющий привел Полетт в конюшню и принялся показывать проведенные там изменения: перебранные заново и застланные свежей соломой полы, просторные денники, где лошади могли двигаться и отдыхать. С гордостью продемонстрировал запасы сена и соломы на зиму, рассказал про благоустройство вентиляции, про изразцы, которыми выложили стены для удобства уборки, про масляные фонари, установленные на смену опасным керосиновым.
– Вы совсем не любите лошадей? – затем спросил он. – Как по мне, так лошади куда лучше людей. Имя возможность выбирать, я бы предпочел их общество.
Графиня задумалась, стараясь более точно определить свое отношение:
– Не люблю не в том смысле, что они мне неприятны. Конечно же, лошади умны и красивы, я охотно катаюсь верхом. Скорее, я не разделяю всеобщей ими увлеченности. Не могу выбирать их, не знаю, как за ними ухаживать.
Лошади в стойлах тихонько фыркали, будто понимая, что речь идет о них, и выражали свое отношение к словам хозяйки. Графиня лукавила. Выросшая в загородном поместье, прежде она была очарована этими большими умными животными. Она умилялась резвым тонконогим жеребятам, восхищалась молодыми кобылицами с их гладкими боками и тихим призывным ржанием, изумлялась стати и напору горячих жеребцов и искренне жалела спокойных меринов, безропотно выполнявших самый тяжкий труд и также безропотно уходивших в иной, совершенный лошадиный мир с кристальными ручьями и изумрудной муравой, отдав свою жизнь на благо хозяину. Но все это было до того, как она вышла замуж, и Кристобаль ясно дал ей понять, что в его глазах жена стоит выше собаки, но несравнима с хорошим скакуном. Полетт не стала рассказывать этого Северину, ей вообще не хотелось говорить с ним о Кристобале.
Управляющий тем временем достал заранее припасенное яблоко и протянул его хозяйке:
– Вот, держите, я обещался Берте. Думаю, она не обидится, если вы угостите ее вместо меня.
Берта была чуткой каурой лошадкой с длинной шелковистой гривой. У нее был ровный характер, она не пробовала укусить или сбросить наездника либо утвердить свое главенство иным образом. Выезжая на верховые прогулки, Полетт предпочитала ее прочим лошадям. Кристобаль приобрел Берту на закрытом аукционе, но лошадь не оправдала его ожиданий, а посему он подарил ее супруге со словами: «Она прекрасно вам подойдет. Вам обеим не достает пыла». Полетт чувствовала свое родство с Бертой – обе они были отвергнуты.
Графиня подошла к деннику. Завидя приближение хозяйки, Берта вытянула длинную шею, скосила большой задумчивый глаз. Северин похлопал лошадь по шее, и Берта тихонько заржала в ответ. Полетт подумала, что сама охотно обратилась бы в кобылицу, лишь бы Северин также холил и нежил ее. Он-то явно не считал, что Берте не хватает пыла.
– Смелее! – подбодрил Полетт управляющий, ничего не ведавших о ее обидах.
Графиня слышала восторг в его голосе, с которым обычно он отзывался о конюшне и лошадях. На раскрытой ладони Полетт протянула Берте угощение. Та осторожно приняла его, обдав горячим влажным дыханием.
– Хотите еще? – спросил Северин у Полетт.
Я хочу вас, едва не сказала графиня, и чтобы слова не вырвались из ее уст, прикусила нижнюю губу. Она не хотела навязываться Северину без подтверждения того, что желанна, не хотела превращать его в особого слугу. Любое принуждение было противно тонкой, чувствительной натуре Полетт. Не дожидаясь ответа, управляющий протянул графине второе яблоко и на сей раз, точно вняв ее немой мольбе, не отнял руки, а стал позади и, приобняв за талию, подтолкнул ближе к деннику. Вечная, как мир, картина: мужчина, женщина и яблоко. Князь Антон тоже предлагал ей яблоко, но оно оказалось с гнильцой, это же был истинный плод райского древа.
Берта приняла подношение, слегка коснувшись губами ладони Полетт. Невольно графиня испытала прилив нежности – такой трогательной показалась ей осторожность этого большого животного. Было что-то волнующее в том, как Берта брала яблоко, как быстро съедала его, похрустывая, а затем склоняла голову, ожидая, не перепадает ли новое лакомство. Это прямодушное лукавство позабавило графиню.
– У вас найдутся еще яблоки? – спросила она Северина, не зная, чего ей хочется больше – порадовать Берту или вновь ощутить пальцы управляющего поверх своих.
Он рассмеялся:
– Кабы я знал, что вы пойдете со мной, припас бы целый мешок. Куда отвести вас теперь? Я взял на себя смелость нанять в ваше отсутствие садовника. Он привел в порядок сад и обещал высадить цветы в оранжерее. Сам я за ним не следил, хватало других дел, но коли вы приехали, можем вместе взглянуть на работу.
И вновь Полетт кинула, радуясь, что нашелся предлог остаться с Северином подольше, делить с ним заботы и свершения, слушать его голос, лившийся ей в уши почти чувственной лаской. В этом было некое светлое волшебство – рука об руку прогуливаться по саду, за несколько недель ее отсутствия превращенному в подлинное произведение искусства. Графиня помнила его буйно разросшимся, засыпанным мусором, с разрушенными клумбами.
Однако ныне перед ней предстала совсем иная картина. Кусты приобрели изящные очертания, клумбы были полностью восстановлены и засыпаны жирной темной землей, откуда-то из небытия извлечены кованые скамейки и мраморные статуи, расставлены вдоль дорожек и в живописных укромных уголках. Какие только растения здесь не росли, какие только цветы не радовали глаз! Пышные хризантемы и астры, роскошные розы с бархатными лепестками, гортензии нежных оттенков голубого, лилового и розового, душистые очаровательные петунии, стройные флоксы с пышными кистями соцветий, и розмариновые кусты, и кислый южный кизил, и высокие акации, спускающие до земли свои ветви, и многое, многое другое. Среди зарослей была расчищена дорога к ажурной беседке, рядом был замыслен водомёт с круглой чашей, над созданием которого как раз корпел один из слуг. На вопрос, где же садовник, слуга охотно пояснил, что тот отправился за новыми растениями.
Хотя Полетт и хотела отблагодарить садовника за старания, его отсутствие вовсе не расстроило ее, напротив, она радовалась нечаянному уединению с Северином. Они шли так близко, что чуткие ноздри графини улавливали его запах – так, верно, мог пахнуть солнечный свет, имей он физическое воплощение. Полетт боролась с желанием потереться, точно кошка, о своего управляющего, затем чтобы впитать этот солнечный запах и греться им в уединении.
Северин провел ее по дорожкам, заново засыпанным гравием, сопроводил к пруду, освобожденному от тины и засаженному нежными печальными ненюфарами. Управляющий держался с уверенной простотой, точно сам был владельцем особняка, и графиня в который раз порадовалась, что оставила за Северином это место – никого более подходящего она не смогла бы и измыслить. Ей осталось только пожалеть, что сад был не бесконечен, да и злоупотреблять временем Северина не хотелось, Полетт прекрасно помнила, как сама засиживалась допоздна, разбираясь с делами. По окончании прогулки она сердечно поблагодарила управляющего и спросила, может ли заходить к нему изредка, чтобы лучше вникнуть в хозяйственные вопросы.
– Разумеется, это же ваш кабинет, – последовал ответ.
Полетт от всей души надеялась, что он был искренним, а не продиктован уважением к ее статусу.
Столичный сезон
Ввиду начала сезона посыпались приглашения от старых друзей, узнавших о ее возвращении из-за границы, и от новых менжимских знакомых. Воротилась Женечка – томная, веселая, раздавшаяся пуще прежнего и гордая безмерно своею беременностью, которую она несла, точно хрустальную вазу. Баронесса Алмазова была из тех редких женщин, каких беременность не уродовала, а красила. Лицо ее ровно светилось изнутри. Вся она была обращена внутрь себя, прислушиваясь к происходящим в организме изменениям.
– На сей раз будет девочка, верно тебе говорю. С мальчишками меня тошнило постоянно, а тут ношу и не чую ноши. И всего хочется: то винограду, то дыни, то ананасов, все в радость. Так тепло внутри, так ясно. Мы с Алексеем Михайловичем решили назвать дочку Надеждой, ведь мы очень рассчитывали на ее появление. Кстати, чуть не забыла – граф Медоедов о тебе справлялся. Просил передать, что арендовал ложу в опере на весь сезон. Вот, привезла от него приглашение.
И закружилось: балы, рауты, визиты – аж скулы сводило от улыбок. Полетт совсем загоняла Аннету, за один только вечер меняя по три наряда. А уж когда графиня давала балы в своем особняке, с ног сбивалась вся прислуга: нужно было и надраить до блеска дом, и озарить огоньками сад с прудом, и приготовить яства для ужина, и поменять свечи в люстрах, и отыскать музыкантов (Полетт еще не обзавелась собственным оркестром), и, разумеется, все устроить к тому, чтобы хозяйка выглядела grand dame[1] на балу.
Графиня блистала. Остроумная, грациозная, утонченная, а как легко и изящно она двигалась в танце, будто облачко плыло по небесной глади! Все старые знакомые наперебой твердили, что годы только добавили ей шарма, превратив из робкой девочки в чарующую женщину, а знакомые новые согласно кивали. Один из даваемых графиней балов почтил присутствием сам император. Полетт встречала его лично, взяла под руку и по обитой красным сукном парадной лестнице, по обеим сторонам которой замерли лакеи в белых париках и алых ливреях, через анфиладу больших и малых гостиных провела в бальную залу, где гремела музыка, лился яркий свет и пары кружились в танце. Они вновь танцевали польку, государь нашел графиню прелестной и даже пожелал, чтобы придворный художник написал ее портрет.
Поклонники Полетт оказались ветрены. Игорь Остроумов, не снеся постоянной нужды, отрекся от своих революционных воззрений, воротился в лоно семьи и изображал примерного сына. Красавчик Алексис сделал предложение Аделаиде Тумановой, которое было воспринято той весьма благосклонно. Серго Верхоглядов, отчаявшись растопить сердце Полетт, перенес внимание на юную кокетку Агнессу Голубкину, задорно смеявшуюся над всем, что бы он ни сказал. Мишель Караулов стрелялся на дуэли, о том прознали недруги кавалергарда и донесли императору, который, не мудрствуя, отправил обоих дуэлянтов замирять непокорных горцев, напутствуя их словами: «Уж коли вы непременно желаете умереть, сделайте это во благо Родины». Государь не жаловал дуэлей. Самым стойким оказался Пьеро Поцелуев, все также преданно смотревший на графиню своими темными глазами с опущенными вниз внешними уголками, словно печальный спаниель.
Лишившись кавалеров, Полетт неожиданно для себя сдружилась с графом Медоедовым. Они были удобны друг другу – он не посягал на ее сердце, которое было прочно занято другим, она поддерживала его репутацию записного ловеласа. Граф и графиня встречались на балах, ходили на прогулки, наносили друг другу визиты вежливости и вместе ездили в оперу, которой Медоедов слыл большим знатоком.
Театр был полон. Дамы старались перещеголять друг друга роскошью и изяществом пошитых по последней моде нарядов, кавалеры были в бархатных фраках, в шелковых жилетах, многие – со сверкающими бриллиантами орденами на атласных лентах. В простых светлых платьях и непременном жемчуге, выйти без которого не позволяли приличия, прохаживались юные барышни, чья молодость была самым надежным из украшений. Полетт расположилась в ложе вместе с графом Серебряным. На старике свободно болтался синий фрак с фалдами ниже колен и округлыми передними полами, тощие, как у Кащея, ноги были обтянуты короткими панталонами и шелковыми чулками, парадные туфли с алыми каблуками сияли начищенными пряжками. При Медоедове были неизменная трость с серебряным набалдашником и слуховая трубка.
После первого акта граф и графиня раскланивались с общими знакомыми и обменивались впечатлениями:
– Как вам декорации и костюмы, граф?
– Великолепно! Эта алавастровая[2] белизна, подернутая тончайшими кружевами на фоне благородного тона бордоского вина…
– А ведущая актриса, мадмуазель Рено? По-моему, у нее замечательное меццо-сопрано.
– Belissimo[3]! Такая волнительная полнота. Не жалую я худосочных барышень, они начисто лишены страсти.
– А голос, понравился ли вам ее голос?
– Выше всяких похвал! Родинка в форме бабочки особенно завлекательна.
– Остроте вашего зрения можно лишь позавидовать. Я не разглядела у нее никакой родинки.
– Зачем разглядывать? Если позволите, я сей же час прижмусь к ней устами.
– Разве я вправе позволять или не позволять вам целовать мадемуазель Рено? Вам лучше спросить о том у нее.
– Вообще-то я говорил о вашей груди. Но насчет мадемуазель Рено вы подали чудесную идею, ее грудь тоже весьма неплоха.
– Однако вы шалун! Я хотела знать, как вам понравилась опера?
– К черту оперу, я слыхал ее сотню раз и не уловлю там ничего нового. Женская грудь – вот подлинное произведение искусства, в отличие от оперы ею можно наслаждаться бесконечно. В следующий раз не стану спрашивать дозволения, а просто сделаю. Будет, чем похвалиться перед внукам.
– Вы так убеждены, что их это заинтригует?
– Я сказал перед внуками? Вы, несомненно, правы, графиня, этих балбесов уже ничем не удивить. Конечно же, я имел ввиду правнуков. Позвольте отлучиться на минуточку? Схожу за кулисы, спрошу у мадмуазель Рено, быть может, в отличие от вас она не против поцелуев?
– Граф, постойте, куда же вы? Вот-вот пригласят на второй акт! Граф, вы позабыли свою слуховую трубку!
Однако, чем больше графиня окуналась в великолепие светской жизни, тем сильнее в ней разочаровывалась. Ей нечего было искать в пышных гостиных – она не нуждалась в высоких покровителях, не жаждала значительных друзей, не интересовалась чужим богатством. Ее утомляли бесконечные пересуды: кто как одет, кто с кем танцевал и что бы это значило. Когда же Полетт пыталась говорить о том, что волновало ее саму, графиню вежливо выслушивали, а затем столь же вежливо отметали в сторону. Искренность в свете была не в чести.
– Вы слыхали, Мари, княжна Разинкова сошлась с гвардейцем из Преображенского полка?
– Нет, Катрин, не слыхала еще. И как далеко у них зашло?
– Княжну спешно выдали замуж за дальнего родственника и отправили за границу лечиться. Верно, вернется с ребенком. А вы как рассудите, графиня?
Разговор происходил в гостиной дома Милорадовых, обставленной богато и с большим вкусом. В нем участвовали хозяйка дома Катрин Милорадова, бывшая фрейлина императрицы, до сих пор в силу привычки прекрасно осведомленная о делах двора, затем Мари Бородина, супруга президента Академии художеств, археолога и историка Якоба Карловича Бородина, постоянно находившегося в разъездах, и волю случая – Полетт, заехавшая с визитом.
– Отчего бы ей не вернуться с ребенком, коли она замужем? – спокойно ответствовала графиня. Она не имела чести знать ни княжну Разинкову, ни тем паче безымянного гвардейца Преображенского полка, бывших героями обсуждаемой драмы.
– Вот в этом-то и соль, замужем она всего ничего, и коли ребенок появится на свет прежде срока, всем станет ясно, кто его отец.
Мари Бородина в этом сезоне вывозила в свет вторую дочь, что давало ей все основания почитать себя дамой опытной и умудренной в житейских вопросах и делиться свою премудростью с окружающими, независимо от их на то желания.
– Я полагаю, отец ребенка законный супруг.
– Не будьте так наивны, Полетт! Ужели эта загадка нисколько не занимает ваше воображение?
– Боюсь, что нет.
– Чем же вы развлекаетесь тогда?
– Занимаюсь переустройством имения. Меня не было в столице тринадцать лет, многое поменялось с тех пор. Пользуясь случаем, хотела бы просить свести меня с архитектором, который планировал вашу оранжерею. Моя чрезмерно велика, зимой ее сложно будет обогреть. Управляющий подал идею переделать ее под теплицу, это позволило бы значительно уменьшить расход дров.
– Вы изволите шутить, графиня? Ужели вас волнуют столь низменные материи? Цветы – просто чудесно, но уход за этими хрупкими созданиями – забота моего садовника. Как вы говорите, звали того гвардейца, Аннет?
Полетт жила двумя жизнями: одной блистательной, светской, напоказ, другой – сокрытой от досужих глаз, тихой, домашней. Первая была данью обществу, вторая – жизнью сердца. В перерывах между светскими развлечениями графиня полюбила сидеть в кабинете своего нового управляющего. Она говорила Северину, будто хочет вникнуть в особенности руководства имением, но подлинной причиной было желание находиться с ним рядом, дышать одним воздухом на двоих, касаться предметов, хранящих тепло его рук. Полетт смотрела, как Северин склоняется над бухгалтерскими документами или разговаривает с прислугой, как подрагивает перо в его руке, когда он выводит на бумаге ровные ряды цифр. Она знала, что он хмурится в минуты задумчивости, и каждый раз боролась с желанием стереть морщинку с его лба поцелуем. Она приказала обставить кабинет новой мебелью, установить наполненную горячими углями жаровню для обогрева, а на стены заказала копии полотен Микеланджело и Тинторетто, чьих героев Северин ей напоминал.
Для своих визитов Полетт выбирала тонкие платья из муслина с открытыми руками и плечами, подчеркивающие ее женственность, просила Аннету сооружать затейливые прически. Она всячески старалась привлечь внимание Северина: то становилась у него за спиной, будто ненароком касаясь грудью плеча, то снимала несуществующие пылинки с его сюртука. Засыпая, графиня твердила его имя вместо молитвы и просыпалась с его именем на устах, а между этим были жаркие тайные сны – ах, если бы только сны и реальность поменялись местами, она стала бы счастливейшей женщиной на земле. Увы, Северин будто не замечал ее кокетства, в обращении с нею был неизменно тактичен и вежлив, но и только. И это сводило Полетт с ума. В своей вежливости Северин казался ей более жестоким, чем его бывший хозяин – тот хотя бы откровенно ее желал.
Вращаясь среди светского общества, она не могла не столкнуться с князем Антоном. Это случилось на одном из балов. Приглашенная на котильон своим неизменным поклонником Пьеро Поцелуевым, после перехода графиня оказалась vis-a-vis[4] князя. Он ничуть не изменился с их последней встречи: был также надменно-изыскан, также красив и, пожалуй, даже сильнее прежнего походил на Мефистофеля. Полетт положила левую руку с зажатым в ней веером поверх его руки в белой перчатке, стараясь встать так далеко, как только было возможно. Князь насмешливо вскинул бровь:
– Боишься?
Вместо того, чтобы взять Полетт за другую руку, он обхватил ее за талию, притянул к себе и закружил. Полетт не поддержала его развязный тон, вбивая между ними официальное «вы», как в старину разделяли мечом спящих на одном ложе.
– Вы выбиваетесь из такта, князь.
– Напротив, создаю новый такт. Я люблю котильон за то, что он предполагает импровизацию. Но ты, как я помню, предпочитаешь во всем следовать традициям.
К радости Полетт, настал черед перехода, и на некоторое время она была избавлена от общества Соколова.
– Он досаждает вам? – исполняя chaine anglaise[5], спросил Пьеро, от внимания которого не укрылось вольное обхождение князя.
– Ничуть, – запротестовала графиня, не желая вмешивать Поцелуева в их с Антоном вражду.
Пьеро облегченно выдохнул:
– Стало быть, нет повода вступаться за вашу честь?
– Что вы, конечно же нет. Упаси вас Боже стреляться!
– От сердца отлегло. Я плохой стрелок. У нас в доме не было пистолетов. Цыганка нагадала матушке, будто мне следует стеречься шальной пули, и она приказала выбросить их все.
Они закружились, а затем разошлись, и Полетт вновь оказалась напротив князя. На сей раз ей лучше удалось овладеть своими эмоциями.
– Еще не натешилась местью? – спросил Антон, когда они сходились.
– Простите? – меняясь с ним местами спросила графиня, заслоняясь холодной вежливостью, будто щитом.
– Не наигралась моим слугой? Признаться, я привык к его услугам.
– Теперь это мой слуга, – успела ответить Полетт, прежде чем музыкальные волны вновь разнесли их по сторонам.
Ей впору было ненавидеть Соколова, однако по прошествии времени она не находила в себе ни ненависти, ни злости. Обладающая очистительной силой любовь смыла все прочие чувства: и страх, на который намекал Соколов, и жажду мести, что так рьяно разжигала в себе сама графиня. В какой-то мере она даже была признательна князю за ту ночь, ведь если бы ее не случилось, Полетт никогда не узнала бы Северина, не изведала пьянящий вкус его ласк.
[1] Первой дамой, важной особой.
[2] То же, что и алебастровая.
[3] Прекрасно (итал.)
[4] Визави – человек, который находится напротив. Образовано от французского vis-a-vis – «лицом к лицу». В данном случае используется в значении танцующих друг против друга.
[5] Фигура, во время которой партнеры vis-a-vis подают друг другу правые руки и меняются местами.