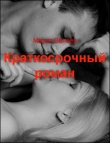Текст книги "Далекое имя твое..."
Автор книги: Наталия Никитина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Имре поймал себя на том, что готов свернуться прямо вот тут, у поваленного дерева, и замереть, как зверь в норе, но заставил себя встряхнуться и наметить новый участок, чтобы перебрать его по щепочке, по травинке. «А вот что чернеет?» Рука его вдруг нащупала что-то густое и липкое. Кровь! Чужая человеческая кровь. Холодная, почти застывшая, перепачкавшая траву.
Имре инстинктивно отдернул руку и попытался тут же оттереть кровь мокрой травой, но она не оттиралась, сразу же въевшись, как живая.
«Здесь, ну да, вот здесь он дернулся и упал. Душа его, наверное, и сейчас витает где-то совсем рядом».
Имре суеверно оглянулся, поглядел вокруг себя, словно действительно ожидая увидеть душу убитого им человека. Ему сделалось страшно.
«Господи, кто я? Я же убийца!» – со всей ясностью вдруг осознал Имре. Его трясло. То ли от холода, то ли от страха и осознания того, что превратился в убийцу.
– Господи, кто я?
Имре вспомнил молитву, которой когда-то научила его мать. «Если тебе будет плохо», – сказала она.
Ему было плохо. Хуже некуда.
«Пусть говорят: „Ты солдат, ты выполняешь свой долг, ты должен быть стойким, смелым и мужественным, чтобы защитить родину“. Но кого защищаю я? Вот, пришел на чужую землю и лишил жизни такого же человека, как я сам…»
Он хотел подняться. Боль в ноге пригвоздила его к земле. Нога показалась чугунной. Имре не знал, что делать. За что просить прощения у Господа? Откуда ждать помощи? Поднял руку, хотел осенить себя крестом – и снова почувствовал на ней липкую холодную кровь.
Мелкий дождь постепенно расходился, съедая серебро кое-где заиндевевшей было травы. Имре вырвал пучок и, сложив его вдвое, наподобие мочалки, попытался оттереть руку. Наверное, рука уже стала чистой до белизны, но остававшееся ощущение выворачивало. Казалось, теперь не отмыть ее навсегда: что ни делай, до конца жизни след чужой крови останется на ней.
И в страшном сне Имре не ожидал увидеть себя в подобном положении: ночью, ползающим в неизвестном лесу, посреди поляны, под ледяным дождем. Еле волочащий ногу, с распухшим лицом, он сам себе казался раненым вепрем, сумасшедшим, потерявшим надежду, висящим над пропастью на единственной ниточке и все-таки карабкающимся и изо всех сил надеющимся на чудо.
Нет, не о кортике он уже думал. Память проваливалась, усталость вгоняла в сон, и только невероятным усилием воли он заставлял себя продолжать начатое, хотя минутами и забывал, зачем он здесь. Поэтому когда пальцы прикоснулись к чему-то кожаному, он вначале подумал, что это каблук от солдатского сапога. Хотел отбросить в сторону, но внезапно догадался: это ж бумажник! «Да, да! Бумажник. Выброшенный? Но зачем выбрасывать бумажник в глухом лесу? Пустой?.. Нет, что-то есть в нем. А что, если это чьи-то документы? Но зачем они мне?»
На всякий случай он сунул бумажник в боковой карман летной куртки. «Здесь где-то должен быть и кортик».
Отупевший от боли, от ломоты во всем теле, с пустым желудком, он еще часа два безрезультатно пробарахтался на мокрой полянке.
Приступ голода все отчаяннее выворачивал желудок. Однажды во время какого-то путешествия в горах Имре испытывал подобное. Но то было в нескольких километрах от ближайшей сельской харчевни. Запах черного хлеба показался тогда каким-то божественным. Уже у себя дома Имре пытался найти хлеб такой же вкусноты, но, так и не найдя, понял, что только наработавшийся человек может оценить вкус ржаного хлеба.
Тут не будет теплой харчевни. Тут даже не Венгрия.
Имре слышал где-то, что чувство голода на третьи или четвертые сутки исчезает, но как пережить эти трое суток? И переживу ли я? А еще этот мелкий нудный дождь! Кажется, он решил просочиться до самого сердца, до остававшегося крохотного кусочка тепла. И скоро доберется: то усиливающийся, то почти прекращающийся дождь, от которого некуда спрятаться. Имре душил в себе приступы отчаяния. В минуты просветления заметил, что временами теряет сознание. Адский холод, промокшая одежда, общее состояние выбивали из него последние силы. Что это? Конец? Стоит только поддаться настроению, задремать – и прямо здесь окочурится он, как выброшенная мокрая тряпка. «Может, и не надо было скрываться с вывихнутой, а, скорее всего, поломанной ногой? Ну, пусть бы взяли в плен, сунули бы в какой сарай. По крайней мере, и крыша над головой, и кинули бы корку хлеба».
«Так начинается предательство? Так пропадает человек, – возражал кто-то за Имре. – Но кого я предам? Расскажу, где располагается мой аэродром? Здесь вот он располагается сейчас, в темном непроходимом лесу, где летают только желтые листья, если еще не успели опасть».
Он так задумался, что, показалось, сходит с ума: поляна вдруг осветилась каким-то призрачным, потусторонним светом. Обозначились контуры кустов и деревьев вокруг. Словно некий дух снизошел сверху, белым саваном накрывая гибельное место.
Имре не сразу догадался, что дождь превратился в снег и медленными крупными хлопьями, как цветами, заполонил пространство.
Откуда-то, сразу не определить расстояние, донесся треск автоматной очереди. В ответ раздалась другая. Очевидно, где-то за лесом. Из последних сил Имре выломал палку из подвернувшейся орешины и, помогая себе ею, пополз на звук автоматной перестрелки.
«Где-то здесь должен быть кортик! Мне нужен кортик!» – бормотал он, падая лицом в траву.
* * *
С окончанием Первой мировой войны на карте Европы появилось много новых стран, которые стремительно стали строить свою государственность, уделяя повышенное внимание всем ее атрибутам. Кортик занял среди них особое место. Он стал знаком власти, вожделенным символом превосходства избранного над другими членами общества, знаком отличия рангов военнослужащих и даже гражданских чинов.
Клинок, рукоять, крестовина, эфес, лезвие, наконечник, острие – для посвященного каждая деталь – раскрытая книга, при одном взгляде на которую оценивается прежде всего обладатель этого предмета.
Отец Имре, кадровый офицер генерального штаба, не уходивший в отставку, несмотря на давнее ранение в ногу, видевший свою жизнь в верном служении Венгрии до последнего вздоха, перед тем как возвратить сыну его кортик, молча за какую-то минуту успел прокрутить в памяти всю свою жизнь. Будто перелистывая собственный послужной список: не опозорил ли где ненароком чести офицера…
Нет, совесть его чиста. Он сберег честь офицера, и теперь очередь сына.
– Храни до конца дней своих этот кортик. Будешь замерзать – согреет, будешь умирать – станет твоим верным товарищем.
«Как сохранить?» – хотел спросить Имре. Но вошла мать, встала незаметно поодаль, одновременно со сдержанностью графини внешне не проявляя чувств.
– Береги себя, сынок.
Отец невольно покосился на нее. Но ничего не сказал, только сделал какое-то горловое движение, шевельнул седой головой. Но мать и без того поняла, улыбнулась ободряюще:
– Сразу на фронт… Не забывай о себе сообщать, сын. Мы волнуемся с папой.
Последнее у нее вырвалось непроизвольно. Не отдавая себе отчета, она выразилась так, как если бы перед ней стоял не молодой стройный офицер венгерской армии, а маленький кудрявый Имре лет шести-семи от роду с распахнутыми детскими глазами. И отец заметил это, и сам Имре.
С одной стороны, было неловко чувствовать себя эдаким несмышленышем. Как никогда хотелось погарцевать, показаться перед родителями в полной красе. Вот, мол, какой у вас сын вымахал: ростом с отца, а то, может, и чуть выше, если незаметно привстать на цыпочки. С другой стороны, какое-то щемящее тепло вместе с тихой грустью облило сердце Имре. Хоть и говорят «на фронт, как на прогулку», – но как оно обернется на самом деле, едва ли кто знает…
– Позвольте-ка я взгляну, – увидев офицерский кортик, мать, не выдавая волнения, протянула руку.
На самом деле материнская гордость за возмужавшего и заслужившего свой знак отличия сына сдавила грудь. Вспомнилось почему-то, как однажды весной, будучи шаловливым ребенком, как и все в его возрасте, провалился в рыхлый сугроб, на дне которого оказалась яма с водой. У нее и сейчас перед глазами картина, как он беспомощно барахтался с недоумением на лице, как она, к ужасу домочадцев, бросилась спасать его и мокрого, напуганного несла на руках в тепло дома.
Слава богу, ребенка быстро раздели, растерли сухим полотенцем, уложили в кровать под теплое одеяло, напоили горячим чаем с малиновым вареньем, вызвали доктора.
Переполох был на весь дом. И потом еще долго с охами и ахами обсуждали, как могли оставить ребенка одного, без присмотра и как он героически барахтался в снежной жиже, как в мыльной пене.
Он тогда подцепил простуду, и две недели его не пускали на улицу. А когда вышел, уже первая травка на пригреве ошеломила его. А солнце было такое яркое и горячее, что он зажмурился от неожиданной перемены.
И это вспомнила мать, и многое иное. Картины одна четче другой промелькнули в памяти. И вот она уже держит кортик сына. Знак отличия. Знак чести и доблести.
– Красивый какой, – сказала она с женской непосредственностью.
В другое время мать, может, не позволила бы себе проявить излишнюю возвышенность чувств, с которыми произнесла последнюю фразу, если бы не сложившиеся обстоятельства: с одной стороны, торжество по случаю окончания сыном военного учебного заведения, с другой, – горечь расставания в связи с отправлением не в романтическое путешествие, а под пули, в кромешный ад войны.
Сколько бы ни кричала гитлеровская пропаганда о блицкриге, война есть война. Причем развязанная не Венгрией. Каждому дураку ясно, что Венгрия тут ни при чем. Она между двух огней. Не все ли равно, какой огонь опалит ее сына. Все больно. Но истинный венгр не станет никому жаловаться. Честь для него превыше всего.
Мать не стала говорить сыну этих красивых слов. Он и без них вместе с грудным молоком впитал в себя их смысл.
Молча переглянулись отец с матерью.
– Ладно, – сказал отец, – за столом договорим…
* * *
Ему казалось, он поднимается в гору. Трудно, шаг за шагом, с камня на камень. Тропинка – среди густых ельников… Ельник столпился у подножия горы и не пускает вверх. Растопырился, распустил свои иголки на упругих ветках, крепкий, кряжистый, – никак пускать не хочет. Там, выше, ельник реже и реже: в проем видно. Будто ему самому трудно взбираться в грузной шубе. А Имре обязательно нужно взобраться. Вот он поставил одну ногу на выступ, перекинул тело вперед. «Схватиться бы за что-то». Руки ищут опору, хоть какой-нибудь корешок, вымытый паводком, нечаянную выщерблину. Но каждый раз пальцы натыкаются на колючки, царапающие в кровь. Он уже не обращает внимания на боль, на тяжесть. Он считает медленные шаги вверх: «Раз, два, три…» Дыханье срывается, пот заливает лицо, каждая мышца напряжена, болит.
Вот еще один просвет. Там, наверху, ельника меньше, зато тропинка круче. И не тропинка даже, а только намек на нее. Кому ж тут ходить?
«Где я? Надо остановиться, отдышаться, стереть пот с лица. Он заливает глаза, – невозможно смотреть. Щиплет».
«А кто тебя торопит? Отдохни, одумайся. Может, наверху кто-то ждет тебя?» Кажется, кто-то ждет. Никак не поднимается нога, словно засосало по колено. На мгновение отчаянье бессилия охватывает его. «Пошло все к черту! Я не обязан карабкаться изо всех сил, будто муравей с соломинкой. Да, это муравьи проложили тропинку, еле заметную тропинку, отшлифовали камни, которые топорщатся из корявой шкуры горы, дразнят, разговаривают с тобой: А я выше взобрался, я выше…»
Имре собирает все силы, словно от этого зависит будущее земли, судьба каждого человека и тех двух мальчишек, которые, как воробьи, прошмыгнули мимо, когда Марта хотела поцеловать его, собирает силы и переносит тяжесть ноги чуть выше и неожиданно оказывается на самой вершине Матры.
Ах, как слепит глаза от простора! Невозможно оторвать глаз от этих наползающих друг на друга пирамид, нескончаемых, неисчислимых. Дыханье захватывает от красоты. Невозможно насмотреться, так и стоишь, околдован. Нет, уже и не стоишь, а паришь над ними. Плавно-плавно, как, наверное, парит орел, еле шевеля кончиками крыльев и головой, чтобы не дать воздушному потоку сбить себя, унести в сторону. А ноги вновь наливаются тяжестью и превращаются в авиационные бомбы, которые надо сбросить с этой высоты.
– Это же Матра! Наша Матра! Это же моя Венгрия! Разве можно на нее сбрасывать?! – пытается закричать Имре, но звуки застревают где-то внутри него.
Только едва шевелится язык:
– Матра! Венгрия…
– Коля! Коля! – вдруг слышит он над собой мягкий женский голос, явно обращенный к нему.
«Но почему Коля? Я не Коля?» – хочет произнести он и снова проваливается в безумную темноту, из которой постепенно вырисовывается опять тот же густой ельник у подножья горы, и снова надо карабкаться к вершине, с которой он уже видел с одной стороны пологий склон, с другой – крутой обрыв…
Кто-то осторожно, едва касаясь, отирает пот с его лица: вначале со лба, потом…
– Ма-ма, – тихо шепчут его губы или так кажется, а рука пытается дотронуться до руки с полотенцем.
Но пальцы нащупывают на лице хвойные иголки. Будто превратился в елку на склоне Матры. Вдруг слышит резкий старческий голос на русском:
– Отойди от него, внучка. Отойди! Раненый – не игрушка.
«Раненый?.. Но почему на русском? Я в плену?» Некоторые слова Имре не разобрал, но и те, смысл которых дошел до него, не совсем понятны. На всякий случай он замирает, не открывает глаза.
Проснувшаяся мысль начинает оттаивать в голове, связывать ниточки событий. Постепенно, все нарастая и нарастая, как огонь по сухой степной траве, память охватывает все тело, возрождая происшедшее. И тело, и мозг, и каждая клетка отзываются судорогой. И Имре, пока мозг лихорадочно ищет хотя бы крохотный кончик, за который можно зацепиться и найти выход, замирает еще глубже, будто в панцире.
Бок, ноги, лицо, как чужие. «Но где я? Если я в плену, то почему „внучка“? Чей это голос?»
Имре ощущает, что лежит в тепле, на жесткой постели, что вокруг никаких посторонних, кроме старика и девушки, а на лице не елочные колючки, а щетина.
«Но почему Коля? Они думают, что меня зовут Колей? Они думают, что я русский, – вот что! Но откуда они взяли, что Коля? Разве у русских одно имя Коля? Или им нравится звать меня Колей?»
Сознание опять заволокло какими-то немыслимыми видениями, где нужно преодолевать, преодолевать, преодолевать…
– Коля! Коля! Коля! Очнись же! – вкрадчивый женский голос, ласковый, как теплый луч солнца.
Имре открыл глаза. Молодая светлая женщина сидела рядом на табурете и в деревянной ложке подносила горячий настой к едва раздвигавшимся губам Имре.
– Горький? Да?
Он утвердительно моргнул.
– Ничего. Зато полезный. Вот, полкружки надо выпить…
Она показала на металлическую кружку в руке и улыбнулась:
– Пока горячий. Полезно.
Имре не все слова разбирал. Сейчас он был благодарен себе за то, что изучал русский. Но тогда была прихоть: желание прочитать Достоевского в оригинале, Пушкина, Гоголя… Так и не успел: прошла мода. Теперь это язык неприятеля.
Имре не торопился обнаружить себя вопросом «где я?». И без того ясно: на чужой территории. В госпитале? Не похоже. Необычная тишина, будто нет никакой войны, и – домашнее тепло и эта молодая женщина во всем домашнем. Круглое лицо, добрые глаза, чуткие руки.
Женщина поднялась, отошла куда-то. Скосил взгляд, уловил осколок зеркала на стене у стола. Глянул и тут же отвернулся: не узнал себя. Обросшее, опухшее лицо, воспаленные глаза, царапина. Хотел повернуться – боль остановила.
– Лежи, лежи…
И тут же радостным голосом:
– Деда! Очнулся…
– Очнулся? Ну, вот и ладно, – старческий хрип со стороны печки. – Считай, спасли божью душу. Теперь на поправку пойдет. Ты его отваром, отваром пользуй. Он целебный, давно проверено… Слышишь, Ольга?
– Я и так уж… – кротко ответила та. – Бог даст, поднимем.
В ответ послышался еще более хриплый кашель старика, звук раскуриваемой трубки. Непривычно крепкий табачный дух заполонил избу.
– Ты бы не курил, дедушк.
– Еще что?
– Тебе же хуже. Всю ночь сегодня дохал страшней пушки. Легкие-то пожалел бы.
– Теперь жалей не жалей… – обреченно отвечал дед, – смолоду не жалел, чего теперь беречь?
Помолчал, очевидно, размышляя, обратился к Имре:
– Тебя как, Николай кличут, что ли? Из каких частей-то?
Непривычно для уха звучал русский язык. «Что такое „часть“? Собран из каких частей? Из какого рода войск?» – догадался Имре, не торопясь отвечать. Сам себе напоминал ребенка, который закрывает лицо ладошками, считая, что спрятался.
– Не мучил бы ты его, дедушк. Слаб он еще, – по-своему поняла Ольга замешательство Имре.
Но Имре понял вопрос, подобрал нужное слово:
– Са-мо-лет… – произнес он по слогам.
– Самолет? Это что же, летчик, что ли? Недавно у нас тут грохнули одного. Вот те на!.. – догадываясь произнес старик.
И под грузным его телом заскрипела деревянная приступка: слезал с печки.
– А зовут как?
– Имре…
– Имре? Это что ж за имя такое? Иван, что ль? А по документам – Николай. Почему?
Имре увидел перед собой еще довольно крепкого сухощавого старика, седого, с подстриженной бородой. Видно, внучка не давала запускать.
– По документам, говорю, ты Николай Иванович Краснов. Вот документы!
Старик протянул руку к шкапчику, достал тот самый бумажник, который Имре нашел на поляне.
– Шпион, что ль?
Прямолинейность, с какой старик задал вопрос, сама собой предполагала, что старик не верит ни в каких шпионов, хотя и сомневается.
– И по-русски понимаешь… Да-а! И имя-то какое иностранное. Это ты все, – кивнул он Ольге: – «Дедушка, дедушка, это наш русский лейтенант, раненый». Где ты разглядела, что русский? За кем же мы с тобой неделю ухаживали? Кого ж мы домой приволокли?
Старик озабоченно сосал трубку, пуская ядовитый дым самосада. Странная трубка у него была: головка, похоже, из сырой картошки вырезана, мундштук – костяной. Самоделка. Где сейчас трубку купить?
– Живой человек замерзал, дедушк, в крови, – оправдывалась Ольга. – Ты сам меня наставлял: каждую тварь Господь сотворил, ему и распоряжаться… А документы, – они вон у него есть. Или это не твои документы? – обратилась она к Имре.
Он отрицательно шевельнул головой.
– Вот же сказано: область, район, деревня Климовка. И год рождения, – все есть. И даже фотокарточка дареная, – показала девичий снимок. – Не твоя девушка? – спросила, будто и без того не ясно, если документы чужие. – А я гляжу: красивая невеста-то. Вот и надпись: «Единственному и любимому… Настя». Как документы-то у тебя оказались?
Имре молча слушал, не зная, как вести себя: больной, безоружный, беззащитнее младенца. «Что они со мной сделают? Интересно, далеко ли фронт?»
– Какие ж это документы, если не его? Эт мы с тобой «документы, документы»… А оно, гляди, фотокарточка-то, если приглядеться… Хотя чем-то и похож вроде. Да щас и не разберешь, – зарос весь. Ну ладно, Имре так Имре. Всякая тварь жить хочет, – вслух рассуждал старик. – Это, я помню, по молодости притащил раненого медвежонка. Охотники медведицу убили, а подранок-то ушел, видать, сперва, а потом обнаружил себя. Сам в руки полез с голодухи. Как дитя малое. Отец, царство ему небесное, – «зачем, мол, принес, это тебе не игрушка». А мне жалко. Пропадет, думаю… – отвлекся старик в воспоминания.
– Ты же не первый раз рассказываешь, дедушка, – остановила его Ольга.
– Старый, видать, стал. Вот и рассказываю. Кого мы в дом-то с тобой приволокли? Вот что хочу знать.
Дед снова зашелся кашлем от курева. Казалось, его легкие сотрясались, готовые выскочить наружу. Он по-бычьи крутил седой башкой, будто собирался бодаться. Сизый дым неподвижно пластался под клееным в разводах от потеков потолком.
– Ну зачем же себя так изводить, дедушка? На-ка, глотни воды. Совсем ты у меня от рук отбился, – засокрушалась Ольга, подавая деду кружку.
Он отрицательно замотал головой, открыл дверь, отхаркался, как труба паровозная. Казалось, вот-вот концы отдаст. Даже Имре стало не по себе. Живет человек в глуши, жжет легкие крепчайшим самосадом. День за днем, неделя за неделей движется во времени до своей конечной станции.
«А я кто? – думал Имре, пока старик откашливался. – Еще вчера был самым счастливым, полным надежд, влюбленным по уши и любимым. Чуть ли не единственная забота – как лучше провести время…»
Неужели такое было? Имре казалось, он целую вечность лежит в избе этого старика и молодой хозяйки, которая приняла его за русского, поэтому и ухаживает за ним. Если бы не эти два человека, лежать бы ему среди леса под снегом окоченевшим трупом. Весной по теплу звери и птицы растащили бы во все стороны. Талая вода и дожди промыли бы до белизны кости. Ни одна душа не определила бы, что это молодой венгерский офицер, обладатель прославленного кортика военно-воздушных сил. А найдя рядом документы русского офицера, так бы и похоронили как Николая Краснова, советского офицера, героически павшего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вот такая веселая картинка.
– Оля… – произнес Имре, словно пробуя на слух новое имя.
– Тебе плохо? – наклонилась она озабоченно.
Мысли путались. Имре впадал в беспамятство и снова выныривал в реальность. И неизвестно было, что сейчас страшнее.
Память об Марте ушла куда-то на задний план, обволоклась густым непроницаемым туманом. А была ли Марта на самом деле? Может, приснилась, выдуманная с начала до конца? Нет, было что-то невыносимо тяжелое, из-за чего ни на минуту не прикрыл глаза перед полетом. С этой тяжестью и вылетел на второе задание. Окажись отдохнувшим, скорее всего, избежал бы гибели самолета. Все было бы не так, как случилось.
Неужели это из-за Марты? Впрочем, какое теперь имеет значение? Нет ее больше и не будет. Даже если удастся выкарабкаться из нынешней передряги.
В голове шумело. Словно наполненная чем-то тяжелым, она не давала возможности сосредоточиться. Одна и та же мысль появлялась и ускользала: «Меня спасли совершенно незнакомые люди, старик и внучка. Вот эти русские. Сколько я всякого слышал о русских. Я летел бомбить их, а они пытаются поставить меня на ноги».
– Оля… – и опять перед собой он увидел участливый взгляд, – Оля, скажи дедушке: я – мадьяр.
– Ты сам и скажи, – улыбнулась она, – или стесняешься?
– Не, – Имре обессиленно прикрыл глаза.
– Мадьяр? Это что ж, венгр, значит? Или как? – переспросил старик.
Имре подтвердил глазами.
– То-то, гляжу, на немца ты не похож. Больше на наших. Чернявый. Имре, значит. Война все перебаламутила. Внучка-то почему со мной? Наши придут, – прячь. Девку не пропустят. Немцы придут – еще хлеще. Только б напакостить. Пряталась. Пса застрелили. Пес им помешал. Ведь только несколько дней как отхлынули… А что тут было-то! Не приведи Господь. А теперь вот ты – ни наш, ни немец… Внучка пошла дровец набрать, прибегает: «Раненый замерзает!..» Вот он ты и есть, – раненый. Как цыпленок из скорлупки.
Старик хмыкнул от подвернувшегося сравнения Имре с цыпленком из скорлупки…
В общем-то дед был настроен миролюбиво. Сколько бы ни ворчал, все решала в конце концов Ольга. Она и хозяйство вела после того, как фронт откатился от их дома и дед перестал ее прятать, и стряпала, и печку топила, и сушняк собирала в лесу на растопку.
Да мало ли чего надо делать по дому? Простые щи сварить, – и то ноги оттопчешь. Не зря в старину говорили: дом вести – не лапти плести. А то еще стирка, уборка, уход за стариком. Последнее время поясницей измаялся: перенервничал, видать.
– Откуда ты, малый? – не оставлял дед желание докопаться до истины.
Имре и самому интересно, как он остался жив. Там целая группа русских была. То ли в плен вели, то ли на расстрел. Хотя расстрелять где угодно можно. А тут самолет на бреющем свинцом полил, как грядку из лейки. Потом еще раз зашел для верности.
Не судьба, знать, Имре лежать в земле сырой. Некому его тут хоронить. И замерзнуть окончательно не успел. Вот эта вот девчушка ласковая на замерзающего набрела. Как объяснить деду?
– Что-то ты не договариваешь, парень, – прокряхтел тот. – Нам-то все равно, да есть люди, им, чего не было, скажешь… По себе знаю.
– Ну и не мучай его, дедушк, если по себе знаешь… – упрекнула Ольга, не давая развить мысль.
– Ты-то что вступаешься? – вытаращился дед в удивлении.
– Я не вступаюсь, я говорю – не до разговоров ему еще, – оправдываться стала.
Дед недовольно пыхнул трубкой и, накинув тулуп, вышел во двор. Ядреный морозный воздух сладким клубком вкатился в избу, растворяя табачный дух.
«Уже зима. Сколько же я лежу?.. А голова… Так и кажется, сейчас треснут мозги».
Имре опять провалился в бред. Опять представилось: самолет на бреющем, разбросанные тела, схватка…
Он напрягает память, пытаясь восстановить момент, когда выхватил кортик. Пробует остановить время, прокрутить назад, чтобы все пошло по-другому. Еще не знает как, но уверен: должно быть по-другому. Не должно быть крови…
– Попробуй уснуть, – наклонилась Ольга. – Теперь ты очнулся. Вечером еще отвару примешь. Спи!
* * *
В первый раз за многие дни Имре привиделся сон. Как ни странно, был он на редкость спокойный. Будто солнце ласкает, и находится он на родной венгерской земле. Уже от одного этого покой и радость в душе. И никакой войны нету, а есть самый расцвет весны. И в старинном венгерском наряде с плетеной корзиной в руке будто ходит по суходолам, по лугам просторным, по мокрым балкам некая красавица, собирает лекарственные травы, лечебные корни отыскивает в земле. Травка к травке, корешок к корешку складывает аккуратно, а сама песню негромкую напевает. А вокруг от птичьего пения цветы распускаются, лицом к солнышку поворачиваются. И все это, чтобы его вылечить, – Имре.
И уже корзинка полнехонька: класть некуда. А цветы все сами в руки просятся и просятся, как живые. И жалко обижать их девушке. Стала она собирать цветы на венок себе. А обличьем, фигурой, чертами какими-то неуловимыми это вроде Марта. Зашлось было сердце у Имре от подкатившей радости, да вспомнил: нет, быть не может, Марта сразу же, как мы расстались, замуж выскочила. Отрезанный ломоть выбрось из головы. Не было ее, не было, не было…
Заколотилось сердце, будто буря все живое перебаламутила, а когда успокоилось, глянул Имре на девушку с цветочным венком на голове, – а это Оленька, дедова внучка. И надо ж так ошибиться! Ни капельки ж не похожа на Марту. Ну ни единой черточкой. И глаза у Оли всегда добрые, без усмешки, и лицо белое, и волос русый волнами по плечам.
А венок всеми цветами полевыми расцвел и радугой заиграл. И так радостно-радостно сделалось Имре, что он, когда открыл глаза, понял, что еще и улыбается.
Очнулся окончательно: ни в какой не в Венгрии он. И никакая не весна, а самая настоящая, притом русская, зима за окном. Только началась. И что его ждет, когда на ноги встанет, один Бог знает. Такой тоской по родной земле сердце зашлось, будто век ее не видал. Был бы птицей, вспорхнул бы да улетел. Да не та он птица. И летать научили, не для радости только.
На печи старик похрапывал, на полатях Ольга притаилась, да Имре – на лавке со сном неразгаданным. Лунный свет, отражаясь от белизны снега, оконной крестовиной смутно лежал на потолке. Глубокая тишина тяжелым больным звоном стояла в ушах.
«Лекарства-то позабыла. Или будить не захотела», – равнодушно подумал Имре.
Он постарался забыться, скоротать время. В его состоянии это единственное, что можно сделать, чтобы восстановить силы. Осторожно повернулся, с радостью ощущая, что в силах поменять положение тела. Только бы не было пролежней. Двигаться надо, двигаться…
Первое, о чем стал думать, – как добраться до фронтовой полосы, а там уж как повезет… Конечно, спасибо Ольге, спасибо старику. Благодаря им, можно считать, второй раз родился. «Лежу, как в пеленках», – усмехнулся Имре, запоздало испытывая стыд, что сам не мог ходить на двор. Спасибо, Ольга не брезговала. Ржавое ведро, закрытое картонкой, постоянно стояло в ногах возле скамейки. «Стала бы Марта за тобой так ухаживать?» – подумал, и безрассудная тоска подкатила к самому сердцу.
Видно, мало сказать себе: выброси из головы все, что было. Внутренняя боль так же медленно заживает, как и рана.
Когда очнулся в очередной раз, Ольга уже возилась в полутьме возле печки. Заслышав, что Имре проснулся, шепнула ему:
– Лекарства-то вчера пропустили? Меня что-то вечером сморило. Сейчас сделаю.
– Доброе утро, – отозвался Имре.
– Утро доброе… Тебе лучше, я вижу?
– Лучше. На поправку пошел.
– Слава богу.
Дед тоже не спал уже, молча слушал перешептывание молодых. Одновременно свои мысли перебирал в седой голове. Что делать с нечаянным гостем? Немцев отогнали, а советские опомнятся – первый вопрос: кого пригрели? А у него чужие документы. Всех заграбастают и разбираться не станут. Испытал.
И прогнать – не прогонишь. Хорошо, изба на отшибе, считай, в самом лесу, ходить некому в гости. А если вздумается кому? И спрятать не спрячешь, как внучку. Дело не летнее.
В печи заиграл огонек, тени по стене, по потолку побежали. В избе веселее сделалось.
– Дюже хорошо ты по-русски говоришь. Это что ж, все там у вас в Венгрии разговаривают? – неожиданно спросил с печки старик. – Учили, знать, – сам себе ответил. – А немцы тут стояли: понимают хорошо, а как на русском, так лопочут-лопочут – не разберешь. Вот Барбоса только порешили. Помешал им Барбос. Он не может, как люди, – где словом улестят, где до земли поклонятся. А Барбосу не понравился человек – он «гав-гав» во всю пасть… Вот его и порешили… Вон как мертво стало. Одна конура осталась. А раньше чуть заслышит – проснулись в избе, – скребется в дверь, чтобы пустили. Не уследил я. Эх, без пса остался! Вот и думаю: что ж они, немцы-то, собак наших уничтожать из самой Германии шли?
Что мог ответить Имре за немцев, за себя – и то трудно сказать что-либо. А ведь опять, если на ноги поднимется, возвращаться к своим придется. Это опять за то же самое браться, по второму кругу.
Нет, лучше не задумываться…
* * *
Восстановление Имре, однако, затянулось. И порой непонятно, то ли крепче становился организм, то ли таял. Самое тяжкое, оказывается, оставаться в сплошном неведении. И с информацией – беда. Радио у деда не было, новостей – никаких. Дни короткие. Метель как завьет с утра на весь день, а там и ночь прихватит. Утром толкнутся выйти на улицу дед и Ольга, а под дверь снегу намело. Жуть! Хорошо, что со двора еще ход есть. Пролезет кто-нибудь из домашних, полдня дверь в сенцы откапывает.
Имре неловко сидеть на чужой шее, стал подниматься, лопату себе требовать.
– Или я совсем не мужчина? – показывал на бороду, которая все лицо опушила, родная мать не узнает.