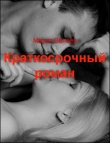Текст книги "Далекое имя твое..."
Автор книги: Наталия Никитина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Родненькие, не оставьте! Дома дети малые погибают…
Неуклюжая тетка в вязаном платке, сползшем на вылупленные глаза, с выбившимися космами седых волос, с мешками в обеих руках, как раз под окном Имре готова была бухнуться на колени, умоляя подвезти:
– Третьи сутки… третьи сутки… – машинально повторяла она, не находя более убедительных доводов.
Но, разглядев иностранную форму и заслышав чужую речь, мгновенно переменилась в лице, обессиленно охнула и в ужасе тиканула от эшелона. Вслед раздался дружный хохот с улюлюканьем и свистом.
– Не сметь! – взвизгнул командирский голос. – Вы – часть великой венгерской армии, а не стадо… каких-нибудь…
Командир запнулся, подыскивая слова, сердито тряхнул головой, добавил:
– Каких-нибудь русских.
«Черт знает что! – Имре чуть не стошнило. – На русских перевел стрелки. Пушкин, Чайковский, Достоевский, Толстой – пришли на ум первые попавшиеся фамилии. Это все русские… Отец говорил: „Культура нации определяется по ее вершинам“. Если бы эти вершины были известны солдатам, они не превращались бы в бешеных собак, которых науськивают друг на друга. Ну, я вот знаю эти вершины. И что? Не на экскурсию же еду. И кортик со мной, – Имре даже слегка дотронулся до груди, где под надежностью офицерской формы ощутил свой талисман, – знак чести и доблести… Нет, мне не хочется ржать над человеком, как бы он ни выглядел. Тем более – над женщиной», – не без доли самодовольства подумал Имре.
Минут через пять эшелон тронулся. Поползло мимо облупленное деревянное станционное помещение с пропыленными окнами, пакгауз, мятый сотнями ног дощатый настил, старый выщербленный штакетник, лопоухая дворняжка с отвисшими сосками…
«И все это – жизнь», – равнодушно подумал Имре и пошел в свое купе. Оттуда навстречу грохнул смех: сосед Имре, тоже лейтенант, травил анекдоты, а еще двое однокашников составляли благодарную аудиторию.
– Ты все мечтаешь и мечтаешь. Брось! Садись с нами, – подвинулись Шандор и Мате. – Тут Миклош такое загибает… – стал втолковывать Шандор. – Где он их только берет? Я вот, как анекдот услышу, сразу забываю. А ведь я их сотни слышал…
Гул самолетов обрушился на состав, врезался в уши и, заставив всех подскочить, пронесся куда-то.
– Спокойно, господа, – поднял Миклош указательный палец. – Это наши «мессеры».
– Хорошо, что «мессеры», а могли бы быть…
– Господа, не будем каркать. Мы на войне, и этим все сказано.
– Ну, ладно! – Шандор махнул рукой:
– Чепуха эти анекдоты. Смеемся над всякой чепухой, только чтоб не рыдать.
– Доберемся до места, некогда будет выспаться, – вставил слово Имре.
Но настроение заметно переменилось. Каждый о чем-то своем задумался. Имре – не исключение. «Что-то теперь там делает Марта? Еще бы чуть – и стали бы официально мужем и женой. Надо же так случиться: заболел священник, не явился в условленное место. Что ж за болезнь такая? Деньгами я его, кажется, не обидел. Ну и ладно, ладно, ладно… Большое дело совершается, не торопясь. А венчанье с любимой – не пустяк какой-нибудь. Событие на всю жизнь! Может, и хорошо! – утешал себя Имре. – И Марте хорошо. Если со мной что случится, я ей руки не связывал, и родители мои пока ничего не знают: не о чем им зря переживать». Он перебрался на верхнюю полку, вытянулся вздремнуть. Мысли об Марте не отпускали.
«Чем же она сейчас занимается? Попробует отвлечься книгой или пойдет потрепаться к подругам? На людях тоска не так тянет, как в одиночестве. Двое суток, как мы расстались, а кажется, тысячу лет. Главное, когда находишься в одном городе, можно и встретиться в любое время, разлуки не заметно, а так – впору дни считать».
Имре стал вспоминать моменты, когда даже уставал от общенья с Мартой, особенно, когда она на шею вешалась: «Имре, милый, обними меня! Ну, Имре!..»
Он слышал сейчас ее голос, прямо вот здесь, рядом, близко-близко, только обернуться – и почувствуешь ее родные пухлые губы. И она вся – такая близкая, трепетная, своя до ноготка, до родинки на правой щеке, до дурацкой башни на голове. Любит почему-то она эти высокие прически. Сколько упрашивал ее поменять, доказывал, что ей пошла бы короткая стрижка, как другим девушкам. Не уговорил. Только когда уезжал, пообещала: «Уберу эту башню в знак верности и любви. Понял? В знак любви и верности».
«И чего я пристал к ней с этой прической? Да пусть носит. Я уже давно привык. Я ее другой, наверное, и не вижу. Пусть носит».
– Имре, ты спишь? – почти шепотом над самым ухом прервал размышления Шандор.
– С чего ты взял? Разве я храпел? – пошутил Имре.
– Ну да. Этого я не учел. Значит, думаешь. Хочешь, угадаю о чем?
– Ты меня заинтриговал, Шандор. Сам бы я ни за что не догадался.
– Ты все шутишь?
– Ладно. Не обижайся. Без шутки прокиснуть можно. Но, правда, о чем же я думаю?
Имре повернулся лицом к Шандору. Почти синие полудетские глаза. Раньше не приглядывался. Весь народ в новенькой военной форме казался на одно лицо: грубые, сильные парни, готовые в огонь и в воду. Будто их собрали из готовых частей на оружейном заводе, смазали машинным маслом и запихали в вагоны. «Такое же первое впечатление и я, наверное, произвожу. На самом деле он застенчив, почти робок».
– Так о чем же я думаю?
– О своей невесте, наверное?
– Извини, Шандор, но что тебя заставило податься в летуны, напялить эту армейскую форму? Твое место в университете! Ты ж прирожденный психолог!
– Что? Отгадал? – искренне обрадовался Шандор. – Это не ты один заметил. Мне моя Беата то же самое говорила. Я не поверил. Может, мне и правда надо было на психолога учиться. Мне нравится с малышней возиться: преподавал бы я им сейчас психологию. «Ну, дети, кто из вас не приготовил домашнее задание? Сейчас буду спрашивать…» – он мечтательно улыбнулся, представляя себя на уроке перед веселой беззаботной ребятней. – А в летунах я оказался из-за зависти! Есть во мне, оказывается, такая пакостная черта.
– Как это?
– А так. В одно прекрасное утро довелось мне увидеть парашютистов. Учебные прыжки, как обычно. Ты сам не раз прыгал. Так вот, я пацаном был, за ручку шел с матерью в магазин детских игрушек и вдруг… Черт побери, наверное, попали в такую минуту… Обалдел! Живые человечки купаются в прозрачном небе, а над каждым из них – сказочная снежинка. «Никакого подарка мне не надо ко дню рождения, – говорю матери, – пойдем, посмотрим, где они сядут!..» Мне само место казалось волшебной землей… Понимаешь? Потому что, думалось, не могут эти люди на парашютах сесть на обыкновенную землю… А когда на аэродром попал, когда самолет вот так, как тебя, увидел вблизи…
– А зависть при чем?
– Что ж это, если не зависть? Другие в небе купаются, а я что, рыжий? Вот она, зависть.
«Рыжий-то как раз и не стал летчиком, – подумал Имре о Габоре, – а я такой же чудила, как этот Шандор».
– Мы с тобой отравленные романтикой. У меня тоже с парашютистов началось. Лежу на зеленой травке, солнце, песочек, река рядом, и вдали – эти самые учебные прыжки с парашютом. Красотища! Куда только красотища нас не затаскивает, как мух в паутину…
– Ты прав. Я-то хотел вначале авиаконструктором стать, – продолжал Шандор, – но летчик есть летчик. Только что с Беатой познакомился. Летчик – это она понимает. А что такое авиаконструктор? Человек в синем халате с чертежной линейкой в руках.
– Ну, не скажи… – возразил Имре.
– И я так думаю, но попробуй моей Беате объясни. Правду ты говоришь: красота нами руководит. Так мы, наверное, устроены. Что, я не прав?
– И где ты нашел девушку с таким красивым именем – Беата, – искренне подыграл Имре.
– Правда, красивое? – загорелся Шандор. – А сама она, знаешь какая?
– Конопатая и ноги кривые… – неожиданно подсказал Миклош с нижней полки. Они с Мате все это время внимательно слушали разговор Шандора с Имре.
Шандор только усмехнулся:
– Чудак! Ты же не знаешь, что кривые ноги у девушки – писк моды.
– Оправдывайся!..
– Я и оправдываться не стану. В местечке, где я жил, совсем недавно специально проводили конкурс «У кого самые кривые ноги?»
– Ну, рассвистелась птичка! – вежливо осадил Миклош. – Попробуй, скажи какой угодно женщине, что у нее ноги кривые. Не пробовал? Она тебе глаза выцарапает, а потом пойдет к себе домой и на гвозде повесится.
– Не знаю, не знаю, – недоверчиво протянул Шандор. – Впрочем, если хочешь знать, это от местных властей зависит.
– А власти при чем?
– Э, милый друг! При умной власти – кривому счастье, – философски заметил Шандор. – Например, у нас глава городишки – семь пядей во лбу. Он, думаешь, объявил конкурс, свистнул и ждал, когда девушки сами придут, станут ножками хвалиться? Женскую натуру знать надо!
– Что-то непонятное загибаешь, – подал голос молчавший до сих пор Мате.
– Ничего не завираю. Тут главное – премия! Ты объяви настоящую премию – от участниц отбоя не будет.
– И какую же премию у вас объявили?
– Ни за что не догадаетесь! – интриговал Шандор.
– А что догадываться? Конечно, кучу денег.
– Фу! Деньги! Будто женщины денег не видели!.. За первое место, то есть самые кривые ноги, победительнице – набор французской косметики. Вот так-то!
– Да-а! Прямо в яблочко! – засмеялись ребята.
– Яблочко – не яблочко, а сработало. Знаете, сколько собралось? Со всей округи явились.
– Надо ж! А второе и третье места были?
– Как положено, – снисходительно пожал плечами Шандор и замолчал, не торопясь выкладывать козыри.
– И тоже – парфюмерия французская?
– Не-ет. Второе и третье – по мелочам, – с лукавинкой проговорил Шандор, – племенная корова и шестипудовый поросенок соответственно.
– Ну, заливальщик! – восхитился Мате.
– Вот за это меня и любит моя Беата, – скромно согласился Шандор. – Мировая девчонка.
На этот раз никто с ним спорить не стал. Да и не до этого стало: снова над их головами прорычали самолеты, напоминая, чем им самим предстоит заниматься. Будто от сна очнулись, прислушиваясь, как их коллеги летели на свое жуткое дело.
– Что-то мы едем-едем… Никакого фронта, никто нас не тревожит, будто заговоренные, – минутой позже выдал общую мысль Миклош.
– Сплюнь! – возмущенно шикнул Мате. – Вот будет линия фронта… Еще хлебнешь всякого.
* * *
Эшелон не успел добраться до места, когда Имре, уединившись на верхней полке, достав специально взятую для этой цели бумагу, принялся за письмо Марте. Представлялось, много лет минуло с минуты их расставания. Он специально попросил ее не приезжать на вокзал, чтобы не разрываться между родителями и ею. К тому же он знал: провожающим всегда труднее оставаться. Да и знакомить с родителями в такую минуту не хотелось. Дело это деликатное, и делать его в спешке, оставляя Марту одну, не хотелось из-за нее же самой. Короче, тонкостей набралось много. Имре остался доволен их общим решением расстаться накануне, наедине, без свидетелей.
Во время отправления эшелона слишком много было шума, суеты, слез. Окажись в ту минуту рядом еще и Марта, можно бы свихнуться с ума. Зато сейчас, поудобнее устроившись наверху и изредка выглядывая в окно на проносящиеся мимо незнакомые и неприветливые картины, он, казалось, так доверительно разговаривает с расположившейся рядом Мартой, как не разговаривал еще никогда.
Все дни, находясь в дороге, Имре берег это чувство близости в себе, боялся растерять его, забыть в чехарде разговоров, в подчеркнуто молодцеватых полуслужебных отношениях. Оно было дорого ему так же, как кортик, который сделался его талисманом.
«Дорогая Марта! – вывел он первые слова и словно увидел ее близко-близко, с ее смешной прической, с лукавой улыбкой, понимающую его с полувзгляда, с полуслова. – Уже несколько суток паровоз изо всех сил тащит наш эшелон по унылой равнине, где уже прокатился смертельный каток войны. Полуразрушенные станционные постройки, беженцы, руины деревень, но самое страшное, что вокруг все будто вымерло. Совсем недавно здесь гремели орудия, выли и взрывались снаряды… Но мы еще только приближаемся к фронту… Несколько раз проносились над нами самолеты наших союзников, словно напоминая, куда нас тащит неведомая сила. В поезде – военный распорядок, настроение бодрое, каждый из нас рвется в бой…
Боже мой, милая, родная Марта, о чем я тебе пишу? Мое сердце говорит одно, а рука выводит какие-то холодные слова, ничуть не похожие на мои чувства к тебе. Да и можно ли их описать?
Когда мы с тобой расставались, я думал, никакая сила не сможет оторвать меня от тебя. До малейшей детали помню, как ты, переборов себя, уходила. Я думал: оглянется или нет, оглянется или нет? Оглянулась! Та же самая загадочная улыбка, та же самая страсть в глазах. А фигура! От щиколотки до макушки… Прости, я, кажется, опять зарапортовался. Говорю глупости. Это, наверное, потому, что мои чувства надо искать не в словах, а за ними, в той неизведанной глубине любящих друг друга…
Фу! Представь себе, слова не подчиняются мне. Они угловаты и неточны. Может быть, это даже хорошо. Пусть самое главное остается в нас самих, недоступное никакой попытке достичь сокровенного, огрубить его, уронить и обидеть, как грудного ребенка.
Я не успел сказать тебе, что отец завещал мне всегда и везде беречь кортик военно-воздушных сил. Это – знак чести и доблести венгерского офицера. Я благодарен отцу за его слова и полностью солидарен с ним. Но вот твое имя мне не менее дорого. Я так же готов хранить его у самого сердца, как кортик. Не отчаивайся, что по дурацкому недоразумению нам не удалось тайно обвенчаться. Пусть это останется в твоей памяти всего лишь смешным и нелепым эпизодом. Все ребята и командиры в нашем эшелоне уверены, что наша экспедиция окажется краткой и победоносной. Мы быстро вернемся в нашу родную Венгрию. Эта война окажется короче занудной дороги на фронт. Опасаемся одного: как бы не успели закончить кампанию без нашего участия. Представляешь, как неловко было бы возвращаться, не успев понюхать пороха».
Последнюю фразу Имре где-то слышал. Она показалась ему такой же бравой, как молодой офицер в парадном мундире. Так и хотелось щелкнуть каблуком и отдать честь командиру: «Готов выполнить любое боевое задание».
«Она не поймет этого, – подумал он об Марте и старательно зачеркнул фразу. – Нечего выпендриваться. Не на свадьбу тащится прорва техники вместе с живой силой».
«А ведь далеко не всем суждено вернуться на тот же самый вокзал, откуда, обливая слезами, отправляли их недавно родные и близкие», – эта банальная мысль передернула его. Он глянул мельком на ребят, с которыми маялся в купе: один зевал, другой копался в своем вещмешке, третий, подперев щеку кулаком, сосредоточенно смотрел на мелькавший мимо мелкий осинничек. «И у каждого есть своя Марта, и каждой нужен от него не запах пороха, а запах родного пота и родное плечо перед сном».
«Марта, я люблю тебя, люблю, люблю. Твой Имре».
«Чудно человек устроен. Ты помнишь, я почему-то ни разу не говорил тебе о любви. Это слово, казалось, настолько затрепано, настолько потеряло свое содержание, что лучше не произносить его. Хотя сам я ждал от тебя, и, когда ты произносила его, радость переполняла меня. Хотелось иначе жить. Хотелось делать только добро каждому человеку. Даже тому малому, помнишь, на лошади, который бросил ехидно: ну, что, мол, наозоровались? Даже тому священнослужителю, который больше служит чревоугодию. Впрочем, о нем мне даже не хочется вспоминать: нелепый эпизод. Бедный мой знакомый с его „я же договорился“. Он, наверное, ночь не спал.
Ну, да ладно. Это штрихи. Верю: жизнь прекрасная штука, когда двое любят друг друга.
Ты слышишь? Вот несет меня поезд в неведомое, а колеса стучат только одно: „Марта! Марта! Марта!..“.
Я закрываю уши, крепко сжимаю голову, а кровь во мне кричит то же самое: „Марта! Марта!..“ Скажи, почему так?
Когда мы были рядом, я старался быть сдержанным, даже немного холодноватым. Наверное, из опасения надоесть тебе, из боязни, что ты привыкнешь ко мне и перестанешь замечать меня. А теперь я открываю тебе самое сокровенное, о чем не решался сказать даже наедине: я люблю тебя!
Пусть мое письменное признание облегчит твою тоску, если ты меня любишь, как я, находясь от тебя за сотни километров. Эти сотни длиннее тысяч, но знаешь, Марта, мы с тобой обхитрим время. Давай будем считать, что чем дальше мы друг от друга, тем ближе. Совсем заболтался, хотя мысль проста: я уже еду к тебе. Через войну, через все, что предстоит и что подбросит мне судьба, – дорога к тебе, к нашей встрече…»
– Ты там не стихи сочиняешь? – вернул к реальности Шандор. – Прочти, если что. Пока мы от тоски не сдохли.
– Стихи?
– Ага!
– Ну, слушай:
Что ты, немец, выдумал сегодня,
Разрази его стрела Господня!
С требованием швабы к нам пристали,
Чтоб долги за них платить мы стали…
(В переводе Л. Мартынова)
– Что? Только сейчас написал? – восхитился Шандор.
– Нет, почти сто лет назад. Шандор Петефи.
– Нашему Швабу не понравится, – намекая на майора в эшелоне, покосился в сторону Миклош, будто майор находился рядом.
– А он шваб?
– А кто же!
– У меня приятель тоже шваб. Занятный парень, – вспомнил Имре Габора. – Вначале мы с ним стенка на стенку, а разобрались, оказывается – друзья. Все, как в жизни. Тоже на фронт отправили. И где он сейчас? – не без грусти вспомнил Имре.
– Ты тоже стихи пишешь? – спросил Шандор.
– Нет, не пишу, к сожалению. Просто люблю их. Как музыку.
– Чего я люблю, – очнулся Мате, и лицо его превратилось в сплошную улыбку, – так это пенье скрипки в сельской корчме. Прямо душу рвет, прямо плясать хочется. А вокруг – нарядный народ, шум, гам и девицы озорными глазами зыркают. Вроде бы и не замечают, а у самих, у каждой сердчишко, как птаха, замирает, если танцевать пригласишь. Эх, парни, только бы из этой передряги вернуться…
«Марта! Марта! Марта!..» – настойчиво стучали колеса, словно кто-то их специально настроил на это имя. «Интересно, а парням то же самое слышится? – подумал Имре. – Так и не дописал письмо. Ладно, допишу. Надо еще мать с отцом оповестить, что все в порядке, что жив, здоров…»
– А я, когда вернусь… Самое позднее, наверное, к концу зимы?.. Когда вернусь… – мечтательно произнес Миклош, мысленно прикидывая, что бы такое сделать необыкновенное, когда вернется.
– Когда вернусь, в шинке напьюсь, – сострил Шандор. – Не загадывай.
– Да все равно – загадывай, не загадывай, – не сдержав зевок, махнул рукой Мате. – У меня дядька в деревне говорит: «Все едино, лишь бы в жизни везло». Хотя без плана и дом не построишь… А мы сейчас как – с войны или на войну? Я уже запутался.
* * *
Вдали от конкретных военных действий и у молодежи, отправляющейся на передовую, не пропадало чувство эйфории. Оживленные разговоры, дружеские подшучивания друг над другом вперемежку с обсуждением недавней тыловой жизни. Бывалые солдаты не вмешивались в жизнь необстрелянного молодняка. Встреча с войной, как бы ее ни разрисовывали газетчики, каждому несет свою судьбу, далекую от бодрых сказок.
Воинский эшелон тяжело шел по залитой светом равнине на восток. Впрочем, казалось, какое это имеет отношение к безмятежному дню наступающей осени. Задумчивая даль до горизонта ласкала взгляд, едва вращаясь, словно напоминая, что земля круглая и все в конце концов вернется на свое место. Пологие холмы, неровные блюдца озер, извилистые речки, прячась в курчавую зелень кустов, стыдливо дарили свою красоту, терпимо относясь к разрывающему тишину чуханью черного паровоза, тянущего смертельный груз.
Впрочем, недолго радовала душу солнечная безмятежность простора. Откуда-то незаметно наползли тяжелые тучи, косой линейкой на вагонных стеклах брызнул дождь.
Через несколько дней эшелон прибыл на место.
Дальше уже все пошло, как по накатанному: резкие выкрики команд, разгрузка платформ с техникой, вагонов с продовольствием и прочим хозяйством, перевозка всего этого хозяйства до аэродрома по размытой, наполненной лужами дороге. Дождь почти прекратился, лишь изредка, словно из последних сил, брызгал из какого-либо облака и проползал, подталкиваемый порывами неприятного ветра. Выглянуло солнце, вселяя надежду, но тут же скрылось, будто от стыда за людей.
И сразу куда-то делись романтическая настроенность, подшучивания, легковесность разговоров.
– Обвыкайте, ребята… Большая работа предстоит. Хорошо, погода пока нелетная…
Имре старался быть сдержанным образцовым офицером.
Как-то за столом с приятелями зашел разговор о кортике. Высоких слов они не произносили, но каждый по-своему, с почтеньем относился к этому символу братства венгерских летчиков. Один, правда, не преминул покрасоваться:
– Ну что говорить? Кинжал – он и есть кинжал. Конечно, вещь тонкой работы…
За такой снисходительный тон друзья подвергли его, как говорится, примерной обструкции, после чего тот, не выходя из-за стола, взял свои слова обратно и оставшийся вечер просидел в несвойственной ему задумчивости.
Чем дальше Имре оказывался от дома, тем хранимый им кортик становился для него все большей моральной опорой. Тепло и твердость рук отца и благословение матери ощущал в нем.
«Милые мои родители! Будто из рая в ад прыгнул. Такое ощущение испытал сразу же, как только пересекли границу и кто-то многозначительно изрек: „Мы в России…“».
Имре отложил письмо. Не писать же, что после этих слов холод прошел по сердцу. Так, наверное, чувствует себя вор-домушник, проникший в чужую квартиру. Захотелось оглянуться, не появился ли хозяин квартиры?
Нет, не появился. Он еще не знает, что мы день и ночь целым эшелоном крадемся по его территории. Мы уже готовы уничтожить его в любой момент. Связать, превратить в раба, заставить служить верой и правдой…
Служить кому? Венгрии? Нет. У Венгрии своя родная земля, свой народ-труженик. Свои песни и праздники. Ей не надо чужого. Ей нужна только свобода. Но разве русские отнимают ее?..
Мрачная погода – мрачные размышления. Вчера, как убитый, отключился Имре после отбоя. Утро оказалось еще мрачнее. Природа словно противилась их появлению на чужой земле.
Впрочем, он еще не встретил ни одного русского. Нет, ошибся, встретил. Какого-то корявого, пришибленного. То ли это начальник станции, то ли дежурный. Глядел на новую военную технику, которую разгружали солдаты, на только что прибывших и возбужденных по этому случаю молодых летчиков. Глядел мертвыми глазами, не видя ничего, машинально выполняя какие-то команды, поясняя что-то военному начальству. Да кто его считал за русского? Он сдался. Он раб уже…
Низкие тучи давили к земле. Под дождем добрались до аэродрома. По взлетной полосе летал только ветер, пригибая редкие былинки, поливаемые брызгами все того же дождя.
* * *
…Чего только не наслушался Имре в свободные минуты от старых сослуживцев. И не то что бы они специально брали его за рукав и долдонили в уши. Слово за словом, штрих за штрихом, случай за случаем. И от розового сиропа пропаганды о происходящем на фронте следа не осталось. Вместо сиропа проступали бурые пятна крови на омертвелой от беды земле.
– Хоть бы он всю войну лил, родимый! – пробормотал, торопясь в столовую, жилистый старший лейтенант из предыдущего пополнения. Но, видимо, сам от себя не ожидал, что громко получится, покосился на следом прыгающего через лужу Имре. – Я говорю, вот шпарит. Нам на задание лететь, а он шпарит… Не успеем по кресту схватить за доблесть, война кончится… – и подмигнул многозначительно, пытаясь отгадать реакцию.
Имре сделал вид, что не слышал реплики. Да и мало ли что он там пробормотал. От плохой погоды на душе у всех муторно. Толкнул двери, неопределенно дернув плечом, то ли соглашаясь, то ли отмахиваясь.
В низком зале столовой пар тепла и умиротворяющий запах кухни. От раздаточного окна не успел отойти, знакомый лейтенант окликнул:
– Имре, присаживайся к нам! Помочь донести?..
Такой улыбчивый, свойский парень. Сидел с каким-то капитаном.
– Нет, я сам!.. – Имре мучительно вспоминал, как зовут этого лейтенанта. Ну, прямо затык какой-то, ранний склероз от этого ненастья. – Ну и погодка!.. – отряхнулся он от дождя. – Тут подводную лодку надо, а не самолеты…
«Кажется, вспомнил – Ференц». Тот подвинул стул, уступая место:
– Слышал? Перед нашим прибытием, дня за два…
– За три, – уточнил капитан.
У него было широкоскулое лицо и густые черные брови. «Откуда такие мохнатые, как гусеницы?» – подумал Имре.
– Да, да, за три… – поправился Ференц. – Один наш при взлете грохнулся за взлетной полосой. Понимаешь?
– Чего ж не понять. С чего это? – Имре отложил вилку.
– А все погода… При боковом ветре взлетал. Совсем глупо получилось. Не успел подняться на сотню метров – бац, – оказался в жуткой воздушной яме, – Ференц сделал паузу, давая возможность прочувствовать эту самую воздушную яму на взлете.
– Свернулся, как игрушечный… – шевельнул своими черными гусеницами капитан.
– Да, как игрушечный, – подтвердил Ференц. – Шваркнулся на виду командного состава. Представляешь, как рвануло? За милую душу… Ну, ты ешь, ешь. Чего ты сидишь?
– На войне, как на войне… – резюмировал капитан.
– Пилот, говорят, еще первое письмо матери отослать не успел. Отослали вместе со скорбной вестью о геройской гибели сына.
– И часто тут такое?
– Случается. Не в игрушки играем, – поднял спокойно глаза капитан.
– Ты-то отписал своим? – спросил Ференц. – Небось, ждут. Живы, здоровы. Благополучно добрались до места расположения.
– Не рано ли? – вспомнил Имре начатое письмо.
– Я уже отправил, – похвалился Ференц, – два слова. Что еще старикам нужно? – он тихо засмеялся, будто извиняясь за тревожный рассказ о гибели пилота.
* * *
Спустя несколько дней Имре написал домой, довольный собой и службой: «…мне повезло с командиром эскадрильи. Это рослый, стройный офицер с волевым жизнерадостным лицом. Нас внутренне что-то объединяет – это главное. Он требователен к каждому подчиненному и одновременно мягок и интеллигентен. Такого не было в летном училище. Наверное, потому, что всех нас считали за малышню, а себя – за зубров летного дела…
Когда вы будете читать это письмо, я, очевидно, буду находиться при выполнении первого боевого задания. Пожелайте мне самого хорошего…»
В эскадрилье, и вправду, не только Имре полюбил командира. Уже вместе сделали несколько учебных вылетов. Молодые летчики с хорошей завистью оценили, как ловко он пилотирует самолет, как быстро после взлета собирает в воздухе экипажи, с мастерством выдерживает их боевой порядок на заданном курсе. Даже подражать ему хочется. Вот что значит – специалист высшего класса, мастер.
Имре не заметил, как из необструганного новичка, опасавшегося неловко задеть локтем угол стола, превратился в нормального летчика, для которого самолет – брат родной.
Конечно, не просто оторвать от земли самолет и набрать высоту, когда не только чувствуешь, но и всей шкурой понимаешь, какие опасные чушки подвешены к твоей машине.
Первым выруливает на старт флагманский. Он, словно нехотя, тяжело трогается с места, разгоняется и, кажется, долго-долго катится по взлетной полосе. И этой полосы, кажется, не хватит. Вот сейчас он зароется носом там, в конце аэродрома. Хорошо, если не взорвется, не вспыхнет жутким пламенем, в котором ничего не останется от экипажа, кроме горстки пепла.
Но самолет, не докатившись до границы аэродрома, покорно отрывается от земли и, тяжелый, как домашний гусь, взмывает вверх.
Имре до сих пор смотрел на это, как на чудо. До него, как и до многих других, не доходило в полной мере, что эта крылатая красивая птица несет ужас и смерть совершенно невинным людям.
«До тебя не доходит?» – спрашивал он сам себя.
«Доходит, доходит… Это война, а не прогулка. Когда-нибудь, если останется время, будем вспоминать со снисходительной улыбкой, как попервоначалу тряслись поджилки. Но трусость – не мужское дело. „Девушки должны ловить каждое твое слово и восхищаться твоей храбростью“, – так думает каждый летчик на нашем аэродроме. Только мы не говорим об этом друг другу. Мало ли что…».
Сегодня наконец-то первый настоящий боевой вылет.
Имре нащупал поручни трапа. Холодок пробежал по телу. «Спокойно, спокойно, друг…». Удобно сел в свое кресло, бросил взгляд на приборы, через стекло взглянул на взлетную дорожку… Все становится привычным. Никаких комплексов.
Имре запросил разрешения выруливать на старт. Добавил двигателям газа. Отпустил тормоза.
«Теперь на меня смотрят со стороны, как смотрел я: со жгучим интересом, одновременно переживая каждое мое движение».
Машина грузно осела и стала набирать скорость. Замелькали силуэты находящихся на аэродроме машин. Стремительно понеслись цифры, выведенные на взлетной дорожке. Имре сильнее потянул штурвал и уже привычно почувствовал, как машина оторвалась от земли. И вот уже и деревья, и люди, и дома на земле стали игрушечными. Машина легла на крыло вслед за ведущим. Так, указатель высоты в порядке, направление… Какое яркое солнце и чистое небо. Хочется петь. Только внутреннее ощущение того, что в твоих когтях смертоносный груз, заставляет сдерживаться.
«Ну, что, Имре, ты добился своего. Правда, ты хотел просто летать, парить в небе, красоваться перед такими же желторотыми пацанами, каким был сам, когда задирал голову, следя за самолетом. Правда, тебе сейчас не до парения, а скорей – до испарины на лбу. Надо показать командиру, на что ты способен. Для этого следуй за ним, как прикипевший. Не вздумай разевать рот на то, что там, внизу. Еще не добрались до цели. О, вот уже первые подарки с земли: ватными шапками разрываются почти под брюхом. Засекли. Так и поцеловаться с ними не трудно».
Но Имре чувствовал, что надежно спрятан в своей кабине. Все, что происходит на земле, его касается постольку поскольку. Он, конечно, представлял, пролетая над линией фронта, что каждая пядь земли под ним полита кровью. И в тех вон изломанных черточках окопов не так романтично, как может показаться из этой кабины. Но что делать? Не я придумал войну. А вот три танка выскочили из-за бугра, как бешеные, несутся на рассыпавшуюся горстку людей. Как в кино. Вот бы показать это Марте. Что бы она сказала? Впрочем, сейчас не до нее. Главное, не выскочил бы откуда-нибудь истребитель. Нет, тут наши шуруют. А что они делают вдоль шоссе на малой высоте? Там какие-то люди с домашним скарбом, женщины, дети… Беженцы!
Хорошо было видно, как несколько фашистских истребителей поливали свинцовым дождем падавший в кювет гражданский люд, как перевернуло, подбросив, ребенка…
«Это не наши!» – почему-то подумал Имре. Кто-то специально подстроил такую картинку, чтобы пощекотать нервы, чтобы его в следующий раз стошнило при виде свастики на этих стремительных юрких ястребках.
Шоссе осталось где-то сбоку, летели над зеленым массивом, но подброшенный пулями и ткнувшийся замертво мальчонка врезался в память, и уже никакие красоты не могли отвлечь и успокоить Имре. Только тут он подумал, что несет не буханки хлеба. Куда ни сбрасывай груз, в радиусе взрыва может оказаться такой же пацан, или женщина, или старик… Обречены!