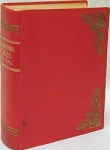Текст книги "Звезда цесаревны. Борьба у престола"
Автор книги: Надежда Мердер
Соавторы: Федор Зарин-Несвицкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц)
– Так вы… – начал Шастунов.
Но де Бриссак словно опомнился. Он овладел собою, лицо его приняло обычное выражение.
– Тсс! – улыбаясь, произнёс он. – Мы, кажется, забыли, что находимся на балу. Пойдёмте, дорогой друг, лучше полюбоваться на чёрные, голубые и серые глаза ваших красавиц.
При словах де Бриссака о чёрных глазах Шастуновым сразу овладела ревнивая тоска. Он молча последовал за виконтом в большую залу.
– Но клянусь, – воскликнул де Бриссак, – ни в одной столице мира я не видел столько красавиц!
Его восклицание могло быть искренне. Тут был цвет красоты. Цесаревна Елизавета, величественная и стройная, с короной тёмно-бронзовых волос и большими, яркими, голубыми глазами, олицетворённая женственность и грация, полная томной неги и почти чудесного обаяния; Наталья Фёдоровна, трагическая красота Юсуповой, нежная прелесть Наташи Шереметевой, невинные личики Юлианы и Адели и строгое, точёное, как из мрамора, лицо Вареньки Черкасской.
Около цесаревны стоял сам канцлер и, слегка наклонившись, слушал её. Макшеев что‑то нашёптывал Адели, Дивинский стоял за стулом Юсуповой, а молодой Артур Вессендорф, не сводя влюблённого взгляда с Лопухиной, о чём‑то оживлённо говорил, и она слушала его со своей обычною манерой слушать ласково-внимательно, так что каждому говорящему с ней казалось, что он сумел её исключительно заинтересовать, отчего действительно каждый в разговоре с ней был интереснее обыкновенного.
В этой блестящей, оживлённой толпе красавиц только две сохраняли на своём лице выражение печали: Наташа Шереметева и баронесса Юлиана.
Шастунов хотел подойти к этому кружку, но чувство самолюбия и ревнивой злобы не позволяло сделать этого. Он взглянул на де Бриссака и вдруг был поражён странным выражением его лица. Оно было чрезвычайно бледно. Вместо недавнего восторга на нём виднелось почти выражение ужаса. Широко открытые глаза не отрываясь смотрели на эту прекрасную, живописную группу.
– Виконт, что с вами? – с тревогой спросил Шастунов, касаясь его руки.
Де Бриссак вздрогнул, словно пробудился от тяжёлого сна. Он провёл рукой по лбу и со слабой улыбкой произнёс как будто про себя:
– Какие страшные видения! Как ужасна ваша страна!
– Что вы хотите сказать, виконт? – в изумлении спросил Арсений Кириллович.
– А, что я сказал? – отозвался де Бриссак, с усилием отрываясь от своих мыслей. – Не обращайте внимания на мои слова, – продолжал он. – Я на минуту предался печальным мыслям о тленности красоты и земного счастья. Но, князь, – в волнении сказал он, – запомните это прелестное девичье лицо (он указал глазами на бледную и печальную Наташу Шереметеву, стоявшую несколько поодаль от других)! – Запомните хорошенько это лицо, чтобы потом сказать детям вашим, если они будут у вас, что вы видели её!
– Но, – в изумлении произнёс князь, не понимая волнения де Бриссака, – это Наталья Борисовна Шереметева, невеста Ивана Долгорукого, бывшего фаворита покойного императора.
– Это святая и мученица[49]49
Это святая и мученица… Она даст иной блеск знаменитой фамилии Долгоруких! – Наталья Борисовна Долгорукова (Шереметева) (1714—1771) явила собой образец нравственной чистоты и мужества. Будучи помолвленной с Иваном Долгоруким, она не нарушила своего слова, когда стало очевидно, что её жениха ждёт царская немилость. Она разделила с мужем все тяготы ссылки. В 1740 г. Наталья Борисовна вернулась в Москву, в 1758 г. постриглась в Киеве во Фроловском женском монастыре. Там в 1767 г. написала «Своеручные записки» – замечательный памятник эпохе и русской женщине, – в которых рассказала о страданиях и лишениях, выпавших на её долю, о своей высокой и верной любви. Н. Б. Долгоруковой посвятили свои произведения русские поэты К. Ф. Рылеев («Наталия Долгорукова», 1823) и И. И. Козлов («Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», 1824—1827).
[Закрыть], – тихо ответил де Бриссак. – Она даст иной блеск знаменитой фамилии Долгоруких!
Какая‑то тайная дрожь овладела Шастуновым.
– Как печальна жизнь, – проговорил де Бриссак, – и как мудро поступило Провидение, скрыв от глаз людей будущее. Призраки гибели, разбитой жизни, страшных мук и эшафота, истерзанной красоты, поруганной добродетели отравили бы им каждую минуту счастья, возможного в настоящем.
И его глаза с тяжёлым, мрачным выражением по очереди останавливались на лицах Наташи, Юсуповой и Лопухиной.
Шастунов вздрогнул, когда глаза де Бриссака дольше остановились на лице Лопухиной. Он хотел спросить, но виконт быстро повернулся к нему.
– Не надо вопросов, дорогой друг, – мягко сказал он. – Я печальный пророк. Но в минуты радости, торжества и успехов смиряйте себя мыслью, что человек – ничтожество перед лицом Того, Кто вдохнул в него бессмертную душу. Однако я, кажется, нагнал на вас тоску, – с насильственной улыбкой закончил виконт. – Но позвольте мне ещё раз быть вашим пророком. Я предсказываю вам, что один ласковый взгляд чёрных глаз заставит вас забыть все мрачные мысли.
– Я должен бояться их? – по видимости шутливо, но с тайным волнением сказал князь.
– Вы не послушались меня тогда, – и ваша судьба совершилась, – серьёзно ответил де Бриссак. – В жизни каждого человека бывают минуты, когда судьба вдруг останавливает, словно в раздумье, свой ход и когда человек является свободным. Вы не воспользовались минутой своей свободы и сами избрали свой путь.
Сказав эти загадочные слова, виконт пожал руку Арсению Кирилловичу, прибавив с улыбкой:
– До скорого свидания. – И торопливо направился навстречу входившему в залу Василию Лукичу.
Во время утреннего свидания он имел продолжительный разговор с князем и передал ему письмо отца Жюбе, ловкого иезуита, пользовавшегося большим влиянием среди известной части духовенства Франции и вместе с тем сумевшего приобрести уважение свободомыслящих кружков, к каким принадлежали Сент-Круа и де Бриссак.
Он очень искусно, но с ведома своего высшего начальства в Риме, умел выступать против духовенства, притворяться опальным, навлекать на себя видимый гнев епископа и под шумок неустанно работать во славу и процветание своего ордена.
Василий Лукич ценил его выдающийся ум и часто встречался с ним в Париже, а Жюбе, зная о высоком положении князя, решил возобновить с ним сношения, мечтая о допущении в Россию иезуитов.
Но опытный дипломат отчётливо понимал игру отца Жюбе и только посмеивался, читая искусно написанное письмо, в котором Жюбе говорил исключительно о необходимости просвещения для России и приводил в пример Петра Великого, призвавшего для этой цели иностранцев. Тут же он предлагал свои услуги прислать в Россию целый кадр учёных во всех областях.
Василий Лукич с видимым интересом встретил де Бриссака и вступил с ним в оживлённый разговор.
XVIII
В кабинете канцлера шло серьёзное совещание. Там сидели Дмитрий Михайлович, генерал-аншеф Матюшкин, Черкасский, фельдмаршал Иван Юрьевич и Юсупов. Главным образом для того, чтобы повидать этих людей, и приехал князь Дмитрий Михайлович. Среди поданных в Верховный Совет проектов он считал наиболее значительным, по количеству примыкавших к ним лиц и по существу, проекты князя Черкасского и генерала Матюшкина.
Конечно, сам князь Алексей Михайлович не мог выдумать никакого проекта. За его спиной стояли другие во главе с Василием Никитичем Татищевым, талантливым учёным и историком. Но к этому проекту, благодаря значению и влиянию Черкасского, примыкала большая и сильная партия знати, как Трубецкие, Барятинские и другие, и много гвардейских офицеров, привлечённых в его дом красавицей Варенькой и колоссальным богатством князя.
Что касается Матюшкина, то его проект являлся выразителем желаний значительной части шляхетства.
Оба этих проекта, признавая необходимым новое государственное устройство на коллегиальных началах, были составлены в смысле ограничения власти Верховного Совета.
Проект Черкасского предлагал упразднить вовсе Верховный Совет и создать вместо него «в помощь её величеству» «высшее правительство» – Сенат, состоящий из двадцати одной персоны (в это число входит весь наличный состав Верховного Совета), и другое, «нижнее правительство» – в составе ста персон.
Проект Матюшкина предлагал увеличение числа членов Верховного Совета по избранию «общества», под которым разумелись военный и штатский генералитет и шляхетство.
Оба проекта предусматривали закономерные действия правительства на основах общественного контроля через выборных лиц, расширение прав шляхетства и облегчение участи других сословий.
Но как в том, так и в другом повторялось, что в «высшем правительстве», или Верховном Совете, не должно быть двух членов одной фамилии. Это уже прямо было направлено против Голицыных и Долгоруких.
В настоящее время, при всеобщем брожении, задача Дмитрия Голицына и Верховного Совета состояла в том, чтобы привлечь на свою сторону шляхетство.
Во всех представленных проектах подразумевалось ограничение императорской власти. Для Дмитрия Михайловича это было самым важным. Он до такой степени был убеждён в преимуществах своего проекта, что легко готов был согласиться на некоторые уступки, вроде увеличения числа членов Верховного Совета.
Ходя крупными шагами по кабинету, он с обычным жаром и убедительностью говорил:
– Мы все хотим одного! Хотим воли, правого суда, спокойствия жизни! И твой проект, Михаил Афанасьевич, – обратился он к Матюшкину, – и твой, Алексей Михалыч, говорят за то же. Почто мы спорим? Разве не можем мы сговориться? Разве мы думаем токмо о своей личной судьбе, о своей власти или богатстве?
– Да, – прервал его Матюшкин. – Ты правду сказал, Дмитрий Михалыч. Надо думать не о себе. Но дело в том, – продолжал он со свойственной ему прямотой, – что шляхетство не верит вам. Вы сами избрали себя. Вы устами императрицы объявили себя несменяемыми. Вы никого не поставили над собой. Вы одно самодержавие подменили другим.
На открытом, ещё молодом лице Матюшкина выступил румянец.
– Хорошо, – ответил Голицын, – но мы согласны на увеличение числа членов Совета, я предлагаю ещё шляхетскую палату…
– Михаил Михалыч прав, – сказал Юсупов. – Вас мало, надо привлечь к правлению по выбору и шляхетство и генералитет. Вы должны быть лишь для того, чтобы обсуждать законы, каковые предложит вам «общество».
– И следить за их исполнением, – сказал Дмитрий Михайлович.
Черкасский не принимал никакого участия в разговоре. Он только тяжело сопел и не переставая пил. Не меньше пил и Иван Юрьевич.
– В Верховном Совете должны быть неминуемо все высшие из военного генералитета, – сказал он, намекая на себя.
Никто не обратил внимания на его замечание.
– Подумай, Михал Афанасьевич, – говорил Дмитрий Михайлович, – настало решительное время. Не теперь пристало спорить по пустякам! Нам нужно сейчас одно – раз и навсегда разрушить твердыню самовластья. Когда мы повалим её – мы найдём лучшие способы управления. Нам надо, – одушевляясь, продолжал он, – чтобы императрица видела, что то, что подписала она, есть истинного блага народа и есть истинно желание не токмо Верховного Совета, но и всего шляхетства! Поверь, Михал Афанасьевич, – в волнении произнёс он, – всякая рознь теперь приведёт только к торжеству врагов! А враги у нас общие. Как мы, так и вы не хотим старого порядка. Ни кнута, ни Сибири, ни дыбы, ни плахи по одному дуновению державных уст! И ежели теперь, в такие минуты, мы перегрызёмся – всё погибнет! Как чёрные вороны налетит Феофан с братией, нахлынут немцы с Бироном, и мы, мы, – с силой говорил он, ударяя себя в грудь – мы, созидавшие Русь, мы – плоть от плоти, кость от кости её – станем рабами подлых выходцев. О, не забывай, Михал Афанасьевич, что императрица девятнадцать лет прожила в Курляндии, что сын немецкого берейтора делил её ложе, что там у неё и друзья, и преданность, всё то, что она не может забыть! Что те, чужие России, люди ближе ей, чем мой брат-фельдмаршал, радость армии и слава России, чем друг и сподвижник от детских дней Великого Петра генерал-аншеф Михал Афанасьевич Матюшкин, герой Персидского похода!..
Он в волнении замолчал. Матюшкин побледнел и встал.
– Я не о том думал, – начал он, – чтобы всё повернуть на старое. В пять лет, что протекли со смерти великого государя, мы видели довольно, чтобы не желать того же. Нет, императрица подписала кондиции, и ей нет пути назад. И не за старое берёмся мы, Дмитрий Михалыч, ты не прав, а за новое! И боимся мы старого, а не нового, и потому волнуется шляхетство, да не будет вместо одного самодержца – восьми!
– Дай руку, Михал Афанасьевич, – воскликнул Дмитрий Михайлович, – ты понял меня, и мы мыслим одинаково. Подожди ещё немного. Скоро будет принесена присяга. Тогда руки у нас будут развязаны и мы сговоримся!!
Он радостно протянул Матюшкину руку. Тот от души пожал её.
Алексей Михайлович подрёмывал над недопитым стаканом. Иван Юрьевич совсем осовел.
Юсупов встал и подошёл к Дмитрию Михайловичу и Матюшкину. Все трое искренне и по-дружески стали обсуждать планы дальнейших действий.
Предсказание де Бриссака исполнилось чрезвычайно скоро. Лопухина заметила стоявшего в стороне Арсения Кирилловича и радостной улыбкой подозвала его к себе. Все мрачные мысли мгновенно оставили Шастунова. Он вспыхнул и чуть не бегом бросился к кружку дам, среди которых сидела Лопухина.
Он едва не забыл поклониться цесаревне и совсем не заметил, как побледнела Юлиана. Но счастье его достигло апогея, когда Лопухина встала и обратилась к нему с просьбой проводить её по залам поискать мужа. Артур был, видимо, недоволен и бросал на князя неприязненные взгляды.
Но счастливый Шастунов не видел этих неприязненных взглядов, как и тоскующего взора, каким проводила его бледная Юлиана.
– Он не заметил меня! – едва удерживая слёзы, сказала она себе то же, что несколько минут тому назад говорил себе Шастунов.
Лопухина взяла Арсения Кирилловича под руку и незаметно прижалась к его плечу. Князь вёл её, не зная куда, ничего не соображая.
– Где ты был? – тихо спросила Лопухина. – Отчего не хотел подойти ко мне?
Тень ревности прошла по душе Арсения Кирилловича, когда он ответил:
– Ты не заметила меня, ты была с графом Левенвольде.
Она теснее прижалась к его руке.
– Опять! – сказала она. – Я хочу, чтобы ты выкинул эти мысли из головы, глупый мальчик, слышишь?..
Они прошли ряд наполненных гостями зал.
– Ведь мужа сегодня не будет. Он во дворце, – сказала Лопухина. – Разве ты не понял?
Она тихо рассмеялась.
Арсений Кириллович вновь почувствовал себя счастливым.
Они остановились в буфетной комнате. Лопухина захотела пить. Шастунов усадил её за маленький столик и сам подал ей вина. Она медленно прихлёбывала из стакана и смотрела на князя затуманенным взором, от которого у него кружилась голова.
– Ведь ты проводишь меня домой? – спросила она.
– А граф Рейнгольд? – сказал он.
– Ах, ты всё ещё думаешь об этом! Хорошо же! – И с шутливой угрозой в голосе она добавила: – В таком случае меня проводит граф.
– О, нет, нет! – с испугом воскликнул Арсений Кириллович.
Она рассмеялась:
– Так‑то лучше, мой мальчик.
– Скажи, – нежно и тихо начал Шастунов, низко наклоняясь к ней, – скажи, ты любишь меня?
Она только взглянула на него.
– А что же Левенвольде? Скажи, скажи, – настойчиво повторял он. – Я слышал…
Лицо Лопухиной вспыхнуло. На одно мгновение на нём показалось несвойственное ей жёсткое выражение. Ей было неприятно это постоянное напоминание о Рейнгольде. И неприятно оно было ей потому, что она сама в эти минуты хотела забыть о Рейнгольде, потому что она знала, что Рейнгольд, в силу долгой связи или тех таинственных причин, которые иногда приковывают женщину к недостойному её мужчине, имеет над её телом странную власть. Что когда она видит в его прекрасных глазах загорающуюся страсть она закрывает свои глаза и теряет над собою волю. В те дни, когда Рейнгольд озабочен, холодев, почти не бывает у неё, она забывает о нём или думает о нём с пренебрежением. Но стоит ему явиться влюблённым, страстным, с нежным голосом и желаньем в глазах – она снова его.
Она была увлечена красотой и молодостью Арсения Кирилловича, минутами почти ненавидела Рейнгольда и снова тянулась к нему и была неверна и тому и другому, словно отданная во власть демонам чувственности.
– Если хочешь, чтобы я любила тебя, – отвечала она, – никогда не говори мне о нём!..
Но, заметя, что её слова странно поразили Арсения Кирилловича, она с нежной улыбкой добавила:
– Я не хочу ни о чём говорить с тобой, кроме твоей любви. И притом у меня так много врагов… среди женщин…
– Я бы хотел, чтобы среди друзей мужчин было одним меньше, – почти весело сказал князь, успокоенный её словами.
Лопухина допила вино и встала.
– Я вернусь к цесаревне, – сказала она. – Она не любит, когда от неё уходят. Не иди за мной. Обо мне и так слишком много говорят. За ужином постарайся сесть рядом со мной. А потом.
Сидя в тесных санках, крепко обняв прильнувшую к нему Лопухину, Шастунов шептал ей бессвязные слова любви.
Морозный воздух дышал им в лицо. Блестел снег под зимней, ясной луной, быстро неслась лошадь, и им казалось, что только они и есть в этом мире.
Лошадь остановилась у дома Лопухиных.
– Ты зайдёшь ко мне? Мужа не будет до утра, – едва слышно произнесла Лопухина.
XIXХотя Василий Лукич и продолжал жить во дворце, но строгий надзор за сношениями императрицы с внешним миром был уже невозможен. Уже формировался двор. Прасковья Юрьевна Салтыкова, её сестра Марья Юрьевна Черкасская, Авдотья Ивановна Чернышёва, графиня Ягужинская, баронесса Остерман и Лопухина были пожалованы в статс-дамы. Рейнгольд – в обер-гофмаршалы, Кантемир, граф Матвеев и некоторые другие были сделаны камер-юнкерами. Варенька Черкасская и Маша Ягужинская – фрейлинами.
Никто не мог запретить императрице принимать своих придворных. Кроме того, женщины как‑то не возбуждали особых подозрений у Василия Лукича. Герцогиня Мекленбургская чуть не жила во дворце.
Остерман, всё ещё, по его уверениям и уверениям его жены, тяжко больной, сейчас же воспользовался этой свободой сношений. Он направлял действия императрицы при посредстве своей жены, и особенно Чернышёвой и Салтыковой. Указывал, кого из гвардейцев следует привлечь к себе, как держать себя по отношению к Верховному Совету. Он одобрял её и советовал осторожность и терпение. По его указанию она пожаловала камер-юнкерство Матвееву и Кантемиру, а потом и Гурьеву. Это все были ярые сторонники самодержавия, имевшие за собой много отчаянных молодых голов среди гвардейцев, мечтавших о фортуне, случае или просто ненавидевших верховников по тем или другим причинам, как, например, Кантемир ненавидел князя Дмитрия Михайловича из‑за майората. И безусловно, все ненавидели и презирали ничтожного Алексея Долгорукова, наглого в счастье, трусливого в беде, корыстного и жадного.
Мало-помалу эта группа, благодаря милостям императрицы, уму Кантемира, интригам Рейнгольда и широким, безудержным кутежам графа Фёдора Андреевича, спаивавшего чуть не целые полки, всё увеличивалась новыми и новыми членами и, наконец, по мнению Остермана, зорко за всем следившего, уже достигла значительной силы.
Он хорошо знал, что примерно с такими же силами Меншиков и Толстой возвели на престол Екатерину. Надо только в нужный момент собрать эту силу и неожиданно поразить растерявшегося врага. Старик знал каждый шаг друзей и врагов.
Верховники, хотя наконец и поверили его болезни (никого из них даже не допускали к Андрею Ивановичу), всё же считали долгом посылать ему протоколы, указы, доклады при кратких секретных мемориях, обыкновенно составляемых Василием Петровичем, об общем положении дел.
Вице-канцлер внимательно всё прочитывал и возвращал в Совет доклады и указы неподписанными. Он ведь так плох, что не может держать в руках пера.
Об успехах среди сторонников самодержавия он знал подробно от Рейнгольда. О настроении шляхетских кругов – от своей жены, имевшей сведения от княгини Черкасской, а через Салтыкову – от её брата – фельдмаршала, у которого постоянно собиралось шляхетство во главе с генералом Матюшкиным.
Искусный старик, казалось, держал в руках все нити интриги. Через жён он влиял на мужей, раздувая глупое честолюбие фельдмаршала Трубецкого, завидовавшего положению и популярности Долгорукого и Голицына, внушая Черкасскому, что он унижен верховниками, что ему надлежало бы быть канцлером и так далее.
Все эти меры имели успех, и, казалось, вице-канцлеру удалось всех натравить на Верховный Совет. Казалось, его дальновидные соображения уже увенчались успехом.
В тиши своего кабинета, сидя перед камином, вице-канцлер мечтал с закрытыми глазами о своём грядущем величии.
Императрица, по-видимому, всё больше и больше проникалась его советами и решимостью к предстоящей борьбе.
Горделивые мечтания Остермана были нарушены приходом его жены. Она приехала из дворца, видимо, взволнованная.
– Ну, что там? – спросил Андрей Иванович, целуя её руку.
– Я ничего не понимаю, – начала баронесса.
– Моей маленькой Марфутчонке ничего и не надо понимать, – с улыбкой ответил Остерман. – Ей следует только быть внимательной и исполнять со своим обычным женским искусством поручения своего старого мужа.
– Это не мало, – отозвалась Марфа Ивановна.
– Это очень много, – сказал Остерман, снова целуя её руку. – Но в чём дело?
– Я до сих пор думала, – начала баронесса, – что князь Черкасский ненавидит Дмитрия Голицына, князь Трубецкой – фельдмаршалов, а генерал Матюшкин, свойственник и любимец государыни, стоит на её стороне против всего Верховного Совета.
– Ну, да, – нетерпеливо произнёс Остерман. – Он же подал особый проект…
– Ну, так я должна сказать, что они, должно быть, помирились, – сказала баронесса.
– Что? – в изумлении спросил Остерман.
– Да, – повторила баронесса. – Они все трое были сегодня у императрицы. Был и Василь Лукич. Я сама видела своими глазами, как они дружески беседовали… Я сама слышала своими ушами, как Матюшкин сказал Василь Лукичу: «Дмитрий Михалыч прав. Надо нам соединиться всем вместе – и сговоримся. Мы не поняли друг друга. Но теперь Дмитрий Михалыч знает, что мы не враги Верховного Совета…»
«Вот что, – думал Остерман, и его сердце упало. – Если это так, то, кажется, я захвораю на самом деле». Но голос его был ровен, когда он громко спросил:
– Что ещё?
– Они все вместе вошли к императрице и очень долго были там, – говорила баронесса. – Герцогиня Екатерина сказала, что вчера у Головкина Дмитрий Михалыч уж очень был дружен с генералом Матюшкиным…
«Ужели Дмитрий Михалыч перехитрил меня? – думал Остерман. – Но мы ещё посмотрим… только бы не отступила императрица».
– Ты видела после этого императрицу? – спросил он.
– Нет, – ответила баронесса. – Она выслала к нам своего маленького пажа сказать, что мы не нужны.
– А те уехали?
– Они, по-видимому, прошли на половину к Василь Лукичу, – ответила Марфа Ивановна.
– Кто сегодня дежурный? – спросил Остерман.
– Граф Левенвольде, – ответила Марфа Ивановна.
– Хорошо, благодарю, – произнёс Остерман. – Всё, что ты сказала, важно, но не страшно. А теперь, дорогая Марфутчонка, – закончил он, – я бы хотел немного подремать здесь. Я плохо спал ночь.
Марфа Ивановна встала.
– Спи, Иоганн, я не велю тебя тревожить, – сказала она.
– Да, – наклонил голову Остерман. – Я никого не могу принять, за исключением графа Рейнгольда.
– Хорошо, Иоганн.
Привычным движением Марфа Ивановна оправила на ногах больного меховое одеяло и тихо вышита из комнаты.
Остерман, конечно, вовсе не хотел спать. Он хотел остаться один – обдумать способы расстроить зарождавшийся союз.
Партии Черкасского и Матюшкина имели за собой большинство. Соединившись, они явятся выразителями пожеланий почти всего шляхетства и генералитета, а соединившись с верховниками, они станут несокрушимой силой.
Остерман глубоко задумался. Его деятельный ум составлял всевозможные комбинации. Но скоро он понял, что в его расчётах не хватает одного – он ещё не знал отношения императрицы к создавшейся «конъюнктура».
Он был уверен, что при своей ловкости Рейнгольд сумеет узнать подробности, а то, может быть, и сама императрица даст ему поручение. Она верит в его преданность; она уже знает, от кого Густав Левенвольде получил письмо об её избрании.
Остерман давно уже перестал скрытничать перед Рейнгольдом, совершенно прибрав его к рукам.
– Подождём, – сказал себе Остерман.
Но ждать ему пришлось сравнительно недолго. Часа через два явился Рейнгольд.
По одному взгляду на его расстроенное лицо Остерман понял, что вести, привезённые им, были неблагоприятны.
– Я думаю, что всё кончено, – начал Рейнгольд, не здороваясь с Остерманом. – Кажется, все наши хитроумные комбинации приведут только к тому, что мы станем на голову меньше ростом, – закончил он с нервным смехом.
Остерман бросил на него острый взгляд, и насмешливая улыбка скользнула по его губам. Казалось, он подумал: «Ну, твоя‑то голова – потеря небольшая».
– Прекрасно, граф, – холодно сказал он. – Но не надо преувеличивать ценности своих голов, когда дело идёт о благе государыни и обширной империи; я жду от вас не ламентаций, а нужных сообщений[50]50
...я жду от вас не ламентаций, а нужных сообщений. – Ламентация (лат.) – жалоба, сетование.
[Закрыть].
Холодный тон Остермана подействовал на Рейнгольда. Он робел перед стариком. Остерман так запутал Рейнгольда в свои интриги, что тот чувствовал себя как муха в паутине. Ему ничего не оставалось больше делать, как беспрекословно повиноваться железной воле этого лукавого старика, чтобы действительно не стать на голову короче.
– В чём же дело? – спросил Остерман.
– Я приехал к вам по поручению императрицы. Она совсем расстроена, упала духом, плачет. Вот её подлинные слова: «Передай Андрею Иванычу, что я ото всего отказываюсь, что я устала, что не хочу никакой борьбы, что пусть сам размыслит, в случае чего, что я не только за него, но и за себя не могу поручиться…»
Пергаментные щёки Остермана приняли пепельно-серый оттенок, но он ни одним словом не прерывал Рейнгольда.
Рейнгольд продолжал.
Императрица всё рассказала ему. Рассказала об угрозах Василия Лукича лишить её престола и призвать на престол или голштинского чёртушку, или принцессу Елизавету. Передала подробности сегодняшнего неожиданного для неё разговора с Черкасским, Трубецким и Матюшкиным в присутствии Василия Лукича. Матюшкин, опираясь на эти проклятые кондиции, прямо заявил императрице, что настало время заняться государственным устройством, что купно с Верховным Советом шляхетство и генералитет поднесут её величеству соответственный проект, согласно кондициям. Что её величество, в торжественном заседании Совета, в присутствии шляхетства и генералитета, должна подписать этот проект, и помянул, что в Верховном Совете императрице предоставляется два голоса. Василий Лукич при этом заметил, что государыня сейчас изволит слушать желания всего народа, первоначальными выразителями коих явились её верноподданные, члены Верховного тайного Совета.
Императрица была поражена. Она так надеялась на князя Черкасского, так была убеждена, со слов самого же Остермана, в верности Трубецкого и в родственных чувствах генерала Матюшкина! Она едва имела силы ответить им несколько слов.
Они ушли торжествующие, а она потеряла все надежды…
Остерман слушал его, и в нём говорила профессиональная зависть дипломата. Как он, Остерман, возбуждавший удивление в Европе своим гением в интриге и всяких «конъюнктурах», был выбит из своей позиции ловким ходом Дмитрия Михайловича?! Он живо представил себе лицо прямого и честного Матюшкина и страстную речь Дмитрия Михайловича, сумевшего привлечь на свою сторону неподкупного и смелого противника.
Обычная сдержанность, быть может, в первый раз в жизни покинула его. Резким движением он сбросил с ног прикрывавшее их меховое одеяло, сорвал с глаз и швырнул на пол зелёный зонтик и нервной походкой, с юношеской живостью заходил по комнате. Глаза Остермана сверкали и стали такими большими, какими никогда их не видел Рейнгольд.
Рейнгольд был ошеломлён. Он думал, что если старик и преувеличивает свою болезнь, то всё же он дряхл и болен.
– Нет, нет, – окрепшим, совсем молодым голосом говорил вице-канцлер, крупными шагами ходя по кабинету. – Они рано торжествуют. Назло им, назло самой императрице я восстановлю блеск и силу её самодержавия, едино нужного для блага этой варварской страны! Она стала моей второй родиной! Пусть упрекают меня! Да, старый Остерман честолюбив! Старый Остерман властолюбив! Старый Остерман хитрит и обманывает и идёт тёмными каналами, как говорит Волынский!.. Но старый Остерман заключил Ништадтский мир! Старый Остерман, опираясь на великого императора, сумел показать Европе, что дикая Россия стоит Франции и империи цезарей! Старый Остерман добился того, что пороги его скромной квартиры переступают послы могущественных держав, униженно умоляя о поддержке России! Старый Остерман не уступил ни одной пяди русской земли и не стоил России ни одного лишнего пфеннига!
Никогда Рейнгольд, да и никто другой, не видел сдержанного и осторожного вице-канцлера в таком возбуждённом состоянии.
– Они ещё поборются со мною и оплачут своё торжество!.. Садись, – повелительно произнёс он, обращаясь к Рейнгольду и переходя на «ты». – Садись и пиши письмо императрице.
Рейнгольд послушно сел к столу, придвинул бумагу и взял в руку перо.
Лицо вице-канцлера выражало величайшее напряжение мысли. Оно было почти вдохновенно. Как великий полководец на поле битвы в трудную минуту вдруг находит подходящее решение, так и Остерман, этот «гений интриги», мгновенно оценил и взвесил все шансы успеха и бросил на поле битвы свои последние резервы.
Он лихорадочно диктовал, и Рейнгольд едва успевал записывать его слова.
Остерман опять начал с вопроса о необходимости для России самодержавия, затем внушал императрице твёрдость и уверенность в победе. Говорил о непрочности союза, заключённого шляхетством с верховниками, уверял, что при ненасытном властолюбии Василия Лукича, при деспотическом характере князя Дмитрия Михайловича нельзя рассчитывать на то, что верховники уступят хоть часть своей власти представителям шляхетства, и, наконец, предлагал поистине гениальный план, чтобы разбить силы противников. Этот план был основан на психологии врагов. Остерман советовал императрице предложить князю Черкасскому подать свой проект, не дожидаясь мнения Верховного Совета, непосредственно ей. При этом надо сказать глупому, но самоуверенному князю, что императрица верит в его глубокий ум, что по своим способностям ему следует занять место канцлера, а не идти в хвосте за Верховным Советом, что его проект, наверное, исполнен государственной мудрости и вызван усердием к отечеству.
То же надо сказать и Матюшкину, уверив его, что она лучше и беспристрастнее оценит его проект, чем верховники, среди которых находятся два фельдмаршала, соперники его военной славы.
Что эти проекты надо подать ей публично и торжественно, дабы она могла с высоты престола заявить о своём доверии к представителям генералитета и шляхетства. После этого верховники, как бы ни были самовластны, должны будут считаться с мнением императрицы, тем более что она будет действовать, не нарушая кондиций.
Они принуждены будут молчать, раз она сама, признавая ограничение своей власти, захочет ближе ознакомиться с пожеланиями всего «общества». Но это породит раздоры между вчерашними союзниками и даст время её сторонникам подготовить решительный удар. Какое правление, кроме самодержавного, возможно в той стране, где общество, несмотря на волю, изъявленную с высоты трона, не может выработать новых форм государственного устройства?!