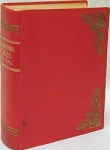Текст книги "Звезда цесаревны. Борьба у престола"
Автор книги: Надежда Мердер
Соавторы: Федор Зарин-Несвицкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 47 страниц)
Макшеев чувствовал себя бесконечно счастливым. Он с полным удовлетворением мог сознаться, что блестяще исполнил своё поручение. В мороз, в бурю, в снег, по тёмным дорогам, почти не отдыхая, и днём и ночью скакал он из Митавы в Москву; даже ни разу не поел как следует, только подкреплялся вином, которого он проглотил за это время неимоверное количество.
Помня слова и просьбу Дивинского постараться нагнать таинственного посланца, он на всех стоянках расспрашивал, не проехал ли кто до него? Но незнакомец как в воду канул.
Не зная, в чём дело, и не имея никаких инструкций, Макшеев не передал об этом князю Дмитрию Михайловичу.
Обласканный Дмитрием Михайловичем, который сказал ему, что Верховный Совет достойно наградит его, в ожидании производства Макшеев чувствовал себя на седьмом небе.
Отпуская его, князь сказал:
– Иди отдыхай. Чай, устал с дороги. Раньше завтра не понадобишься. Отсыпайся.
«Слава те, Господи, наконец‑то отосплюсь», – думал свою любимую думу Алёша. Выйдя от князя, он хотел направиться домой, в свою одинокую квартиру к Варварским воротам. Но солнечный зимний день был так хорош. У возбуждённого и радостного нового поручика и сон прошёл. Он с ужасом подумал о своей, наверно, теперь холодной, нетопленной квартире. Его человек, Фома неверный, как он шутя называл слугу, походил на своего барина. Любя выпить и поволочиться за девками, он и в присутствии Макшеева иногда пропадал на целые дни, за что и был прозван Алёшей неверным. Теперь же, когда его господин исчез на десять дней, Фому, наверное, и с собаками не сыщешь.
Притом день велик, впереди ещё ночь.
Размышления поручика кончились тем, что он решил зайти в остерию, тем более что чувствовал немалый голод. Мысль о тёплых, уютных комнатах остерии, о горячей еде, о хорошем вине и доброй компании очень улыбалась ему.
С удовольствием дыша свежим воздухом, чувствуя себя свободным, не имея надобности торопиться, Алёша медленным шагом направился к гостеприимному убежищу вдовы Гоопен.
Едва вошёл он в тёплую, накуренную залу остерии, как сразу почувствовал себя как рыба в воде. Из‑за буфета на него глянуло суровое лицо старухи Марты, обрамлённое белым плоёным чепчиком[37]37
…лицо старухи Марты, обрамлённое белым плоёным чепчиком. – Плоёный – со складками.
[Закрыть]. Сделав ему книксен, пробежала мимо него цветущая, улыбающаяся Берта.
Несмотря на ранний час, остерия была полна. Красные и синие камзолы офицеров, весёлые знакомые голоса, громкий смех, звон посуды – всё было так мило и привычно Алёше.
Не успел он оглядеться, как его уже узнали:
– Алёша!
– Алексей Иваныч!
– Сюда!
– Откуда?
– Да жив ли ты?
Со всех сторон послышались возгласы.
– Я, я сам, – весело закричал Алёша, плохо различая после яркого солнца в полутёмной остерии лица присутствовавших.
Из‑за стола поднялся и двинулся ему навстречу красный камзол, и только когда он подошёл совсем близко, Алёша узнал в нём своего приятеля, кавалергарда Ваню Чаплыгина. Они облобызались.
– К нам, к нам, – говорил Ваня, увлекая его к своему столу.
За большим столом сидели офицеры, частью знакомые Макшееву, преображенцы, семёновцы и его товарищи по лейб-регименту, частью незнакомые, из армейских, недавно прибывших в Москву полков, Копорского, Вятского и других. Офицеры шумно поднялись навстречу. Макшеев радостно здоровался с ними; с приятелями целовался.
После взаимных приветствий Алёша уселся рядом с Чаплыгиным и, по привычке подмигнув хорошенькой Берте, спросил вина и «фрыштык».
Алёша давно был общим любимцем. Он легко и быстро сходился с людьми, и не прошло пяти минут, как разговор стал общим. Поездка Макшеева в Митаву была известна в его полку, а через сослуживцев по полку и офицерам других полков. И так как все интересы в данный момент были сосредоточены на действиях Верховного тайного совета, то, естественно, Алёшу со всех сторон засыпали вопросами:
– Что привезли императрице депутаты? Как она отнеслась к ним? Какова она?
Хотя Алёшу Василий Лукич и не предупреждал о том, что надо всё держать в тайне, но Алёша инстинктивно чувствовал это.
Он избегал отвечать на прямые вопросы. Но молодое чувство рвалось наружу.
– Одно скажу, – воскликнул он. – Обещалась государыня полегчить нам. Не будет измываться над нами каждый Ванька… (Этим он намекал на фаворита покойного императора Ивана Долгорукого). Так‑то…
– А будут измываться Долгорукие да Голицыны? – вдруг раздался с конца стола резкий, насмешливый голос. – Хрен редьки не слаще, а часто ещё горчее.
Макшеев взглянул на говорившего. Это был молодой худощавый офицер в армейской форме. Какого полка, Макшеев не мог разобрать. Сукно на камзолы армейских полков покупалось не всегда одинаковое, а в зависимости от иностранных фирм, поставлявших его.
– Да, – продолжал офицер. – Один Ванька или восемь – легче не будет.
Чаплыгин наклонился к Макшееву и прошептал:
– Это Новиков, Данило Иваныч, Сибирского полка подполковник. Чуть ли не республику учреждать хочет!
– Зачем офицеров Вятского полка перехватили? – продолжал Новиков. – Уж если Верховный Совет полегчить хочет – так не самовластвуй!.. Мы такие же дворяне! Нельзя мимо нас новым устроением заниматься! Должно помнить, что Долгорукие и Голицыны – ещё не вся Русь. Довольно того, что, никого не спрашаючись, препоручили престол герцогине Курляндской. А почему не Елизавете? А почему не принцу Голштинскому или Екатерине Мекленбургской? Как ещё не поспели сговориться – не Екатерине Долгорукой?
– Молчи, молчи, Данило Иваныч, – произнёс Чаплыгин, желая прервать этот разговор. – Поживём – увидим.
Макшеев молчал. Он вообще не занимался политикой. Ему было всегда хорошо; но под влиянием Шастунова и Дивинского он мало-помалу смутно начал понимать, что что‑то следует изменить, что надо как‑нибудь обезопасить себя от какого‑нибудь Ваньки. Как это сделать, он не знал, да и не хотел рассуждать об этом.
«Там разберут!» – думал он, разумея под словом «там» членов Верховного тайного совета, особенно фельдмаршалов, о подвигах которых слышал ещё в детстве.
Сидевший рядом с Новиковым молодой поручик что‑то тихо стал шептать ему на ухо. Новиков нетерпеливо передёрнул плечами и встал.
– Ужо потолкуем, – резко произнёс он.
С конца стола к Макшееву подошёл юный гвардейский офицер.
– Мы, кажется, знакомы уже, – произнёс он. – Я Преображенского полка Иван Окунев.
Вглядевшись в лицо юного прапорщика, Макшеев сразу узнал его. Вообще надо сказать, мало было в Москве гвардейских офицеров, которых не знал бы Макшеев. То в остерии, то на парадах при покойном императоре, то в каких‑нибудь весёлых местах, а то и в дружеской компании на частых пирушках он перезнакомился почти со всеми.
– Как же, как же, – отозвался Макшеев. – Знаю, знаю, помню. На крещенском параде рядом стояли.
Он дружески пожал руку прапорщику.
– Ещё мы встречались у Петра Спиридоныча, – сказал прапорщик.
– У Сумарокова? – спросил Макшеев, пристально глядя на Окунева.
– Да, – ответил Окунев. – Мы с ним ведь оба адъютанты у графа Павла Иваныча.
– Фью! – свистнул подвыпивший Макшеев. – Вот оно что! Вы счастливее вашего приятеля, – рассмеялся он.
Окунев недоумевающе и тревожно взглянул на него.
– Я давно не видел Петра Спиридоныча, – сказал он, бросая быстрый взор на прислушивавшегося Чаплыгина. – Вы что‑то знаете? Разве с ним случилось несчастье?
– Ну что, коли вы друг его, – отвечал Макшеев, – вам скажу. Друг ваш арестован в Митаве…
– Арестован! – в один голос воскликнули Окунев и Чаплыгин.
– Да, – продолжал Макшеев. – В Митаве. Чем бедняга провинился, про то знает Василь Лукич, только заарестовали его.
Побледневший Чаплыгин низко наклонился к Макшееву.
– Алёша, – сказал он, – не утаи, что знаешь. Друг нам Сумароков.
– Ей-ей, ничего не знаю, – ответил Макшеев. – Не успел ничего узнать. Как выехал из Митавы, так и встретил его.
И в кратких словах он передал всё, что знал.
– Я обо всём уже доложил князю Дмитрию Михайлычу, – закончил он.
Окунев сидел как опущенный в воду. Чаплыгин, бледный, в волнении, пил стакан за стаканом. И Окунев и Чаплыгин хорошо знали, зачем был отправлен в Митаву Сумароков, и знали, что теперь грозило ему, а с ним вместе и Ягужинскому, и всем близким к нему людям.
Кавалергарды хорошо звали графа Павла Ивановича, а Чаплыгин был одним из самых энергичных офицеров, имевшим большое влияние на своих товарищей. С домом Ягужинского его связывали давние дружеские отношения, существовавшие между его отцом и графом. Отец Чаплыгина был сенатором и умер незадолго до кончины императрицы Екатерины. Так же, как и Ягужинский, он ненавидел Меншикова и по мере сил противодействовал ему, в числе немногих, наряду с Ягужинским. После его смерти Ягужинский принял под своё покровительство сына Ивана и сумел привязать его к себе. Ягужинский был сильным и властным человеком, и все окружающие считали его положение непоколебимым.
Чаплыгин, веря в его могущество и значение, благодарный ему за оказанное покровительство, естественно, был на его стороне. Также и Окунев, избранный Ягужинским в адъютанты.
Судьба этих офицеров оказалась связанной с судьбой графа. И Окунев, и Чаплыгин отлично уяснили себе, что значит арест Сумарокова. Но к чести их надо сказать, что ни тот ни другой ни на миг не подумали покинуть Павла Иваныча и примкнуть к победителям. Кроме того, они верили в ум и находчивость графа.
Окунев встал и, наклонясь к Чаплыгину, быстро шепнул ему:
– Теперь я должен быть при нём. Чаплыгин кивнул головой.
Окунев отошёл, замешался в толпе офицеров и через несколько минут незаметно скрылся. Шум в остерии рос.
– Заприте двери! Никого больше не пускать в остерию, – крикнул кто‑то.
Марта уже и сама тревожилась. Безнадёжно махнув рукой, она заперла двойные двери.
В одном углу, окружённый офицерами, Новиков громко говорил, размахивая руками:
– Мы тоже хотим своей доли. Пусть верховники призовут нас, и мы скажем, чего хотим. Мы не отдадим им в руки всей власти! Мы хотим жить не по их указке! Для них всё – власть, слава! Над ними – никого! Кто может обуздать их своевластье? Никто! Не надо нам их, злобных олигархов! Пусть всё вершит общенародие!..
– Пусть тогда сама императрица позволит нам сказать, чего мы хотим! – протискиваясь к Новикову, кричал бледный молодой офицер.
– Молчи, Горсткин, – остановил его другой офицер.
– Да как они смели избрать императрицу! – кричал в другом углу залы высокий офицер. – Кто право им дал? Они «выкрикнули» императрицу, как бояре – Василия Шуйского. А что вышло из того? Нет, выбирать так общенародно, как выбирали Михаила Романова…
– Перехватать бы их, да и делу конец, – послышалось чьё‑то замечание…
– Подождём приезда государыни, там виднее будет, – послышался чей‑то примирительный голос.
Шум стоял невообразимый. Суровая Марта беспокойно поглядывала вокруг. Хотя двери были заперты, но, наверное, шум был слышен и на улице. Среди азартных споров то и дело слышался звон стаканов и бутылок, сопровождаемый криками:
– Вина!
Берта, как Геба, в сопровождении двух мальчишек-ганимедов[38]38
Берта, как Геба, в сопровождении двух мальчишек – ганимедов… – Геба – в древнегреческой мифологии богиня юности. Подносила богам на Олимпе нектар и амброзию (ароматную пищу богов, дававшую им вечную юность и бессмертие). Ганимед – прекрасный юноша, которого похитил Зевс и сделал своим виночерпием.
[Закрыть] едва успевала удовлетворять желание гостей.
– Ну, брат, и каша же здесь, – почёсывая за ухом, сказал Макшеев своему соседу, угрюмому старому армейскому капитану, не сказавшему за всё время ни слова и молча тянувшему вино. – Прямо голова пухнет…
– Я бы дал им, – Хриплым басом ответил капитан. – Я бы пустил их к Наревскому мосту, где я рядом стоял с Михал Михалычем! Поговорили бы! Я бы их!.. Умны очень. А я скажу, – вдруг закричал он, – что коли фельдмаршал Михал Михалыч что делает – оно так и нужно!
Он с такой силой ударил стаканом по столу, что стакан разбился вдребезги.
– Гвардия! Маменькины сынки! В колыбели ещё сержанты! – продолжал капитан. – Нет, ты послужи честь честью! Ты солдатом побывай под Нарвой, повоюй со шведом, сломай Прутский поход с Петром Алексеевичем – тогда и поговорим! Брехуны! А ни настолечко не знают, что надо нам! Знаю я, сами лезут, зависть берёт… А Михал Михалыч всё знает. Пётр Алексеевич ему за Полтавскую викторию десять тыщ серебряных рублей отвалил… Шутка ли! А знаешь, что Михал Михалыч сделал? А? У меня‑де, говорит, солдаты без сапог, да на руках много вдов их и сирот… Да и роздал все десять тыщ. Вот каков Михал Михалыч! Брехуны проклятые!
Старик злобно сплюнул и, взяв у соседа стакан, налил себе вина.
– Опять то же, – заговорил он снова. – Всё речь идёт – генералитет, бояре, шляхетство. Все только о себе мыслят. Потому что? В гвардии что ни рядовой, то дворянин. У папеньки да у маменьки дворовые. Ну, с жиру и бесятся. А ты поди в Астраханский полк. Загляни в Тобольск да в Пелым… Тогда и подумай… Я ведь тоже дворянин. А за что? Под Нарвой ноги прострелены, под Лесным палец оторвало, под Полтавой саблей по башке полоснули – тут Пётр Алексеевич и дал мне чин сержанта да и дворянство…
К словам старика уже прислушивались.
Капитан замолчал и угрюмо уставился в свой стакан.
– О том и речь идёт, чтобы полегчить народу, – промолвил молодой офицер, сидевший рядом с капитаном.
Капитан после своей речи заметно ослабел. Он ничего не ответил соседу, только неопределённо махнул рукой.
В голове Макшеева тоже всё перепуталось. До сих пор всё казалось ему так ясно и просто, весело и радостно. Всё, по его мнению, было «по-хорошему», а тут Бог весть что говорят. Ничего не поймёшь, и никто не доволен. «Голова моя плоха, – подумал он. – Пустить бы сюда Арсения Кирилловича или Фёдора Никитича – те живо разобрались бы…»
Короткий зимний день уже кончался. Берта и мальчики зажгли лампы. Споры стихли. Офицеры разбились на группы и уже спокойнее беседовали между собой. Марте дано было позволение открыть двери, что она и поспешила сделать с истинным облегчением. Мало-помалу присутствовавшие стали расходиться.
В сопровождении нескольких офицеров ушёл и Новиков; поднялся отяжелевший капитан и угрюмо, прихрамывая, подошёл к углу, где лежали в куче плащи и верхние камзолы, выбрал свой поношенный, лёгкий, неопределённого цвета камзол, кряхтя, надел его и вышел. Остерия постепенно пустела. Незаметно исчез и Чаплыгин. Осталось только несколько человек, которым, очевидно, некуда было деться.
– Что же теперь делать? – произнёс, вставая, Макшеев.
– Знаешь, Алёша, – обратился к нему сержант Ивков, его товарищ по лейб-регименту. – Я знаю хорошее местечко. – И, наклонясь к уху Макшеева, он оживлённо начал шептать ему.
– Ой ли? – весело отозвался Макшеев… – И карты?..
– И иное прочее, – подмигнул Ивков.
– Так гайда, братцы! – крикнул Макшеев. – Кто с нами?
Расплатившись, весёлая компания вышла на улицу. У остерии постоянно толпились извозчики. Молодые люди взяли несколько саней и полетели по пустынным улицам в знакомое Ивкову укромное местечко, каких появилось в Москве множество со времени переезда туда двора юного императора, окружённого кутящей, весёлой гвардейской молодёжью во главе с Иваном Долгоруким.
Часу в четвёртом, сильно навеселе, проигравшись до последнего рубля, вернулся Алёша домой. Ему ещё немало пришлось пробыть на морозе, пока на его отчаянные стуки ему открыл дверь его неверный Фома. Обругав его всякими словами, на что Фома резонно и спокойно ответил ему: «Сам‑то хорош», – Макшеев завалился спать. Фома заботливо раздел его, прикрыл одеялом и, покачав головой, отправился к себе.
Но положительно судьба преследовала поручика. Не было и семи часов, как от князя Дмитрия Михайловича пришёл за ним вестовой. Фома с трудом растолкал барина.
– А, чёрт! – выругался Алёша. – И поспать не дадут.
Однако он торопливо вымылся, оделся, велел подать верховую лошадь, на всякий случай перекинул через плечо сумку, осмотрел пистолеты и через полчаса, бодрый и свежий, уже стоял перед князем.
Князь поздравил его с производством в поручики и, к неожиданной радости Алёши, подавая ему кошелёк, сказал:
– По приказу Верховного Совета жалуется тебе сто рублей серебром.
«Вот это славно, – подумал Макшеев. – Не было ни гроша, и вдруг алтын». Он поблагодарил князя.
– Ну, а теперь, – продолжал Дмитрий Михайлович, – ты, я вижу, уже отдохнул. Вот тебе пакет к Василь Лукичу. Скачи немедля к нему навстречу. Верно, уже на дороге встретишь его. Отдай в собственные руки. Ну, с Богом!
Макшеев поклонился, взял пакет и вышел.
– Отдохнул, выспался, чёрта с два, – бормотал он, садясь на лошадь. – Должно, отосплюсь на том свете. Ладно, хоть деньги‑то есть, – закончил он свои размышления, ощупывая в кармане кошелёк.
IV
Обстановка комнаты производила странное впечатление. Мягкие смирнские ковры покрывали пол, и на них были в беспорядке брошены вышитые золотом и цветными шелками подушки. Низкие тахты с пёстрыми «мутахи», низкие кресла, большой аквариум с золотыми рыбками, с искусно устроенным фонтанчиком, вокруг невысокие, широколистные пальмы в кадках, – и в углу икона с тихо теплящейся перед ней лампадкой. Тонкий, но удушливый аромат поднимался от золотой высокой курильницы чеканной работы в виде острого трилистника. О потолка на золотых цепочках свешивался матовый фонарь. Отблеск заходящего зимнего солнца играя в воде аквариума, где резвились рыбки, и на золотых цепочках фонаря.
Если бы не икона в углу, эта тёплая, наполненная пряным ароматом комната могла бы показаться уголком, перенесённым из дворца какого‑нибудь калифа. В низком кресле сидела молодая девушка, а у её ног примостилась на ковре старая женщина в типичном татарском уборе на голове, в шитой золотом чухе[39]39
…в шитой золотом чухе. – Чуха (чоха) – верхняя одежда с широкими рукавами.
[Закрыть].
Эта девушка была княжна Прасковья Григорьевна Юсупова, дочь подполковника Преображенского полка, первого члена Военной коллегии князя Григория Дмитриевича, внучка Абдул – мирзы, потомка ногайского князя Юсуфа. Её чисто русское имя Прасковья так же казалось странным, как и икона с мирной лампадкой в этой убранной по-восточному комнате.
Прасковья Григорьевна, Паша, как звали её близкие, была красива нерусской красотой. Большие чёрные глаза, едва заметно выдающиеся скулы, резко очерченный, но небольшой и тонкий орлиный нос выдавали её происхождение. Чёрные волосы были заплетены в две тяжёлые косы, перевитые цветными лентами.
Во всём лице её, прекрасном и суровом, было выражение дикой и упрямой воли.
Сидевшая у её ног женщина была выкормившая её татарка Сайда, которую князь окрестил, назвав Софией. Несмотря на свои тридцать пять лет, Сайда выглядела почти старухой. Она была страстно привязана к княжне, и, кажется, это была единственная привязанность в её жизни. Муж её давно умер где‑то на стороне, умер и ребёнок, едва родившись.
Хотя при чужих Паша всегда называла свою старую кормилицу Софьей, но наедине звала её Сайдой. Это имя предпочитала и кормилица, и сам отец – князь нередко называл её так.
Прасковья Григорьевна сидела глубоко задумавшись, сдвинув чёрные брови, опустив руки. На коленях у неё лежал кусок синего бархата, который она вышивала серебром.
Солнце зашло. В комнате потемнело.
– Зажечь огонь, моя звёздочка? – тихо спросила Сайда.
– Оставь, – коротко ответила Паша, словно пробуждаясь от своих мыслей, тихо вздохнула.
– А ты не томись, – заговорила Сайда. – Что ты всё сидишь да молчишь и думаешь. Нехорошо много думать. Судьбы не изменишь. Сама знаешь.
– Оттого‑то и думаю, – ответила Паша, – что судьбы не изменишь, а что будет – не знаю.
– Будет счастье, много счастья, – сказала Сайда. – Носишь камень?
– Ношу, – произнесла Паша и вынула из‑за пазухи висевший на тонкой золотой цепочке вместе с крестом и образком чёрный плоский камень с узорной надписью.
И это – крест и амулет на одной цепочке – было так же странно и неподходяще одно к другому, как обстановка комнаты и икона, как сама княжна и её имя.
– Носишь, так и не бойся, – уверенно сказала татарка и, поднявшись с ковра, положила тихо руки на колени княжны и радостно продолжала: – Чего томишься? Он будет твой, он любит тебя. Вот скоро вернётся…
– Любит? – страстно воскликнула Паша. – Любит? Почём знаешь?.. Смотри, сколько красавиц сейчас на Москве… Лопухина, Нарышкина, Измайлова… Да всех и не перечесть… А я… Ведь они меня зовут черномазой.
И на её смуглом лице проступил румянец.
– А ты лучше всех, – ответила Сайда.
– Ах, Сайда… любит, любит!.. Ты всё болтаешь. Зажги огонь.
Княжна резко встала.
Сайда поднялась, опустила фонарь, подошла к курильнице, зажгла от углей палочку душистого алоэ и засветила фонарь. Потом опустила тяжёлые занавеси окна. После этого она снова села на ковёр, поджав под себя ноги.
Матовый свет фонаря с лёгким зеленоватым оттенком производил впечатление лунного света; Лицо Паши казалось бледным, и ярче горели на бледном лице чёрные глаза.
Она ходила по мягкому ковру, сжав за спиной тонкие руки.
А Сайда тихо и монотонно говорила:
– Сайда всё видит. Сайда ночи не спит, всё молится и гадает. И разве мужчина может спрятать любовь? Любит он тебя… И сама ты это знаешь…
Княжна вдруг улыбнулась. Да, это правда, разве может мужчина, особенно юный, скрыть свою любовь от любящей женщины?
– Сайда, милая Сайда, – воскликнула Паша и, подбежав к татарке, крепко обняла её и поцеловала в морщинистую щёку. – Любит, любит… Федя, милый, – в неудержимом порыве прошептала она.
И она вспомнила робость Дивинского в её присутствии, его загорающиеся глаза, трепетное пожатие его руки. Она не знала, не задумывалась и знать не хотела, какая сила потянула её к этому стройному, юному офицеру с серыми смелыми глазами, смотревшими на неё с таким робким обожанием. Между ними ещё не было сказано ни слова, но они поняли друг друга. Князь смотрел, по-видимому, благосклонно на их зарождающееся чувство.
Но новая мысль опять омрачила её настроение.
– Двенадцать дней его нет, – упавшим голосом сказала она. – Что с ним, вернётся ли?
– Почему не вернётся? – возразила татарка. – Он не дитя, да и не один поехал.
– Ах, ты ничего не понимаешь! – с досадой крикнула княжна, топнув ногой. И снова беспокойно заходила по комнате.
От отца она знала всё значение посольства, и хотя не вполне понимала создавшееся положение, но, видя отца озабоченным и тревожным, сама не зная чего, боялась.
Последние два дня Григорий Дмитриевич был до такой степени озабочен, что с утра, пока ещё дочь спала, исчезал из дому и возвращался, когда она опять уже спала. По получении известия от верховников о согласии Анны на кондиции, князь принял самое деятельное участие в обсуждении вместе с верховниками, которые его особенно чтили и уважали, вопросов, касающихся дальнейшего устройства управления.
Под влиянием смутных опасений Паша решила пойти узнать не дома ли отец.
– Я пройду к отцу, – сказала она и вышла из комнаты.
По узкой лестнице она спустилась на первый этаж, где были приёмные комнаты и деловой кабинет. Многочисленные лакеи уже зажигали огни.
Через ряд просторных зал, где Григорий Дмитриевич не раз устраивал волшебные празднества в честь юного императора, через огромную столовую Паша прошла к кабинету отца. У дверей она встретила приближённого лакея князя, Константина.
– Сиятельный князь ещё не вернулись, – почтительно доложил лакей.
– Как вернётся, хоть ночью, сейчас же оповестить меня, – приказала княжна.
Она повернулась и медленно направилась назад.
Она подходила к приёмной зале, как вдруг услышала голос, при звуках которого у неё похолодело сердце и словно отказались служить ноги. Волнение её так было велико, что она опёрлась о косяк двери.
– Так когда же вернётся князь? – спрашивал молодой громкий голос Дивинского.
– Неизвестно, Фёдор Никитич, – ответил старческий голос дворецкого Тихона.
– Ну, так я подожду, – отозвался Дивинский.
– Притомились, батюшка, – говорил Тихон. – Не выкушаете ли винца с устатку?
– Вот это дело, старик! – весело ответил Дивинский. – И устал я очень, да и есть охота.
– Сейчас, сейчас, батюшка Фёдор Никитич, – послышался голос Тихона.
Вся дворня любила Дивинского за его приветливый, всегда ровный нрав, за его щедрость. Его отец Никита Ефимыч был близким: другом князя Григория Дмитриевича и по жене приходился ему дальним родственником. Последние годы Никита Ефимович был по болезни в абшиде[40]40
…Никита Ефимович был по болезни в абшиде. – Абшид – отставка, отпуск.
[Закрыть]. Он умер в чине генерал-поручика в своём родовом имении близ Тулы в начале царствования Петра II, оставив своему сыну большое состояние; своей матери Фёдор Никитич не помнил. Умирая, Никита Ефимыч поручил своего сына заботам князя Юсупова. И тогда же Григорий Дмитриевич обласкал сироту, бывшего уже поручиком гвардии, и при переезде двора в Москву взял его с собой в качестве адъютанта.
В Петербурге юный Дивинский, ведя праздную и рассеянную жизнь, сравнительно редко бывал в доме Юсупова, но с переездом в Москву отношения стали теснее, и Фёдор Никитич стал уже вполне своим у князя. Своим считал его князь, своим считали его дворовые и слуги князя, и сам он чувствовал себя в доме князя как у себя.
Красота Прасковьи Григорьевны не могла не произвести на него впечатления, а постоянная близость во время непрерывных празднеств при Петре II обратила это впечатление в более глубокое чувство.
Паша услышала тяжёлые, шаркающие шаги Тихона, спешившего распорядиться. Шаги затихли. Дивинский остался, видимо, один.
Паша уже овладела собой. Она смело раскрыла дверь и вошла в залу. На большом мягком кресле, вытянув ноги в грязных ботфортах с раструбами, сидел Дивинский. Шляпа валялась вместе с крагами на ковре. Голова Дивинского опущена на грудь. Очевидно, он очень устал, и им сразу овладела дремота… Он был без парика, который ввёл в форму офицеров покойный император. Короткие, тёмно-русые кудри были встрёпаны. Глаза закрыты.
Княжна на цыпочках, затаив дыхание, подошла к нему. Но привычка бодрствовать и во сне, приобретённая за последние тревожные дни, сказалась. Как ни были легки её шаги, Дивинский раскрыл глаза, поднял голову и мгновенно вскочил на ноги.
С улыбкой, сияющими глазами глядела на него княжна.
– Княжна! Прасковья Григорьевна! – радостно воскликнул Дивинский, и яркая краска залила его лицо.
Он сделал шаг вперёд, но тотчас смущённо остановился, опустив глаза на свои грязные сапоги. Его камзол также был не особенно чист. Сразу было видно, что он приехал сюда прямо с трудной дороги.
Несколько мгновений они, смущённые, молча стояли друг перед другом. Как всегда бывает в таких случаях, женщина скорее овладела собою.
– Здравствуйте, Фёдор Никитич, – почти спокойно произнесла она, протягивая ему руку.
Но рука её была холодна и дрожала. Дивинский почтительно ж робко едва прикоснулся к ней.
– Ну, как… вы здоровы? Слава Богу!.. – говорила Паша, не спуская с него глаз.
Мало-помалу и Дивинский овладел собою. Он поднял голову.
– Я прямо с дороги, мне надо видеть Григория Дмитриевича, – начал он. – Я не ожидал увидеть вас сегодня. Простите за мой вид.
И он опять взглянул на свои сапоги.
– Я всегда рада вам, – тихо ответила Паша, и её голос слегка дрогнул. – Слава Богу, что вы вернулись, – ещё тише добавила она. – Я так ждала вас! Но садитесь же, вы устали.
– Так вы ждали меня? – повторил Дивинский, приближаясь к ней и осторожно беря её за руку.
– Я ждала вас, – тяжело дыша, ответила Паша, не отнимая руки.
– А я, – шёпотом произнёс Фёдор Никитич, – я только о вас и думал… Только и ждал встречи с вами… Я ни на минуту не забывал о вас. И в мечтах о своей судьбе я всегда видел вас рядом с собой…
Он крепче сжимал руку княжны и ближе подвигался к ней. Он чувствовал на своём лице жар её пылающего лица.
– Давно, давно, не знаю когда, мне кажется, всегда, только о вас и думал, мечтал, надеялся, любил…
Последнее слово вырвалось у него, и словно порвалась какая‑то узда, удерживавшая его. Магическое слово сразу сделало близким и доступным то, о чём он мечтал бессонными ночами, что казалось ему так бесконечно далёким.
И это слово сладкой болью отозвалось в страстном сердце внучки Абдул – мирзы, чья огненная кровь кипела в её жилах.
С тихим, блаженно – страдальческим вздохом Паша вся подалась вперёд и судорожно крепко обняла Фёдора Никитича.
– Федя, милый!..
Шум шагов нарушил очарованье. Тихон в сопровождении двух лакеев входил в залу. Лакеи несли за ним подносы с вином и закуской. Увидя княжну, Тихон заметно удивился.
– Тихон, – весело воскликнула княжна. – Отчего один прибор? Я тоже голодна!
– Княжна, голубушка, я мигом, – отвечал старик. – Разве знал я!..
– Ну, ладно, ладно, – прервала его княжна, – Вели дать скорее прибор и бокал.
Пока лакеи устанавливали на столиках блюда и бутылки, Тихон сам поспешил за прибором для своей княжны.
Дивинский счастливыми глазами глядел на Пашу.
Тихон принёс прибор и бокал и по знаку княжны удалился. Дивинский остался наедине с Пашей. Она сама налила ему вина и пригубила его. Они ели с одной тарелки, смеялись, о чём‑то говорили и забыли обо всём в мире. Чем‑то далёким казались Дивинскому и его поездка, и Анна, и те важные вести, с которыми он так спешил к Григорию Дмитриевичу. Всё это было для него сейчас не важно. Важно было для него только его собственное чувство, первый поцелуй, эти минуты наедине, это дорогое лицо, эти глаза, волосы, тонкие руки… Не было ни прошлого, ни будущего.
Бесконечной нежностью светилось это дорогое лицо, на которое он не мог налюбоваться. Это были минуты, когда раскрылись их сердца, и вольные, счастливые, томные слова текли, как ручей. Они говорили, и им всё казалось, что осталось сказать бесконечно много и что никогда они не выскажут всей души…
Сколько прошло времени… Час, два – никто из них не мог бы сказать. – Удивлённый князь остановился на пороге, поражённый необычайной картиной. За маленьким столиком рядом с Дивинским сидела весёлая и оживлённая Паша, перед ней стоял бокал вина, Дивинский что‑то с жаром говорил.
– Ай да дочь! – воскликнул весело Григорий Дмитриевич. – А ты, Федька, с луны, что ли, свалился?
При звуке голоса князя Фёдор Никитич так стремительно вскочил с места, что чуть не опрокинул столик. Паша тоже встала, открытым взором глядя на отца.
– Князь Григорий Дмитриевич! – взволнованно произнёс Дивинский. – Я привёз важные вести!..
– Батюшка! – воскликнула Паша, бросаясь к отцу и крепко обнимая его.
– Ах ты! – произнёс князь, целуя дочь. – Оставь, потом, потом, – добавил он, ласково отстраняя её. – Вижу уж, знаю… Ну, иди к себе, а мы с Фёдором Никитичем посчитаемся. А тебе ужо попадёт…
– Отец, он всё скажет, – тихо и серьёзно произнесла Паша.
– Ладно, ладно, ступай, – сказал князь.
Паша радостно улыбнулась Дивинскому и вышла из залы.
– Ну, что, говори, – нетерпеливо начал Юсупов. – Это потом… – и он махнул рукой вслед ушедшей дочери.
Он подошёл к столу и один за другим выпил два бокала вина. Казалось, его нисколько не удивила такая близость его дочери к Фёдору Никитичу.
– Когда ты приехал? – спросил он.
– Мы приехали сегодня днём, – смущённо ответил Дивинский.
– Кто?
– Я, генерал Михаил Иваныч, да Сумарокова привезли.