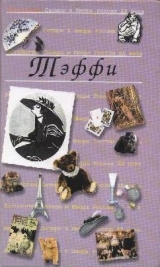
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Надежда Тэффи
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Учительница
Я видела ее давно, лет десять назад, и, вероятно, никогда бы о ней не вспомнила – уж очень мало в нашей городской обстановке такого, что могло бы о ней напомнить.
Итак, видела я ее давно, лет десять назад, в захолустном уездном городке, на вечере у земского врача.
Вернее сказать, не на вечере, а просто вечером, потому что гостей врач не звал, да и не мог звать, так как вся обстановка его парадной комнаты заключалась в большом столе, под которым сидели трое детей.
– Там детям веселее, а нашим ногам теплее, – говорил врач.
В соответствующее время – часов около восьми вечера – дети с громким ревом убирались из-под стола в детскую, вокруг стола ставились табуретки, а на стол – самовар, накромсанная огромными кусками булка и сахар в лавочном мешке.
Пили чай и разговаривали, а так как в природе в это время был вечер, то, следовательно, был он и в квартире доктора.
Кроме хозяев и меня сидели еще двое: городской учитель Пенкин и сельская учительница Лизанька Бабина.
Учитель Пенкин был замкнутый, неразговорчивый, точно заспанный, человек. Кроме служебных занятий предавался он еще, и очень деятельно, сборам к давно задуманной поездке в Париж. На что был нужен Пенкину Париж – до сих пор понять не могу, хотя думаю об этом с тех пор десять лет.
Готовился он к этому путешествию очень своеобразно: он зубрил французский словарь Макарова. Прямо все слова подряд.
– Ну-ка, Василий Петрович, – говорили ему, – много ли назубрили?
– Уже до буквы «п» дошел, – сонно, но честно отвечал Пенкин. – «Пегас. Пего. Пегуз. Пень…»
– Пень? Да это как будто по-русски.
– Нет, то другое «пень», французское.
– А что же это значит-то?
– А значение слов я потом буду заучивать, когда докончу весь словарь. Теперь немного осталось. Уже до «п» дошел. А там накоплю денег, да и марш. Прямо в Париж.
Произносил Пенкин французские слова так смачно по-русски, что самое обыкновенное слово мгновенно теряло свое французское значение и приобретало новое, игриво-загадочное.
Тут познакомилась я и с учительницей Лизанькой Бабиной.
Бабина окончила одну из петербургских гимназий и даже пробыла год на педагогических курсах. Потом взяла место земской учительницы и просвещала молодежь в восьмидесяти верстах от города, в деревушке Кукозере, куда в продолжение трех четвертей года ни проезду, ни проходу не было.
Зимой с шиком ездили в розвальнях. Осенью и весной совсем не ездили, а летом учительница приезжала в город на смычке.
Услышав это, я по наивности подумала, что на смычке от скрипки, и никак не могла понять, что за странный способ передвижения. Уж тогда бы удобнее было сесть верхом на саму скрипку.
Потом объяснили мне, что смычком называется следующее сооружение: к лошади прикрепляются длинные оглобли, концы которых связаны и приблизительно на аршин от земли соединены перекладиной. На эту перекладину садится учительница Лизанька и скачет по кочкам «чрез пень, чрез колоду, чрез высоку изгороду». Где колесу не пройти, там проскачут только ведьма на помеле да учительница Лизанька на смычке.
Смычок о гнилые пни стукается, поддает, пружинит, подбрасывает. Лизанька подтянет потуже старый ременный кушак, «чтоб не все внутри переболталось», и скачет.
Скачет она в город только по одному делу – за жалованьем. Жалованье полагается получать раз в месяц, но ездить за ним приходится раза два, потому что денег в земстве нет. Но в земстве есть потребительская лавочка.
– Вы бы, Бабина, взяли жалованье сахаром, – предлагают ей. – У нас сахару много.
– Да что мне с вашим сахаром делать-то? Я говядины хочу.
– Говядины у нас, извините, про вас не припасено. А сахар, непрактичная вы девица, мужикам продать можно.
– Мужика-ам? Са-ахар? Да у нас в Кукозере мужики и соль-то только во сне видят.
Садится на смычок, подтягивает кушак потуже и скачет домой «чрез пень, чрез колоду, чрез высоку изгороду».
Иногда в городе зайдет к доктору. Подивуется на роскошь городской жизни, на накромсанную булку, на троих детей под столом. Но больше молчит, потому что доктор и докторша – люди, следящие за жизнью, все знают, читают журна-алы! А Лизанька одичала.
Слушает учителя Пенкина, который дошел до буквы «п» и не сегодня-завтра накопит денег – и айда в Париж. Слушает и вспоминает, как сама года три тому назад собиралась в Швейцарию. Даже сшила себе по совету людей опытных ситцевые шаровары, чтобы удобнее было ходить по горам. Шаровары она сносила, надевая для поездок на смычке. Мечту о загранице почти сносила тоже, так как она стала ветхая и прозрачная, и шевелит ее Лизанька только в городе, в гостях у доктора.
Сидит Лизанька, пьет чай. Желтая, отекшая какая-то, руки красные.
Смотрю на нее.
Говорит с увлечением только о своем деле, веруя в важность своей задачи, в нужность своего подвига. Даже верит, что завтра утром жалованье получит.
Странная она какая-то – глупенькая, что ли.
Но докторша сегодня настроена скептически. Она только что прочла в журнале необычайно талантливое произведение какого-то нового эстета. Теперь ведь и в журналах стали печатать новых эстетов.
Докторша набила в рот булки и заговорила о красоте:
– Н-да, Лизанькина жизнь безобразная, и человек даже не имеет права уродовать сознательно свою жизнь. Этим она уродует и природу, следовательно, идет против Бога, ну да, конечно, Бога в смысле эстетическом… Что? А? Да вот прочтите сами в последней книжке…
Лизанька протестует. Она невежда.
– И это говорите вы! – возмущается докторша. – Вы! Бывшая курсистка! Как вам не стыдно? Ведь ваша жизнь унизительна. Последний мужик вашей последней деревушки живет лучше, чем вы, уже потому, что у него есть к этой собачей жизни привычка, а вы – курсистка, барышня.
Лизанька вдруг вскочила. Желтое лицо вспыхнуло, и глаза загорелись:
– Нет, я так думаю и буду так думать. И труд мой нужен, и жизнь моя красива, и подвиг мой свят.
Потом она вдруг побледнела, словно устала, и прибавила тихо-тихо:
– А если я хоть на одну минуту перестану так думать, то ведь я не смогу дожить до завтрашнего утра.
Летом
Памяти Антоши Чехонте
Русский человек любит критиковать и мрачно философствовать.
Иностранец, тот, ежели не в духе, придерется к жене, выразит неудовольствие современными модами, ругнет порядки и в крайнем случае, если очень уж печень разыграется, осудит правительство, и то не очень пространно, а вскользь, не забирая глубоко, между двумя аперитивами и вполне в пределах благоразумия.
Русский человек не то. Русский человек даже в самом обычном своем настроении, если выдалась ему минутка свободная, особенно после принятия пищи, да подвернулась пара не заткнутых ушей – он и пошел. И сюжеты выбирает самые неуютные: загробную жизнь, мировое благо, вырождение человечества. А то метнет его в буддизм, о котором ни он сам, ни слушатель ничего не знают, и начнет наворачивать. И все мрачно, и все он не одобряет и ни во что не верит.
Послушаешь – за все мироздание совестно станет, так все неладно скроено.
И все это, так я думаю, происходит оттого, что очень любят русские люди не любить. Очень им блаженно и сладко – не любить. Иной и добрый человек, и мягкий, а скучно ему в его доброте и мягкости, и только и есть ему радости, когда можно невзлюбить кого-нибудь – тут он расцветет, расправится и отойдет от нудности жития.
* * *
Это – вилла в окрестностях Парижа, занятая русским пансиончиком.
Конечно, вилла, но была она «виллой в окрестностях Парижа» только до прошлого года, пока не оборудовала ее под пансион мадам Яроменко. С тех пор она стала не виллой, а дачей в окрестностях Тамбова. Потому что в каком жардене какой виллы услышите вы звонкие слова:
– Манька, где крынка? А-а? Под кадушкой?
Или приглушенный осуждающий басок:
– Каждый день котлеты, это уж чересчур. Ну сделай для разнообразия хоть сырники, что ли. За двадцать два франка можно требовать более внимания к столу.
* * *
После завтрака на маленькой терраске душно. Из кухонного окна доносится последнее замирание теплого лукового духа.
Гулять по дороге – жарко. Идти в лесок – лень. Сидеть на душной террасе – значит сознательно располагать себя к мрачной философии и пересмотру мировых задач. Но что поделаешь.
Саблуков сидит под кадкой с лавром. Напротив него, под другой кадкой с другим лавром, сидит Петрусов. Оба долго слушают, как за закрытой ставней второго этажа ревет переписчицын ребенок.
– Счастливая пора! – говорит Петрусов и вздыхает.
– Это какая же? – иронически спрашивает Саблуков.
– Детство, миленький мой, детство. Неповторимое и невозвратное.
Саблуков фыркнул:
– Это детство-то счастливое? Очевидно, вас Володькин рев навел на эти сладкие мысли. Такой счастливец, два часа ревет, точно с него шкуру дерут.
– Ну знаете, горе этого возраста. Спать его укладывают, вот он и плачет.
– Да не все ли равно, от чего именно человек в отчаяние пришел. Кинулся бы на вас какой-нибудь верзила и насильно бы завалил – очень бы вы обрадовались? Нет, милый мой, скажу я вам, самая окаянная полоса жизни – это хваленое детство. Подзатыльники, тычки, щелчки, этого нельзя, того нельзя, ешь всякую дрянь, что получше – то вредно, говорить не смей, ногами не болтай, не кричи, не стучи. Каторга! И как они только все вниз головой да в воду не прыгают, удивляться надо.
– А ласка, а любовь, которыми они окружены? Ведь это потом всю жизнь вспоминаешь, – вставил Петрусов и снова вздохнул.
– Это что его по лицу грязными лапами треплют да маслят поцелуями кто ни попало? Вас бы так помяли, были бы вы довольны? Какая-нибудь старая бабка на вас бы беззубым ртом «тпрунюшка-тютюнюшка». Брр… жуть берет. А подрастут – учиться изволь. И какой только белиберды в них не заколачивают.
Чу, попалась птичка, стой!
Не уйдешь из сети.
Ну какому, скажите честно, положа руку на сердце, – какому нормальному человеку пригодится в жизни такая «птичка, стой»? Ну кому это нужно? А то еще какой-то господин изложил стихами, как птенцы вылупились и улетели, – и чего их все так на птиц тянет? Помните, наверное, и вы зубрили:
И целый-то день щебетуньи,
Как дети, вели разговор.
Далеко, далеко, далеко!
Черт знает, что такое! Прямо срам! И кончается форменной ерундой:
Далеко, далеко, далеко!
О, если бы крылья и мне…
Почему вдруг крылья нормальному человеку? Нормальный человек, если хочет куда-нибудь съездить, покупает билет законным порядком. А тут – все время ничего не делает, у окошка торчит, «щепетуньи-лепетуньи», а как платить за билет – подавай ему крылья. Распущенность и бесстыдство!
– Ну, знаете, так тоже нельзя, – остановил его Петрусов. – Вы так совсем поэзию отрицаете. Стихи – вещь хорошая, особенно для молодежи. И в поэзии всегда поэт этак как-нибудь мечтает. Помните?
Дайте мне чертог высокий
И кругом зеленый сад.
– Как не помнить, ха-ха! – мрачно засмеялся Саблуков.
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград.
Отлично помню. Чтобы виноград зрел в тени. Ловко выдумал! Почему не как у людей, не на солнце? Нет, раз он поэт, так подавай ему все особенное. Ну остальное понятно: и девицу, и собственных лошадей, и мраморные залы – кто от этого откажется? Но заключение, самый финал очень странный. Поэт выражает желание проскакать разок по полю и что ему не надо счастья. Позвольте: дом есть – раз. Поле есть – два. Сад есть, с виноградником, но в тени – три. Девица с лошадью – четыре. Чего же ему еще? От какого же он счастья отказывается?
Ничего не понять, а ребенок зубри. А не знаешь, как этот франт хотел скакать, – не получишь аттестата зрелости.
Саблуков сердито помолчал и заговорил снова:
– И ведь не только отечественные стихи зубрили, нам и иностранные вдалбливали. Помните «Лесного царя»? Какая возмутительная штука! Я еще мальчишкой был, думал – что-то, мол, тут какое-то неладное! Подумайте сами: едет папаша на коне и везет сына под хладною мглой. Ладно. Под мглой, так под мглой – его дело. И вот за ними мчится старый черт – лесной царь. Бородища по ветру, брови седые. Пусть.
И что же он, этот самый старый леший, говорит? Что он делает? Прельщает мальчишку.
Дитя, я пленился твоей красотой, —
Неволей иль волей, а будешь ты мой.
Ну скажите откровенно, положа руку на сердце, – это нормально? Это прилично? Ну я понимаю, там, в сказках Мороз Красный Нос влюбился в девицу-красавицу – так ведь не в мальчишку же! А этот бородатый дядя, изволите ли видеть, «неволей иль волей, а будешь ты мой». А дети должны это учить наизусть. И глупо же до чего, послушайте только:
Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, перлы и радость сулит.
Это мальчишке – перлы! Ну на что мальчишке перлы! Ну, положа руку на сердце, ведь глупо! Мальчишке сулить надо коньки, велосипед, булку с колбасой. Вот что мальчишке сулить надо. А то вдруг «перлы»! Выдумают тоже.
– Это перевод, – сказал Петрусов. – В подлиннике, кажется, не так. В подлиннике что-то насчет его муттер, что у нее золотое платье.
– Еще того пуще! Ну какое дело мальчишке, какие у старой ведьмы туалеты? Сам-то лесной царь – дядя не молоденький, а мамаше, наверное, лет под сто. Тьфу! По-э-тическая фантазия! Ты мне красоту покажи, а не то что! Сулит мальчишке старую лешачиху. А папенька скачет и ничего не слышит.
– Это намек, что родители всегда обо всем узнают последние и не знают, что у них за спиной делается.
Саблуков нахмурил брови и понизил голос:
– Нет, миленький мой, здесь похуже. Здесь хотели дискредитировать идею. Какую? Идею царя. Вот, мол, какими делами цари занимаются. Живут в перлах и безобразничают. Большевизм, дорогой мой. Большевистская пропаганда. А вся эта «хладная мгла», которая мчится! Это все соус, чтобы не сразу в глаза бросалось. Большевизм, друг мой!
– Эка куда хватили! – недоверчиво сказал Петрусов.
– Да, да, да! Нечего «эка». Тут уж не «эка». И все у нас так. Помню, актрисы на концертах декламировали:
И день и ночь ее воспоминанье гложет,
Как злой палач, как милый властелин.
Я еще тогда обратил внимание. «Позвольте, – говорю распорядителям, – какой же это милый властелин, который гложет»? Это, говорят, у Апухтина, а мы ни при чем. Ни при чем! Не надо допускать. А вы тоже скажете – «эка»! Вот и погубили Россию. И радуйтесь.
– Ну это, вы знаете, уж…
– Ничего не знаю и знать не хочу, – оборвал Саблуков. – И вообще на эти темы с вами говорить не желаю. У меня еще есть идеалы в душе.
Саблуков встал.
Гулять по дороге – жарко. Идти в лесок – лень. Он снова опустился на место. Посопел и сказал мрачно:
– А не думаете ли вы, положа руку на сердце, что вся Европа летит к черту?
«Началось!» – подумал Петрусов. Но гулять по дороге было жарко, а идти в лесок было лень, поэтому он вздохнул и ответил кротко:
– Разве?
И закрыл глаза.
Явдоха
А. Д. Нюренбергу
В воскресенье Трифон, мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо:
– От сына з вармии.
Старуха, тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала:
– А може, и не мне?
– Почтарь сказал – Явдохе Лесниковой. Бери. От сына з вармии.
Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями:
– А ты почитай, може, и не мне.
Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его:
– Та ж я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут.
Так и уехал.
Явдоха постояла еще около хатки, поморгала.
Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами-осколышками. А старуха длинная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину – не оставаться же на улице.
Поморгала Явдоха, влезла в хатку и заткнула письмо за черный образ.
Потом пошла к кабану.
Кабан жил в дырявой пуньке, прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку.
И думала любовно:
«Чешись, чешись! Вот слопают тебя на Божье порожденье, так уж тогда не почешешься».
И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщовую рукавицу и жала старым, истонченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге.
Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее, налаженное хозяйство и все, слава богу, как следует.
Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал «з вармии». Значит, забрали, значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлет. Значит, хлеба не будет.
Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала;
– Сын у меня, Панас. Прислал письмо з вармии.
После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами.
Встала старуха, посмотрела в щелку – идут солдаты, много-много, серые, тихие, молчат. «Куда? что? чего молчат? чего тихие?..»
Жутко стало. Легла, с головой покрылась, а как солнце встало, собралась в село.
Вышла, длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога, липкая, вязкая, была словно ступой истолочена, и трава придорожная к земле прибита.
«Подыптали кабанову крапивку. Усе подыптали!»
Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст.
На селе праздник был: плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, Хроменкова сына. Сам Никанор на войну шел, а старикам Хроменкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганке венок.
В хате у Ганки душно. Пахнет кислым хлебом и кислой овчиной.
Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню.
Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбита, смята в тесной хате, гудит, бьется о малюсенькие, заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. А столпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует.
– Гой! Гэй! Го-о-о! Гой! Гай! Го-о-о!
Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит будто «гой-гэй-го-о-о!». Уж очень гудят.
Потискалась Явдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее.
– У меня сын, Панас, – сказала Явдоха. – Сын письмо прислал з вармии.
Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала: уж очень девки гудели.
Явдоха стала ждать. Примостилась в уголочке.
Вдруг девки замолчали – сразу, точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка, и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, на средину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпяченными животами, в прямых, не суживающихся к талии корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза.
Раздвинув толпу, вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который и рад бы встать, да не может.
Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все:
– Бабка Сахфея, поскачи! Бабка Сахфея, поскачи! Небольшая старушонка в теплом платке, повязанном чалмой, сердито отмахивалась, трясла головой – ни за что не пойдет.
– И чего они к старой лезут? – удивлялись те, что не знали.
А те, что знали, кричали:
– Бабка Сахфея, поскачи!
И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, повернулась к образу:
– Ну ладно. Дайте у иконы попрощаться.
Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза:
– Прости меня, Боже, прости меня, Боже, прости меня, Боже!
Повернулась, усмехнулась:
– Замолила грех.
Да и было что замаливать! Как подбоченилась, как подмигнула, как головой вздернула – и-их!
Выскочил долговязый парень, закренделял лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит. На Сахфею смотрят. Вот сейчас и не пляшет она, а только стоит, ждет своей череды, ждет, пока парень до нее допрыгнет. Пляшет-то, значит, парень, а она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо, только на нее. А вот дошел черед – повернулась, взметнулась и пошла – и-их!
Знала старуха, что делала, как перед иконой «прощалась». Уж за такой грех строго на том свете спросится.
А Явдоха сидела, в уголку затиснутая, ничего ей видно не было, да и не нужно видеть, чего там!
Отдохнула, пробралась в сенцы.
В сенцах стоял жених Никанор и дразнил щепкой собаку.
– Никанор! Ты, може, грамотный? От мне сын Панас з вармии письмо прислал.
Жених помялся немного – не хотелось прерывать интересное дело. Помялся, бросил щепку, взял старухино письмо. Надорвал уголок, заглянул глазом, потом осторожно засунул палец и разорвал конверт.
– Это действительно письмо. Слушай, что ли: «Тетеньке Явдокии низко кланяюсь и от Господа здоровья. Мы все идем походом, все идем, очень устали. Но не очень. Сын ваш Апанасий приказал долго жить. Может быть, он ранен, но ты не надейся, потому что он приказал долго жить. Известный вам Филипп Мельников». Все.
– Пилип? – переспросила старуха.
– Пилип.
Потом подумала и опять спросила:
– Ранен-то кто? Пилип?
– А кто его знает. Может, и Пилип. Где там разберешь. Народу много набили. Война.
– Война, – соглашалась старуха. – А може, ты еще почитаешь?
– Таперь нема часу. Приходи в воскресенье, опять почитаю.
– Ин приду. Приду в воскресенье.
Спрятала письмо за пазуху, сунула нос в избу.
– Ну чаво? – отстранил ее локтем парень, тот самый, что плясал, как урод-калека. – Чаво?
– От сынка, от Панаса, письмо у меня з вармии. Пилип Мельников чи ранен, чи не ранен. Народу много набили. Война.
А вечером подходила к своей хатке, скользя по расшлепанной дороге, и думала две думы – печальную и спокойную.
Печальная была:
«Подыптали кабанову крапивку».
А спокойная:
«Прислал Панас письмо, пришлет и денег. Пришлет денег, куплю хлеба».
А больше ничего не было.







